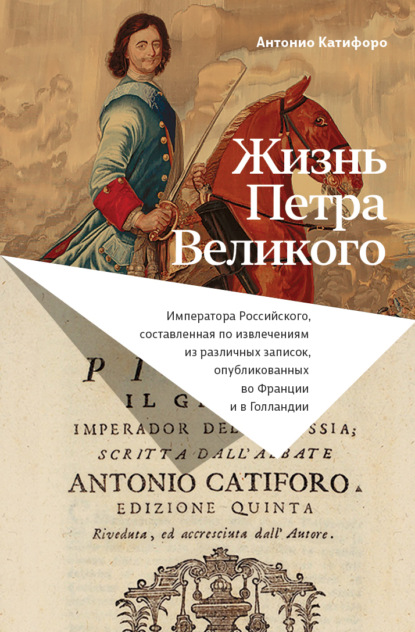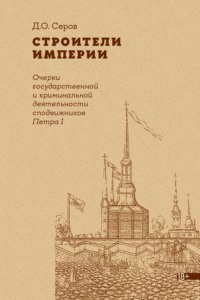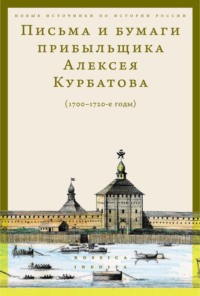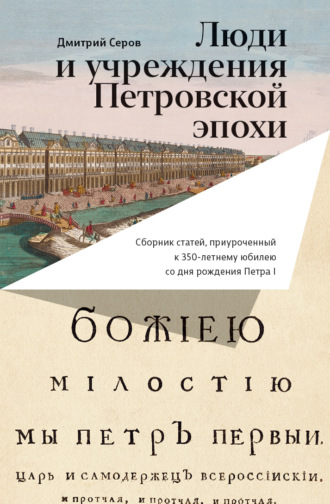
Полная версия
Люди и учреждения Петровской эпохи. Сборник статей, приуроченный к 350-летнему юбилею со дня рождения Петра I
Прокурорские заключения являлись обязательными на трех стадиях тогдашнего французского уголовного процесса. Первый раз прокурор выносил заключение по окончании предварительного розыска (inquisitio generalis), второй раз – после формального допроса обвиняемого и перед заключительной стадией предварительного расследования (reglement à l’ extra ordinaire) и в третий раз – по окончании предварительного расследования (inquisitio specialis), непосредственно перед докладом дела в суде.
Между тем, если обратиться к компетенции прокуратуры России первой четверти XVIII в., то станет очевидным, что ее базисным полномочием был достаточно слабо выраженный в круге ведения ministère public общий надзор за соблюдением законности. В свою очередь, никакими функциями уголовного преследования в момент учреждения российская прокуратура не наделялась. Подобная ситуация вполне объяснима, если коснуться вопроса о том, какой информацией располагал Петр I к началу 1720‐х гг. о французской прокуратуре.
Первым, от кого царь мог услышать о французских прокурорах, был, как представляется, А. А. Матвеев. Вне поля зрения предшествующих авторов остался примечательный документ, опубликованный в 1972 г. «Архив или статейный список московского посольства, бывшаго во Франции <…> в прошлом 1705 году…»96. Между иного в означенном статейном списке оказалось упомянуто и о прокуратуре, в частности о генерал-прокуроре Парижского парламента. В том же разделе статейного списка Андрей Матвеев привел данные и о численности прокурорского корпуса Франции: «Прокураторов состоит число в 400 человек, которыя стряпают… в судах всякаго чину за людей»97.
Разумеется, пространные статейные списки Петр I если и читал, то разве что для ознакомления с оперативной дипломатической информацией. А вот с составителем отмеченного статейного списка А. А. Матвеевым царь нередко соприкасался лично, особенно после его возвращения из‐за границы в 1715 г. В подобном контексте представляется вполне вероятным, что А. А. Матвеев мог рассказать царю о виденных им французских «прокураторах».
Во время пребывания в 1717 г. во Франции Петр I получил возможность наблюдать представителей французской прокуратуры самолично. Н. В. Муравьев ввел в научный оборот сведения французского источника о состоявшемся 19 июля 1717 г. посещении Петром I заседания Большой палаты Парижского парламента. В ходе этого заседания царь выслушал речь замещавшего генерал-прокурора генерал-адвоката Г. Ламуаньона (Guillaume de Lamoignon), выступившего с кратким заключением по существу рассматривавшегося дела98.
Последние сведения о французской прокуратуре Петру I предоставил в 1721 г. контролер Адмиралтейской коллегии К. Н. Зотов, тесно соприкасавшийся тогда с царем в связи с разработкой Регламента Адмиралтейской коллегии. Младший сын влиятельного Н. М. Зотова, Конон Зотов длительно обучался морскому делу в Англии, Голландии, а с 1715 по 1719 г. во Франции. Получивший представления не только о навигации, но и о государственном устройстве западноевропейских стран Конон Никитич передал в мае 1721 г. Петру I подготовленный им проект, озаглавленный «Копия с письма к брату моему о генерал-ревизоре, что ныне во Франции называется генерал-прокурор, с отметками и с примерами нынешнего состояния в Великороссии».
Означенный проект был введен в научный оборот Н. П. Павловым-Сильванским и впервые опубликован в 1897 г.99 В проекте Конона Зотова содержалось несколько сумбурно, но подробно изложенное предложение о создании в России должности «всенародного надзирателя или государственного стряпчего». Не углубляясь на этих страницах в характеристику данного проекта (уже не раз подробно рассматривавшегося в литературе100), следует отметить, что полномочия замышлявшегося К. Н. Зотовым «государственного стряпчего» фрагментарно напоминали компетенцию генерал-прокурора Парижского парламента (procureur général du Parlement de Paris). Именно проект К. Н. Зотова послужил основой для выработки первой редакции закона «Должность генерала-прокурора», утвержденной 27 января 1722 г.101
Не вызывает сомнений, что ни сам Петр I, ни А. А. Матвеев, ни К. Н. Зотов заведомо не могли уяснить для себя процессуальные полномочия французской прокуратуры, что требовало специальной юридической подготовки. По этой причине принципиально важная для ministère public функция уголовного преследования объективно не могла быть принята во внимание Петром I – что, в свою очередь, обусловило наделение российской прокуратуры в момент основания вполне оригинальными надзорными полномочиями.
Наиболее же ярким примером использования иноязычного термина для обозначения вполне оригинального российского учреждения следует признать историю с Юстиц-коллегией. Дело в том, что созданная в 1717 г. Юстиц-коллегия не имела не только шведского, но и вообще какого-либо зарубежного образца102 – по причине возложения на нее функции судебного управления, невиданной для государственного аппарата ни одной из стран Европы103. Что касается самого термина «Юстиц-коллегия», то, насколько можно понять, он впервые появился (в написании «Justice-Collegium») в записке Г.‐В. Лейбница, представленной Петру I в 1711 г.104
Остается сказать несколько слов о персональном аспекте сценариев перенесения иностранных правовых институтов на российскую почву в первой четверти XVIII в. Исходя из имеющихся сведений, представляется возможным констатировать, что решающую роль в процессе такового перенесения сыграли немецкоязычные выходцы из новоприсоединенных к России балтийских провинций. С одной стороны, в среде тогдашнего балтийского дворянства и бюргерства было принято получать образование (в том числе юридическое) в германских и шведских университетах105. С другой – немало перешедших в 1700‐х – начале 1710‐х гг. в российское подданство балтийцев успели не один год либо прослужить в шведской армии, либо проработать в шведских судебных и административных органах. Все это привело к тому, что в этой среде было несложно найти лиц, как имевших высокий образовательный уровень, так и хорошо знавших шведские административные и судебные процедуры.
Прежде всего, здесь необходимо вспомнить о таких фигурах, как Герман Бреверн (Hermann von Brevern), Магнус Нирот (Magnus Wilhelm von Nieroth), Сигизмунд Вольф (Sigismund Adam Wolf) и Эрнст Кромпейн (Ernst Friedrich Krompein). Уроженец г. Риги Герман Бреверн, получив в качестве базового философское образование в университете Альтдорфа, изучал затем два года юриспруденцию в Лейпцигском университете. Впоследствии, с 1693 по 1717 г., Г. Г. Бреверн состоял на различных судебных должностях в Риге (с перерывом на пребывание в 1708–1710 гг. на посту вице-губернатора шведской Лифляндии)106. С должности вице-президента Рижского гофгерихта, указом Петра I от 15 декабря 1717 г., Герман Бреверн был определен вице-президентом новоучрежденной Юстиц-коллегии107.
Уроженец Эйсенберга, города в Тюрингии, Эрнст Кромпейн до 1689 г. изучал юриспруденцию в университетах Йены и Лейпцига, затем работал адвокатом в Ревеле, а с 1695 г. служил аудитором в шведской армии. Попав в плен (по всей вероятности, при взятии Выборга) и перейдя на русскую службу, Э. Кромпейн получил в российской армии должность обер-аудитора, а с марта 1716 г. состоял в должности «камисара фисцы» (commisarius fisci) в Эстляндской губернской канцелярии. Сенатским указом от 26 сентября 1720 г. Эрнст Кромпейн был назначен асессором Юстиц-коллегии108. Уроженец г. Нарвы Сигизмунд Вольф служил судьей в Дерптском ландгерихте (Dorpat Landgericht), с 1718 г. занимался переводами шведских нормативных актов в канцелярии Сената, а сенатским указом от 5 февраля 1719 г. был определен советником Юстиц-коллегии109.
Магнус Нирот был полковником шведской армии, затем ландратом в Ревеле, а указом Петра I от 15 декабря 1717 г. был определен вице-президентом Камер-коллегии110. Судя по тому, что в 1720 г. М. Нирот основал в своем эстляндском имении училище для «шляхетных и нешляхетных учеников»111, он являлся образованным человеком и поборником просвещения.
Все упомянутые лица являлись членами Уложенной комиссии 1720 г., принимали самое активное участие в подготовке проекта Уложения 1723–1726 гг. Показательно, что, как явствует из журнала заседаний Уложенной комиссии, одновременный отъезд из Санкт-Петербурга Г. Бреверна и М. Нирота привел к приостановке заседаний комиссии на период с 3 марта по 26 апреля 1721 г.112 Наиболее же значительную роль в заимствовании иностранных правовых образцов из числа названных лиц сыграл Эрнст Кромпейн.
Сегодня можно признать установленным, что именно бывший шведский адвокат и бывший аудитор Эрнст Кромпейн явился составителем проектов как «Краткого изображения процесов или судебных тяжеб…», так и Артикула воинского113. Учитывая, что при составлении проекта Уложения 1723–1726 гг. Э. Кромпейн внес решающий вклад в разработку книги 2‐й («О процесе в криминалных или розыскных или пыточных делах»), его вклад в развитие российского законодательства и российской юриспруденции XVIII в. трудно переоценить.
О чем хотелось бы сказать в заключение? Историческая судьба рассмотренных выше законодательных актов, проекта Уложения и государственных институтов сложилась по-разному. «Краткое изображение процесов…» и Артикул воинский сохраняли юридическую силу до 1810–1830‐х гг.: для военного времени до издания в составе «Учреждений для управления Большой действующей армией» от 27 января 1812 г. Устава полевого судопроизводства и Полевого уголовного уложения114, а для мирного времени – до утверждения Военно-уголовного устава 1839 г. Грандиозный проект Уложения 1723–1726 гг., так и не будучи завершен, остался исключительно памятником юридической мысли России первой трети XVIII в. Основанная в большей мере по оригинальному замыслу Петра I российская прокуратура существует и сегодня, сохраняя в качестве одной из ключевых функцию общего надзора за соблюдением законности.
«У СОЧИНЕНИЯ УЛОЖЕНЬЯ РОСИЙСКОГО С ШВЕЦКИМ БЫТЬ…»
Уложенная комиссия 1720 г. и ее труды 115
История систематизации отечественного законодательства (прежде всего в форме кодификации) является в настоящее время одним из перспективных направлений историко-правовых исследований. В свою очередь, в истории кодификации XVIII в. особое место принадлежит проекту Уложения Российского государства 1723–1726 гг., подготовленному Уложенной комиссией 1720 г. Исходя из сведений, приводимых в литературе, отмеченный проект следует признать как наиболее значительным по объему, так и наиболее завершенным из числа законопроектов, выработанных уложенными комиссиями XVIII в.
Уложенная комиссия 1720 г. не раз привлекала внимание ученых авторов. Первым к истории означенной комиссии обратился М. М. Сперанский, упомянувший о ней в хрестоматийно известном «Обозрении исторических сведений о Своде законов»116. Однако подлинным первооткрывателем сюжета об Уложенной комиссии 1720 г. следует признать петербургского правоведа В. Н. Латкина, который посвятил Комиссии особый раздел докторской диссертации по государственному праву «Законодательные комиссии в России в XVIII ст.», защищенной в 1887 г. на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета117 и изданной в том же году в виде монографии.
Широко использовав архивные источники, В. Н. Латкин вкратце осветил предысторию создания и внешнюю историю Уложенной комиссии 1720 г. (ее структуру, персональный состав, взаимодействие с Сенатом, динамику проведения заседаний за 1720–1723 гг.), а также законопроектную работу Комиссии (хотя и не предприняв анализа проекта Уложения 1723–1726 гг.)118. В 1888 г. на диссертационную монографию В. Н. Латкина появилась развернутая рецензия А. Н. Зерцалова. Правда, коснувшись раздела об Уложенной комиссии 1720 г., А. Н. Зерцалов ограничился лишь тем, что привел разрозненные дополнительные сведения о предыстории ее создания, а также о деятельности и персональном составе в 1724 г.119
В начале ХХ века Уложенной комиссии 1720 г. уделили некоторое внимание А. Н. Филиппов (в связи с вопросом о законотворческой деятельности Сената в первой четверти XVIII века) и М. С. Померанцев (в связи с вопросом об участии в Комиссии генерал-рекетмейстера В. К. Павлова)120. В советский период наиболее значительные изыскания, посвященные характеризуемой Уложенной комиссии, предпринял ленинградский историк А. Г. Маньков. В первой половине 1970‐х гг. А. Г. Маньков опубликовал три статьи, в которых впервые дал подробную характеристику составленного Комиссией проекта Уложения 1723–1726 гг., а также углубленно рассмотрел отдельные вопросы, связанные с содержанием этого законопроекта121.
В начале XXI в. Уложенной комиссии 1720 г. небольшие разделы посвятили М. В. Бабич в диссертационной монографии 2003 г., а также В. А. Томсинов в специальном учебном пособии 2010 г.122 Кроме того, в разное время деятельность Уложенной комиссии 1720 г. обзорно затронули Г. Ф. Шершеневич и О. А. Омельченко123. Крупнейшим же вкладом в изучение темы об Уложенной комиссии 1720 г. и ее трудах явились работы А. С. Замуруева. Ученик А. Г. Манькова, А. С. Замуруев подготовил ряд статей, посвященных проекту Уложения 1723–1726 гг.124, а также кандидатскую диссертацию «Проект Уложения Российского государства 1723–1726 гг. – памятник отечественной политико-правовой мысли»125, успешно защищенную в январе 1993 г. в Санкт-Петербургском филиале Института российской истории РАН.
Из числа зарубежных авторов существенный вклад в изучение темы внес шведский правовед К. Петерсон. К. Петерсон остановился на вопросе об Уложенной комиссии и подготовленном ею законопроекте в диссертационной монографии 1979 г., а затем в фундаментальной статье 1983 г. «Использование датского и шведского права в законодательной комиссии Петра Великого 1720–1725 гг.», оставшейся, правда, малоизвестной в России126.
Между тем, несмотря на очевидные достижения предшественников, следует констатировать, что организация и деятельность Уложенной комиссии 1720 года оказались к настоящему времени освещены недостаточно целостно и не вполне систематически. Так, не получили надлежащего прояснения вопросы: 1) о кодификационной концепции Петра I; 2) о политико-правовом контексте деятельности кодификаторов; 3) о стадиях законодательного процесса; 4) о взаимодействии Уложенной комиссии и Правительствующего сената в процессе законотворчества. В предшествующей литературе остались вовсе не затронутыми вопросы о степени подготовленности членов Комиссии к законотворческой деятельности и об их персональном вкладе в составление проекта Уложения.
В настоящей статье предпринята попытка осветить историю Уложенной комиссии 1720 года, опираясь в основном на архивный материал. Источниковой основой статьи послужили прежде всего делопроизводственные и законопроектные материалы Уложенной комиссии 1720 года, компактно отложившиеся к настоящему времени в фонде 342 Российского государственного архива древних актов – в первую очередь протоколы заседаний Комиссии за 1720–1724 гг. (Оп. 1. Кн. 9. Ч. 1).
Переходя к вопросу о концепции кодификации, сложившейся у Петра I еще до создания Уложенной комиссии 1720 года, необходимо отметить то обстоятельство, что в середине 1710‐х гг. Петр I пребывал в убеждении, что основой системы отечественного законодательства должен являться единый кодифицированный акт. Показательно, что уже в законе от 20 мая 1714 г. о подтверждении юридической силы Уложения 1649 г. говорилось, что данное Уложение сохраняет силу до тех пор, пока не будет подготовлена его новая редакция («дондеже оное Уложение… изправлено и в народ публиковано будет»)127. А в заключительной части Наказа «майорским» следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 г. Петр I удрученно констатировал, что «…Устава земского полного и порядочного не имеем»128.
К концу 1710‐х гг. концепция создания акта всеобщей кодификации российского законодательства претерпела радикальное изменение. Если ранее предполагалось, что новое Уложение будет создаваться на основе синтеза Уложения 1649 г. и отечественного законодательства второй половины XVII – начала XVIII в., то к моменту учреждения Уложенной комиссии 1720 года законодатель стал исходить совсем из иной политико-правовой установки и, как следствие, из иной кодификационной концепции. В окончательном виде новая кодификационная концепция сложилась у Петра I, по всей очевидности, в 1717 г. Кроме того, вероятно, на стыке 1717 и 1718 гг. царь возложил кодификационные работы на только что основанную Юстиц-коллегию. По крайней мере, в п. 5 доклада Петру I от мая 1718 г. Юстиц-коллегия уже запросила для подготовки нового Уложения дополнительные штатные единицы.
Как явствует из формулировки в отмеченном пункте доклада, кодификационная деятельность Юстиц-коллегии должна была заключаться в «соединении… Росийского уложения, новосостоятелных указов и Швецкого уставу»129. В приведенной формулировке, думается, как раз и нашла отражение новая концепция создания акта всеобщей кодификации российского законодательства. Иными словами, законодатель поставил перед Юстиц-коллегией задачу осуществить синтез норм Уложения 1649 года, текущего российского законодательства и шведского кодекса.
Новая кодификационная концепция сложилась отнюдь не случайно. Не останавливаясь на этих страницах на рассмотрении политико-правовых воззрений Петра I (что было предпринято в рамках иных работ130), следует отметить, что основой этих воззрений стала концепция «полицейского» государства (Polizeistaat), исподволь, но твердо усвоенная царем к середине 1710‐х гг. В свою очередь, в тот же период Петр I принял стратегическое решение о построении в России идеального «полицейского» государства не с «чистого листа», а по какому-либо зарубежному образцу. В итоге к 1717 г. в качестве такового образца царь избрал, как известно, Шведское королевство.
С точки зрения современных взглядов на проблему рецепции права возможно констатировать, что монарх-реформатор принял решение осуществить частичную рецепцию шведских правовых норм и институтов. Соответственно, новая кодификационная концепция, в отличие от прежней, полностью соответствовала только что утвердившейся стратегической установке Петра I на всемерное использование шведского административного и правового опыта131.
К настоящему времени о начале разработки проекта нового Уложения в Юстиц-коллегии известно сравнительно немного. Установлено лишь, что в мае 1718 г. коллегия направила Поместному приказу и Канцелярии земских дел распоряжение о своде глав Уложения 1649 года (использовавшихся названными судебными органами в правоприменительной деятельности) с отечественными законодательными актами второй половины XVII – начала XVIII в. В самой Юстиц-коллегии занялись сведением части Уложения 1649 года со шведским Земским уложением 1608 г. – как в русском переводе оказалось наименовано архаичное Уложение Кристофера 1442 г. (Kristoffers landslag 1442), добытое в Швеции в типографском издании 1608 г.132
Характерно, что против широкого использования Уложения Кристофера 1442 года при подготовке проекта российского Уложения выступил не кто-нибудь, а вице-президент Юстиц-коллегии бывший шведский судья Герман Бреверн (Hermann von Brevern). В составленной по указанию Петра I особой записке о принципах подготовки нового Уложения Г. Бреверн отметил, что шведские законы «в том виде, в каком они содержатся в опубликованном шведском Земском уложении, уже устарели, будучи в значительной мере заимствованы из канонического права и соответствуют времени, давно ушедшему даже в Швеции, и реальности, сильно отличающейся от положения вещей в России…»133. Как бы то ни было, несмотря на возражения Г. Бреверна, работа с Уложением Кристофера 1442 года продолжилась. 18 апреля 1719 г. подготовленные в Юстиц-коллегии законопроектные материалы были затребованы в Правительствующий сенат134.
Стремясь поскорее завершить составление нового Уложения, 9 декабря 1719 г. Петр I издал указ о заслушивании подготовленного Юстиц-коллегией проекта в Сенате. Согласно именному указу от 9 декабря 1719 г., сенаторы обязывались заслушивать представленный им законопроект начиная с 7 января 1720 г., с тем чтобы завершить обсуждение к концу октября 1720 г.135
Очень скоро, однако, выяснилось, что установленные в именном указе от 9 декабря 1719 г. сроки оказались на практике неисполнимыми. Открылось, что разработанный в Юстиц-коллегии законопроект был далек от совершенства, и уже 21 января 1720 г. Сенат отправил его на доработку обратно в коллегию136. Поскольку Юстиц-коллегия не смогла осуществить требуемую доработку в сжатые сроки, Правительствующий сенат принял решение кардинально изменить организацию подготовки проекта нового Уложения.
8 августа 1720 г. был издан сенатский указ, согласно которому для «сочинения Уложенья росийского с шведцким» при Сенате учреждалась особая кодификационная комиссия137. Согласно отмеченному указу, Комиссия должна была состоять из коллегиального присутствия (в составе восьми поименованных лиц) и канцелярии во главе с двумя секретарями, один из которых владел бы немецким языком. В работе присутствия предусматривалось также участие сменного сенатора.
Укомплектовать канцелярию Комиссии предписывалось путем временного откомандирования подьячих и переводчиков из центральных органов власти («колегей и канцелярей»). Подготовленный законопроектный материал Комиссия обязывалась еженедельно представлять для рассмотрения общему собранию Правительствующего сената. Так была создана Уложенная комиссия 1720 года138.
На основании сенатского указа от 8 августа 1720 г. и упомянутых выше нормативных и распорядительных актов 1710‐х гг. представляется возможным реконструировать следующие стадии законодательного процесса, которые должны были сложиться в связи с деятельностью Уложенной комиссии 1720 года: стадия законодательной инициативы, стадия выработки законопроекта (не выделяемая для современного законодательного процесса), стадия обсуждения законопроекта, стадия утверждения и стадия обнародования. В качестве стадии законодательной инициативы в данном случае, думается, следует рассматривать отмеченные выше указания Петра I касательно подготовки нового единого кодифицированного акта и его общего содержания.
Далее наступала стадия выработки законопроекта, которую предстояло всецело осуществить Уложенной комиссии (с участием сменного сенатора). Стадия обсуждения должна была заключаться в рассмотрении подготовленного Комиссией проекта Уложения общим собранием Правительствующего сената. Затем законопроект поступал на утверждение монарху, после чего Уложение подлежало официальному типографскому опубликованию (за которое тогда отвечала сенатская канцелярия).
Рассмотрение внешней истории Уложенной комиссии представляется целесообразным начать с вопроса о динамике ее заседаний. Согласно «протокольной записке» (книге протоколов) Комиссии, ее первое заседание состоялось 31 августа 1720 г., последнее – 16 декабря 1724 г.139 Всего же, как удалось установить по «протокольной записке», на протяжении 1720–1724 гг. состоялось 347 заседаний присутствия Уложенной комиссии 1720 года.
Интенсивность работы Комиссии была в разные годы неодинакова: в 1720 г. – 31 заседание, в 1721 г. – 81, в 1722 г. – 77, в 1723 г. – 93, в 1724 г. – 67. При этом необходимо отметить, что, как явствует из книги протоколов, законопроектная работа велась отнюдь не на всех заседаниях – это зависело от кворума членов присутствия (каковой, не будучи нормативно регламентирован, составлял, насколько можно понять, три-четыре человека). Более всего заседаний было фактически отменено в 1724 г. – 32 (47,7% от общего числа проведенных в этом году) и в 1721 г. – 16 (19,7%)140. Всего за 1720–1724 гг. обсуждение проекта Уложения не проводилось на 65 заседаниях Комиссии (18,7% от общего числа заседаний).
Наиболее значительные перерывы образовались в деятельности Уложенной комиссии из‐за последовавшего в 1722 г. ее переезда, вслед за Сенатом, из Санкт-Петербурга в Москву, а в 1723 г. – обратно в Санкт-Петербург. В результате означенных переездов Комиссия вовсе не собиралась с 23 февраля по 26 августа 1722 г. и с 1 марта по 23 июля 1723 г. Наконец, необходимо упомянуть о не отмеченном предшествующими авторами перерыве в работе Уложенной комиссии, последовавшем с 20 февраля по 3 августа 1724 г. Судя по всему, данный перерыв был обусловлен выездом основного состава Комиссии опять-таки в Москву – на мероприятия, связанные с коронацией Екатерины Алексеевны.
В состав присутствия Уложенной комиссии 1720 года согласно книге протоколов на протяжении 1720–1724 гг. входило 17 лиц. При комплектовании присутствия Комиссии, сообразно поставленной перед ней кодификационной задаче, был использован принцип совмещения в его составе имевших представление о шведском законодательстве иностранных специалистов, состоявших на русской службе, и сведущих в отечественном законодательстве российских администраторов.