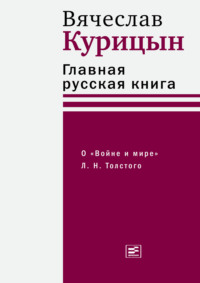Полная версия
У метро, у «Сокола»
– Я пойду квартиру вашей тети смотреть, не хотите со мной? – сказал Покровский. – Сегодня или завтра.
– А зачем ты пойдешь? – нахмурился Панасенко. – Что тебе с тетушкой неясно?
– Испытываю непреодолимое желание, – сказал Покровский.
Ответ этот Панасенко не то что смутил, но как-то сбил.
– Были уже ваши в квартире, – сказал недовольно, но без прежней категоричности.
Договорились в результате на завтра. Простились с Панасенко почти мирно, он даже довольно вежливо выразил сочувствие по поводу траурного фото в холле Петровки. Тем не менее, едва Панасенко исчез, Жунев спросил:
– Что думаете, от себя подозрения отводит? Наплел нам тут близ Диканьки…
Покровский отлично видел, что Жунев Панасенко не подозревает, просто пар выпускает. Но Кравцов отреагировал всерьез:
– В квартире, между прочим, прописана дочь Панасенко. Ему выгодна была смерть тети!
– Ты бы тоже прописал к одинокой тетушке свою дочь, – сказал Покровский. – Все так делают.
– Ты что, забыл, сколько старушек полегло? – выкруглила глаза на Кравцова Настя Кох. – Ты думаешь, это он маньяк, Панасенко?
– Я тут вызнал – он к слепым подбирается, – сказал Жунев.
– К слепым? – осмелился спросить Миша Фридман.
– Ты бы помолчал, сын Сиона многомудрый, – взорвался Жунев и швырнул в Фридмана его объяснительную. – Порви свои каракули. Зачем ты следить за Панасенко вздумал, объясни нам своими словами.
Было некоторое противоречие между «помолчал бы» и «объясни», но «объясни» шло позже. Фридман, довольный успехом в Калуге (хотя успех относительный, ну пропала гиря позапрошлой осенью, и что), воодушевленный въехал в Москву и на светофоре заметил Панасенко за рулем «Волги». Вообразил, что он теперь и сам-с-усам, на авто… Решил, дурак, проследить, вот и оказался заперт. Спасибо Панасенке, что сразу 02 позвонил (где еще не хотели верить и выезжать). А то, что потом начал врать, еще большим дебилом себя представил – тут уж вовсе что комментировать.
«К слепым подбирается» значило, что Панасенко внедряется в одно из районных Обществ слепых. Они осуществляют производственную деятельность на льготных условиях, причем председатель с правом финансовой подписи – лицо, как правило, незрячее, и вынуждено доверять зрячему заместителю. В тесном сотрудничестве с таким председателем Панасенко и собирался расширять свой бизнес.
Удобно, трудно спорить. Это, кстати, не только у нас так бывает. Вон, Коммунистическую партию США возглавляет слепой негр, и ничего.
– А вот по существу сообщения Панасенко, – осторожно сказал Кравцов. – Серая куртка, рост, руки в карманах… Вроде приметы, а вроде и не приметы.
– Сильно лучше, чем когда вообще не было, – сказал Гога Пирамидин. – Сутулится – интересно. Будем работать.
Повидав за эти дни сотни человек на местности, он уже понимал, к кому имеет смысл обратиться повторно. У опытного оперативника сутулость и руки в карманах могут сыграть.
Другое дело, что человек в серой куртке может к преступлениям отношения не иметь.
Снова зазвонил телефон.
– Да? – спросил Жунев. – Да. Спускаюсь через пять минут.
Почесал в затылке. На него, понятно, смотрели вопросительно.
– Жена Углова в командировке была в Ленинграде, – сказал Жунев. – Договорились с ее трестом, они ее вызвали телеграммой будто бы по срочному делу. Идет уже на взлет самолет. А я в Домодедово, встречать ее.
– А пацан? – спросил Гога Пирамидин.
– У бабушки.
– И они еще не знают? – в ужасе спросила Настя Кох.
Жунев ничего не ответил, встал, вытащил из-за стола портфель. Подошел с ним к шкафу, стал что-то, не видно что, в портфель укладывать. Гога Пирамидин от души выматерился. Миша Фридман во все глаза смотрел в спину Жунева: мало знакомый с майором человек не заподозрил бы, что именно он решает на Петровке такие деликатные вопросы.
На Лубянку Кравцов позвонил, встречу ему назначили на шесть вечера, через четыре часа с гаком. Покровский посадил его оформлять бумаги, Кравцов был очень недоволен.
До Петровского парка доехали на Фридмане. Гога Пирамидин сразу растворился. Настя Кох пошла по пээндэшникам. Фридману Покровский велел искать в Петровском парке следы асфальта в неурочных местах («В каких местах?!» – «В неожиданных, в любых абсурдных»), а также обратить внимание, не валяются ли где тяжелые предметы, способные стать орудиями убийства в избранной злодеем стилистике.
Сам Покровский отправился в коммуналку Кроевской, полагая застать и Раю Абаулину, которая поздно уходит на работу, и сестру Василия Ивановича Елизавету, что появляется на Красноармейской по четвергам. Застал и ту и другую: можно даже сказать, более чем застал.
С лестницы еще услышал крики и грохот, ускорил шаги, а дверь ему навстречу Василий Иванович заранее распахнул. Словно проиллюстрировал идею, что сумасшедший – существо особое, способен капитана милиции за закрытой дверью унюхать.
– Дерутся! Дерутся! – кричал Василий Иванович, потом резко сделал шаг назад и начал ловить своих мух.
Рая Абаулина металась по коридору. Кругленькая женщина в платке с криком «Мошенница!» швырнула в нее тарелку, тарелка разбилась о стену, Рая заскочила в свою комнату, тут же приоткрыла дверь и крикнула «Звоню в милицию!», хотя телефон располагался в коридоре.
– Я милиция! – поспешил выкрикнуть Покровский.
Рая и Елизавета Ивановна застыли.
Тарелка не первая, полно осколков вокруг. Василий Иванович шлепает ртом, как рыба на карикатуре.
– Мошенница! – грозно указала Елизавета Ивановна на Раю Абаулину указательным пальцем. – Комнатку оттяпала! Воровка!
– Спокойно, спокойно, – отвечала Рая Абаулина. – Отвечать будете за свои слова. Я все по закону. А вы меня покалечить сейчас могли тарелкой.
– Да я тебя! – Елизавета Ивановна метнулась к Рае Абаулиной и попыталась вцепиться в волосы. Покровский едва оттащил, получив в суете по затылку от Раи Абаулиной.
– Воровку покрываете! – кричала Елизавета Ивановна.
После освобождения комнаты в коммуналке государство могло вселить туда повзрослевшего детдомовца, например, или очередника. Но могло и передать комнату кому-то из жильцов квартиры, а при наличии льготника даже, может, и обязано было ему передать, Покровский в точности не знал правил. И уходила спокойно комната инвалиду Василию Ивановичу, в ЖЭКе это подтверждали, дело – считала Елизавета Ивановна – оставалось за малым, за оформлением документов. Но вдруг выяснилось, что буквально месяц назад Рая Абаулина прописала в своей комнате племянницу из деревни Великие Гнезда, и ситуация перевернулась, теперь именно это семейство оказывалось самым нуждающимся, если считать норму в метрах. Комната поплыла в новом направлении.
Как раз сегодня узнала в ЖЭКе Елизавета Ивановна эту страшную новость, и хорошо ее кондратий прямо там не хватил, на шатком стуле с продавленным картонным седалищем, средь грязно-салатовых стен. Две комнаты можно превратить по обмену в однокомнатную квартиру, и сама Елизавета Ивановна тоже ведь где-то живет. Допустим, у нее еще комната, а три комнаты… Но теперь это уже неактуальная арифметика.
Елизавета Ивановна выдвинула несколько энергичных предположений, как ухитрилась Рая Абаулина прописать племянницу поперек московских правил, ответа по существу не получила, вот и пошли в ход тарелки. Рая Абаулина потом сказала, что, в общем, сестру соседа понимает и зла на нее держать не станет, что Елизавета Ивановна вообще «не такая», а тут ясно, квартирный вопрос, и Василий кивал головой, кричал: «Не такая!» Но и Раю Абаулину надо понять, племяннице-то где-то жить надо. Елизавета Ивановна кричала, что никакой племянницы тут отродясь не бывало, а Рая Абаулина отвечала, что как же, почти каждый день заходила, и Василий Иванович кивал головой, кричал «Ходят! Разные ходят! Крашеных много!» Прямо сейчас? Нет, прямо сейчас она в деревне, но скоро переберется в Москву окончательно. Сколько, кстати, будет опечатана комната? А сколько длится следствие? Ясно. А… Золотые зубы оказались у Раи Абаулиной, вот что. Не меньше двух в нижнем ряду. Вчера в ресторане Покровский этого не разглядел. Но вообще помятая, растрепанная, разгоряченная схваткой Рая казалась сейчас почти красивой в этой растрепанности своей, с веселой размазанной косметикой. Чертыхаясь, пошла перекрашиваться.
С Елизаветой Ивановной на интересующие Покровского темы побеседовать не удалось, она то кричать начинала, то за сердце хваталась и на стул плюхалась. Ладно, позже. А с Раей Абаулиной разговор вполне получился. Она даже, направляясь в ресторан, не сразу на трамвай пошла на Ленинградку, а проводила Покровского до Петровского парка. Ну, путь не дальний, но все равно приятно.
По дороге Покровский развивал прилипчивую тему жилплощади. Сказал, что рад за Раю, что у нее так удачно все в этом смысле с племянницей складывается.
– Жила в деревне, а тут хоп – сразу в Москве! Замечательно!
– Да, – осторожно согласилась Рая Абаулина. Не могла понять, что у Покровского за интонация. И спохватилась. – Забот на мою голову, хочет в техникум, а в тот техникум еще поди протырься. В деревне вторая еще подрастает…
– Это все ерунда, – беспечно перебил ее Покровский. – Главное, есть где жить. А потом можно одну племянницу за Василия Ивановича замуж. Туда-сюда…
– Туда-сюда? – переспросила Рая Абаулина.
Руки пухлые, сдобные, что называется. Самый цвет. Так и хочется прикоснуться. Чисто тактильное желание, даже до чувственного интереса. Скоро сдоба перейдет решительную черту, потечет, размякнет, как тесто сбегает из бадьи, или из чего оно там сбегает. Но вот прямо сейчас – консистенция идеальная.
– Конечно, туда-сюда и весь сказ! Потом Василия Ивановича в стационар по психиатрической линии, вот уже и три комнатки у вас.
Раиса остановилась, воззрилась на Покровского, определялась с реакцией. Покровский сказал:
– Или двух.
– Что или двух?
– Двух племянниц за Василия замуж, чтобы сам в стационар запросился.
– У нас двоеженство запрещено, – важно сказала Раиса Абаулина.
Хохот наружу не вылился, хотя веселье прямо плясало на резко посвежевшем лице. Есть (или было) такое, кажется, искусство – почти довести до самого до момента, до точки, до влажного взрыва – и сбросить газ, отложить встряску-развязку…
– А машину вы какую покупаете, если не секрет?
– Знаете про машину?! А! – губы презрительно скривились. – Обсос вам сказал? Я при нем сказала подружке, что жду открытку. «Москвич» покупаю, не барыня. Денег брат дает. Отец племянниц, Сашка. Он бригадир в колхозе, серьезный мужчина. Колхоз у нас миллионер, так что…
– Очередь-то длинная.
– У меня появилось ощущение, что возьмет да ускорится.
Смотрит лукаво. Охотно включилась в игру.
– А как вы Николая Борисовича назвали? Атосом?
– Не Атосом, а обсосом! – рассмеялась Рая Абаулина. – Скажете, Атосом. Много он вам порассказал?
– Как раз не особенно. Не склонен лезть в чужие дела, несколько раз повторил.
– А что он мог рассказать? Что ко мне подруги заходят и племянница? Что меня мужчины на машинах подвозят? Это, знаете, я право имею…
– А к нему кто-то ходит? – спросил Покровский. – К Бадаеву?
– К нему-то… Не сказала бы. Когда я только заехала, ночевала иногда одна… И потом приходили еще какие-то. Но редко.
– К вам приставал?
Рая Абаулина ответила буднично, деловито:
– Лез, конечно. Получил полотенцем по мордасам, больше не лезет.
– То есть предметом он интересуется, но к нему не ходят. Сам, может, к кому ходит?
– Дома всегда ночует. Я, знаете, – Рая Абаулина перешла на доверительную интонацию, почти на шепот, – что думаю. Он же там у себя в ЦСКА какой-то мелкий начальничек. Вот и прижимает подчиненных бабенок по бытовкам. Раз-раз, отстрелялся, даже конфет покупать не надо… Дело известное.
Рая Абаулина улыбнулась кривовато, с элементом цинизма, что скорее подошел бы мужчине-руководителю, которого такое мироустройство вполне устраивает, чем возможной жертве этого мироустройства.
Небо ясное, освещение на аллее не то, что в ресторане или в коридоре коммуналки. Не только задорный блеск глаз видно, не только сливочную кожу, что отливает молодостью и здоровьем, но и прыгающие подушечки под подбородком… Им, впрочем, еще нужно время, чтобы взять власть.
И платье кримпленовое великолепное, со сложным абстрактным узором, фиолетовое, лиловое, лимонное, в Дом кино не стыдно, а сверху чудовищным диссонансом – пушистая розовая кофточка.
Чуть-чуть щурится, зрение, наверное, не идеальное… Очень трогательно.
Рая Абаулина, кажется, не могла понять до конца смысла того взгляда, которым Покровский ее окатывал.
Есть ощущение, что мент проявляет симпатию, но это, наверное, наигранное. И вообще непонятный… Что за шуточки про замужество на Василии? И, кстати, в чем дело-то вообще!
– Непонятно, что вы выведываете! Весь район знает, что маньяк старушек убивает, – Покровский почувствовал, что Раю Абаулину передернуло. Но буквально тут же она весело хихикнула. – Не Василий же Иваныч маньяк. И не пупырь. Это я про обсоса. Иногда я его еще пупырем называю. Может, думаете, я маньяк?
И опять хихикнула. И тут же посерьезнела.
– Ужас что… – махнула рукой. – Вы уж его найдите скорее. Но что вы про нас-то выспрашиваете?
Покровский вздохнул.
– Понятно. Найти не можете, тычетесь куда попало, – справедливо заметила Рая Абаулина. – А как думаете, он еще будет? Ну, это…
– Никак не думаю, – сказал Покровский.
В комнате Кроевской Рая Абаулина никогда не бывала. Считала Варвару Сергеевну женщиной сухой и даже высокомерной, но чужая душа потемки, а ничего плохого Варвара Сергеевна никому не делала. Подругу Кроевской Рая не помнила. «Я же сама тут только два года, может, раньше…»
– А вы знаете, что Варвара Сергеевна была в лагере?
– Нет, – растерялась Рая Абаулина. – За что?
– Тайна следствия, – начал Покровский. И добавил: – На самом деле, еще не знаем, там документы затерялись. Выясняем.
– Надо же, – Рая Абаулина сначала состроила изумленное лицо, но тут же сказала: – А что такого вообще-то. У нас половина сидела, половина сажала. Не поймешь часто, кто правый, кто виноватый. Расскажете, когда узнаете, за что?
Сразу смутилась:
– Ой, простите за нахальство такое!
– Ничего…
В парке Рая показала Покровскому скамейку, на которой дважды видела сидящей покойную Варвару Сергеевну.
– Только на этой?
– Да. А я в других местах парка и не бываю. Только здесь иногда прохожу, если иду через «Динамо».
И эта скамейка на отшибе, за спиной Петровского замка, перед тропинкой, что ведет к одинокому зданию на Трудовой аллее, серому, загадочному, за забором, про него ходят слухи, что это вход в «метро-два», а на самом деле оно просто как-то связано с электроснабжением метрополитена.
Но здесь убить старушку не получилось бы, скамейка почти у дороги, парк для нее – только фон. Вдалеке от всего скамейка, но – как на сцене.
– Давно вы ее тут видели?
– Оба раза в прошлом году видела, точно не помню… Ой! – сказала вдруг Рая Абаулина. – А я вас узнала.
– Только сейчас?
– Мне мерещилось, но я не понимала. Да у меня и зрение… Пора очки заводить. Сегодня-то вы в форме, а вчера без формы. Надо же, как форма меняет!
– Как мне лучше? – спросил Покровский.
Рая Абаулина смутилась.
– Одинаково хорошо? – спросил Покровский.
Представил, как на Рае Абаулиной смотрелись бы очки: над большим ртом, такой «чувственным» называют.
– Я вчера плохо помню. А в форме вам точно хорошо, идет.
– А вам лучше без фартука официантского, – сказал Покровский, заодно и пушистую лишнюю кофту с Раи как бы мысленно сняв.
– А я всю жизнь и не собираюсь, – ответила Рая Абаулина с веселым вызовом.
Ушла, качая бедрами… Солнце как раз растолкало тучи, осветило гладкие икры.
Обернется.
Обернулась, улыбнулась. Помахала рукой. Покровский тоже помахал.
Побрел вглубь парка, продолжая заглядывать под кусты и скамейки, в дупла деревьев, дошел до Мишиного «Москвича». Договорились – поскольку было неизвестно, сколько Покровский на тринадцатую квартиру потратит – что Миша к машине время от времени будет и сам подходить. А Миша тут и ждал, нетерпеливо расхаживал, курил… Новую родопину как раз из пачки вытаскивал. Он не только нашел асфальт – маленький, со спичечный коробок, кусок – но и в очень интересном месте, под одной из скамеек.
– Молодец, Миша! – не сдержался Покровский.
– Спасибо, – расцвел Фридман.
– Ты что, на коленях по всему парку?
– Не по всему. Но раз тот кусок был под скамейкой, я и решил повнимательнее посмотреть подо всеми скамейками. А эта недалеко от той.
Да, эта скамейка глубже в парк, но близко к тому же самому краю, примыкающему к Петровско-Разумовской аллее. Покровский сел, посидел и на этой. Прямо по курсу сосна со скворечником, птиц не видно. Что-то здесь… понятно, что. Не только птиц – людей тоже не видно. Эта скамейка, как и та самая, стоит уединенно. Парковый архитектор или кто, распорядитель парковый или парковый агроном, соорудил тут две симметричные зоны, в которые труднее забрести транзитному пешеходу. И вот в одном из таких закутков грохнули старушку асфальтом, а в другом под такой же скамейкой такой же – наверняка тот же самый! – асфальт.
– Вы думаете, товарищ капитан, не случайно тут асфальт оказался? – спросил Фридман.
– А что значит «случайно»? Ветром прикатило?
– Ветром не могло.
– Человек значит притащил. Зачем?
Пошли посмотрели на те большие, что Покровский нашел в канаве. Лежат. Надо забрать для Кривокапы, что им тут лежать. Вышли на проезжую часть, Покровский снова прикинул, легко ли было рабочему зашвырнуть эти куски в канаву прямо с дороги. Зашвырнуть-то легко, но шансы повредить кусты довольно высокие. Вроде в порядке кусты… Ну, можно было перекинуть кусты навесиком, чтобы не дальше улетели в парк, а именно в узкую канаву упали. Миша не понимал смысла этих рассуждений, а тут еще и дальнейшие события отвлекли:
– Настя бежит!
Да, Настя Кох торопится, раскраснелась, споткнулась, чуть не упала, то есть даже упала на колено, бежит дальше, прихрамывая. Покровский и Фридман навстречу:
– Что случилось?
Настя отдышалась, рассказала. Пээндэшник из списка – двадцатилетний парень по имени-фамилии Федор Клюн – живет с родственниками, с двоюродной прабабушкой, троюродным дядюшкой, его приемной племянницей… Шесть человек в трехкомнатной хрущевке на Черняховского, за гастрономом «Комсомолец». В данный момент дома прабабушка, старая, полуслепая, сказала, что Федька «гуляет». Настя поймала на улице постового милиционера, оставила его дежурить, сама быстро в парк.
– Настя, погоди, а что такое там, что надо милиционера и ты к нам рванула?
– Да галоши, галоши!
Галоши в прихожей, именно сорок четвертого, по прикидкам Насти Кох, размера, и еще Федор Клюн, если верить данным из ПНД, «хорошо физически развит».
На Мише до Черняховского – минута езды. Первый этаж. Милиционер, совсем молоденький, усы не обсохли, встретил их у порога квартиры. Кровь на лбу. Увидел Покровского в форме, встрепенулся:
– Здравия желаю, товарищ капитан! Сержант Молодько!
В квартире обнаружилась древняя старушенция, жевала что-то и одновременно вязала. В лиловом пластмассовом шаре у нее под стулом приплясывал клубок шерсти.
«Федька герб взял. Гулять убег», – прокомментировала, не переставая жевать и вязать.
Молодько, выяснилось, сидел в коридоре на стуле. Двухметровый Клюн прибежал со стороны двора и, чтобы сократить путь, запрыгнул в одну из комнат через окно, схватил там герб, Молодько поспешил на шум, Клюн вылетел из комнаты и гербом, который держал на отлете, просто сковырнул сержанта с дороги. Молодько впечатался головой в стену, даже сознание потерял.
– Я ему нашатырь. Да пока до кухни дошкрабала, да пока обратно с нашатырем, он и очнулся, – объясняла старушенция.
А Федор Клюн усвистал.
И что за герб?
– Вы все о гербе каком-то говорите, что за герб?
– Да Федька герб притащил со стройки, неделю уж. Стоял у телевизора, все царапались об него. Я говорю, Федька, собачий ты сын, унеси ты герб от греха подальше…
– А что за герб? С какой стройки?
– Сказал, со стройки.
– Большой герб?
Показала косую сажень, метра полтора.
Глаза у бабушки прозрачные и еще такой вроде как белесой пленкой покрыты. Но что-то, кажется, видит.
– Такой огромный?
– Большой герб, говорю вам, – рассердилась бабушка.
– А из чего он?
– Железный, из чего еще, – тоже сердито сказала, будто не из чего, кроме железа, предметов и не бывает.
Интересно. Железным гербом по макушке. Но что за герб-то вообще?
– Это герб СССР?
– Да кто ж его знает!
– А что на нем нарисовано?
– Да почем мне знать! Обычный герб.
А галоши у порога – да, сорок четвертый. И новые.
Милицейский жигуль, веселый, свежий, ярко-желтый, ярко-синий уже подъехал: Фридман сразу позвонил от соседей, а отделение тут – то самое, из которого Кравцова в КГБ отослали – в двух шагах. А ситуацию объяснять и двух слов не понадобилось: про маньяка все слышали, и на поиски мгновенно бросили человек пятнадцать, включая курсантов, которые пришли в отделение на учебное ознакомление. Федьку многие знали, а кто не знал, так у Федьки приметы броские – огромный, бритый наголо, в синем олимпийском костюме, язык часто высунут… с гербом каким-то, черт бы его драл.
У подъезда столпились соседи, местные милиционеры стали их разгонять, но Покровский вмешался, поговорил с людьми: все как один называли Федьку психом неагрессивным, дважды прозвучало «мухи не обидит».
Милиционера Молодько страшный Федька не хотел, конечно, повредить, а просто не заметил. И сержанту так показалось, и старуха однозначно заявила:
– Да Федька не видел его! Не хотел стукнуть! Федька мирный. Гулять побёг.
Вышли на улицу, на скамейку. Покровский отправил Фридмана в «Комсомолец» за яблоками и кефиром.
– А…
– Без нас поймают такой толпой.
Причем быстро поймают, но дознание, протоколы, родственники, возможно, и санитары – все это до ночи, а если Федька окажется реальным подозреваемым, то и до утра. Так что осмотр комнаты Кроевской переезжает, похоже, на завтра.
– Как думаете, это он? Бабушек? Федор Клюн? – спросила Настя Кох нетвердым голосом.
Настя уже пять лет на оперативной работе, всякого насмотрелась, вместе с Покровским брала с поличным одного нездорового фотографа, который в морге снимал жонглирование отрубленными конечностями и называл это прорывом в искусстве, но маньяк – все же личность совсем с Луны.
– Он! – коротко и грозно раздул Миша Фридман волосатые ноздри. Тут же смутился. – Очень похоже…
Очень похоже Мише было, конечно, прежде всего потому, что очень уж хотелось поскорее поймать злодея.
– Наш-то хладнокровный и аккуратный, а этот какой-то бешеный псих, неорганизованно носится, – сказал Покровский.
Достал платок, вытер губы, запачканные кефиром. След явно ложный, одно утешает, быстро найдется Клюн. Конец рабочего дня, людей на улице навалом, школьники во дворах, люди с собаками, толкотня у магазинов. Громадный человек в синем костюме с громоздким предметом в руке куда побежал? Многие видели, за угол побежал, в ту сторону, в эту, получалось сначала, что в сторону улицы 8 Марта, будто сам наладился в стационар, а герб привлек в качестве доказательства готовности к госпитализации.
– Не герб он тащил, а орден какой-то!
– Не какой-то, а Трудового Красного знамени! Я еще удивился, толстяк с орденом Трудового Красного знамени… Такой, метр в диаметре. С крыши какой-то…
Потом маршрут уточнился – чуть дальше, к Верхней Масловке бежал Клюн, и все с орденом. Поехали на Масловку. На повороте, что к Петровскому парку, застрял грузовик, из-за этого и трамвай не мог проехать, перегородил «Москвичу» дорогу. Покровский вышел из машины, позвонил из автомата на Петровку. Кравцов сходил на Лубянку, там его строго выспросили, чего и как, милостиво разрешили посмотреть дело Кроевской Варвары Сергеевны. Да вот только архив до половины шестого. «Пришли бы раньше, сегодня тогда и посмотрели бы, а так завтра». – «Вы мне сами назначили на шесть!» – «Завтра, значит, приходите».
Из будки вышел, подскочила Настя Кох: обнаружено здание, в которое вбежал человек с орденом. Еще один конструктивистский дом, но, в отличие от желтого хлипкого, в котором жила Кроевская, этот серый и крепкий. Городок художников так называемый, мастерские.
В небольшом холле груда старых подрамников, красно-белая бочка с иностранной надписью. Длинный пустой коридор, мрак, две-три лампочки горят, едва виднеются мутные очертания изваяний. Лестница наверх уходит, заляпанная белилами.
На площадке второго этажа сидел на подоконнике заросший человек в тельняшке, настраивал балалайку, курил папиросу. Банка из-под бычков в томате под пепельницу. Увидел милиционеров, не удивился: