
Полная версия
Мечтатели Бродвея. Том 3. Чай с Грейс Келли
– Что скажет мистер Тайлер Тейлор – отец?
– Мне двадцать три года, стало быть, я совершеннолетний.
Он не добавил: «И я не Нельсон».
– Вы скажете ему, что мы виделись пять-шесть раз, не больше? Что я иногда сигарет гёрл, а иногда хэтчек гёрл?[60]
– Для меня это не проблема, не будет проблемой и для него.
– Что моя профессия – танцовщица?
– Да, на танцовщице он, боюсь, чуть-чуть зависнет.
– Вот видите.
– Потому что он обожает танцевать! Он захочет знать, превосходны ли вы. Вы превосходная танцовщица, надеюсь?
– Вы скажете ему, что я из Уиллинга, три тысячи четыреста шестьдесят пять жителей, штат Иллинойс?
– А, вот это ему надо будет сообщить с осторожностью. Он закоренелый нью-йоркец.
Он смеялся. Она нет. Она подбирала слова.
– Та женщина, такая красавица, что была с вами в вечер шимми… Элла Тарлингтон. Она, кажется, очень вас любит.
Он с жадностью всмотрелся в ее лицо в поисках знака досады, ревности… Но Хэдли, казалось, лишь не хотела никого обидеть.
– Надеюсь, – сказал он. – Мы знакомы с раннего детства. И очень любим друг друга.
Она потуже затянула пояс плаща, под которым была форма гардеробщицы.
– Мне пора идти.
– Элла моя сестра, – удержал он ее, смеясь. – Моя старшая сестра.
Он снова всмотрелся в нее, тщетно пытаясь отыскать следы облегчения, успокоенной ревности.
– Мне надо вернуться. Я слишком долго отсутствую.
Джей Джей заставил ее снова сесть.
– Терри одна, – настаивала она.
Он удержал ее на стуле.
– Я вернусь в «Сторк» в пятницу. В этот день, Хэдли, могу я надеяться получить ответ на мой вопрос?
– В пятницу у меня выходной.
– Ладно, в субботу.
В голове у него отложилось только одно. Она не сказала «нет». Она подняла руку и погладила ему лоб и волосы. Он едва почувствовал ее пальцы.
– Вы добрый, Джей Джей.
– Если это синоним влюбленного, то я отчаянно, безумно добр.
– Я взволнована, – тихо сказала она.
– А я успокоился…
– Взволнована, запуталась.
– Успокоился и верю.
Он добавил через несколько секунд:
– Успокоился, верю… и тревожусь.
И повернулся, чтобы поцеловать ее нежным, долгим поцелуем в губы. Раз, потом – не смог удержаться – еще раз.
– Почему я? – спросила она, отворачиваясь. – Я бесцветная, самая обыкновенная.
– Я буду целовать вас каждый раз, когда вы это скажете.
– Это правда, я бесцветная и сама…
Он привел угрозу в исполнение. Она не противилась.
– Я пойду, – пробормотал он. – Пока еще помню, где я живу.
Он отодвинул стул, встретил взглядом строго нахмуренную бровь клиента с бородкой и в розовой бабочке, который внимательно наблюдал за ними над яблочным соком. Джей Джей вежливо приподнял шляпу.
– Мы жених и невеста, – извинился он.
И, наклонившись к уху Хэдли, прошептал:
– Почти.
13. I’m looking over a four leaf clove[61]
В эту ночь колокол Амброуз Чепел прозвонил половину третьего, когда Хэдли, вернувшись из «Сторка», взошла на крыльцо пансиона «Джибуле». Она разулась в холле и поднялась по лестнице босиком.
Как и каждый вечер после работы, она вошла в приоткрытую дверь комнаты Черити, не разбудив ее – Черити никогда не просыпалась, – и унесла закутанного в одеяло Огдена вместе с маленькой заводной обезьянкой с тарелками. Он не расставался с этой игрушкой, с тех пор как Джей Джей купил ее для него у бродячего торговца.
Луна отбрасывала льняные отсветы на волосики ребенка. Тот же цвет, что у Арлана. Хэдли поцеловала спящего сына, отнесла его к себе в комнату, бережно уложила в кровать.
Она разделась, надела ночную рубашку и быстро легла в темноте, прижимая к себе ребенка, обнимавшего обезьянку.
Усталая, она лежала неподвижно с широко открытыми глазами. В голове стучало. Между тем она чувствовала себя умиротворенной. Она тоже успокоилась. Она легко, совсем легко потерлась подбородком о мягкие кудряшки ребенка.
– Мы его найдем, – прошептала она в подушку. – Однажды папа будет здесь, с нами, обязательно. Обязательно! Ты его сын.
С усталым вздохом она закрыла глаза.
– А я его жена.
* * *Моя дорогая, моя сногсшибательная сестренка!
Как же я доволен – нет, счастлив, зная, что ты дома на две недели. Может быть, ты так стосковалась по маминым рагу и нормандскому торту, что будешь меньше любить четки? Я плохо себе представляю, как ты встаешь с рассветом, ты же иной раз даже жертвовала завтраком, чтобы поваляться в постели. Узнаю ли я тебя, когда вернусь, моя Розетта?
Джослин сделал паузу, чтобы надкусить печенье «Орео», и бросил остаток № 5, который съел его с быстротой молнии.
Когда Урсула, официальная хозяйка № 5, проводила вечера вне дома, песик устраивался на ночлег в студии Джослина в полуподвале. Время от времени, уткнувшись мордочкой в полукруглое окно, он наблюдал за ногами прохожих.
Авокадо. Мое последнее открытие! Ты, верно, представила себе адвоката, очкарика, зарывшегося в криминальные досье? Ошибка. Это что-то вроде зеленой груши, чертовски зеленой, с толстой кожурой, напоминающей линолеум в лавке Фродона на улице Этьен-Марсель. На вкус оно… крепкое и мягкое. Прохладное и маслянистое. Самое удивительное – его большая косточка, твердая, как деревяшка. Наверно, это деревяшка и есть. Я пытался ее расколоть – невозможно. Она хранит свою тайну философского камня. Я привезу тебе авокадо, когда вернусь, говорят, они хорошо выдерживают дорогу.
Джослин вытер перо клинексом. Этого он никогда не решился бы проделать тоненькими батистовыми платочками Жанин Бруйяр, его матери. С помощью № 5 он доел второе печенье.
Я пишу тебе это, и мое сердце поет от радости и плачет от горя одновременно. Я буду счастлив увидеть вас всех, я так скучаю по маме, но мне больно представить момент, когда придется покинуть Нью-Йорк, пансион «Джибуле», белок в Центральном парке, моих американских друзей.
Ладно, до июля еще далеко…
Я останусь на их национальный праздник 4-го (говорят, это нечто) и буду в Париже к нашему.
Я храню ослепительное воспоминание о нашем первом 14 июля после войны, без родителей. Правда, было красиво? Ты помнишь? Ты все время танцевала с тем канадцем на балу на площади Аббатис, вокруг рвались петарды, а я топтался с той девушкой с шеей рептилии, которая отдавила мне все пальцы. Мама наказала нам с Эдит не спускать с тебя глаз… И я не спускал с тебя глаз!
Роземонда была так красива в тот вечер 14 июля 1947-го, через два года после освобождения. Им было по пятнадцать лет. Эдит, их старшей сестре, семнадцать. Джослин с Роземондой близнецы.
В том же духе, но куда шире, мы отпраздновали день Святого Патрика. Все ньюйоркцы в этот день становятся ирландцами. И все носят что-нибудь зеленое, это правило.
Так что 5-я авеню была зелена от народа. Девушки из «Джибуле» купили или соорудили себе новые шляпки, и даже миссис Мерл (канарейки и цветы шиповника в зеленом гнездышке)!
Да, американцы абсурдны. Способны мириться с самыми немыслимыми чудачествами во имя свободы мнений и их пресловутой Первой поправки… но способны также преследовать вас и притеснять во имя… того же самого.
Ты представляешь себе, что галла за то, что он голосует за коммунистов, могли бы взять под надзор, на карандаш, написать на него донос? Да треть Франции была бы в тюрьме! Смешно, правда? Так вот, здесь в этом нет ничего смешного. Увольняют даже полных психов. И шпионят напропалую, на улице, на работе, в кафе, в кино… Поступая на работу, ты должен поклясться и подписать бумагу, что не состоял в компартии. И даже если у тебя никогда не было членского билета, ты должен поклясться, что не участвовал в таком-то «непатриотическом» собрании десять или двадцать лет назад. Удивительна эта смесь безумной эйфории после пережитой ужасной войны и постоянного удушья, которое чувствуешь сейчас от тотальной слежки.
Прилагаю статью, которую я вырезал из «Бродвей Спот», за подписью некого Эддисона Де Витта.
Ничего общего (чисто посплетничать): этого самого Эддисона мы встретили в первый вечер, когда я побывал в театре. В тот вечер мы с девушками просочились без билетов – я тебе рассказывал, помнишь? С тех пор у Пейдж, нашей пансионерки, начинающей актрисы, в глазах поселилась бесконечная грусть. Я, конечно, не решаюсь ее расспросить, но чувствую, что этот Эддисон тут как-то замешан…
№ 5 вскочил на круглый столик и разлегся на Адели, плюшевом олененке.
– Аккуратней, № 5! – отчитал его Джослин. – Эта зверушка старше тебя.
О, постой-ка… Я забыл про Кролика! Напишу в следующий раз, обещаю. А сейчас я с ног валюсь. Работа лифтером в Хаксо населяет мои сны мертвыми петлями, лавинами, спусками в каноэ, полетами на монгольфьере… Это опасно, доктор?
Коль скоро ты сейчас с ними (счастливица), раздай всем от меня поцелуи, особенно маме и маленькому Шарли.
А для тебя, моя Роземонда, я приберег лучшие.
Твой любимый близнец.Zip a dee-doo-dah!
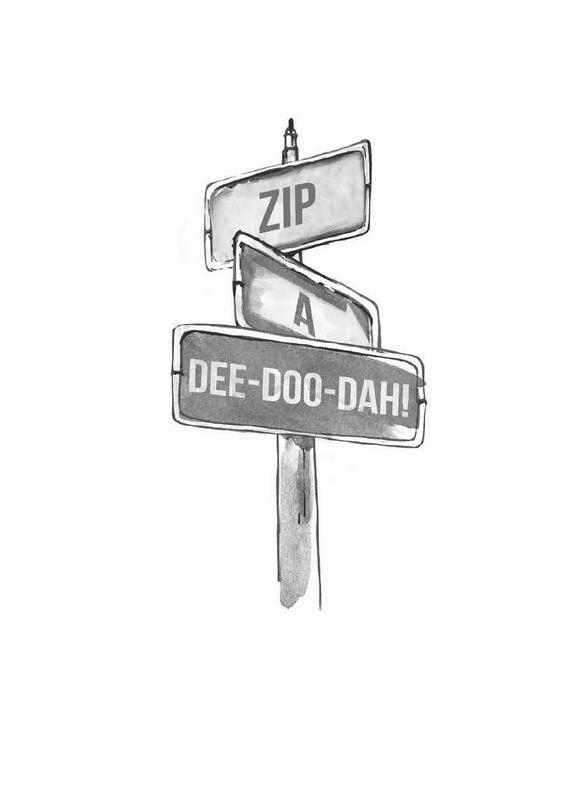
Shoo fly pie and apple pan dowdy[62]
Приехавшей в Саскуэханс-Фоллз жене Фридриха-Гюнтера Фройденкерлештурма Гуинивир Вихаукен-Хоукинс – для всех просто Джинджер – пришлось уложить в голове список элементов, незнакомых ей в ее городской жизни.
На ферме мечты не было водопровода.
Не было электричества.
Не было телефона.
Не было туалета в доме, только будочка у забора.
Зато на ней были в изобилии…
Тучи пчел и/или ос днем.
Тучи летучих мышей ночью.
Гризли в окрестных лесах (Фред встретил одного и назвал его Геркулесом), а также пумы, дикие коты, бурундуки, хорьки, крысы, да чего там только не было…
Протечки всех видов.
Острая нужда в ремонте.
Несмотря на эти мелкие неприятности, Джинджер по-прежнему выглядела той, кем и была: невероятно влюбленной новобрачной.
Она написала несколько длинных писем матери, чтобы объяснить ей, в силу каких обстоятельств села не в тот поезд и в итоге поехала другим маршрутом, изменившим всю ее жизнь. По крайней мере, она попыталась объяснить. Но попробуйте-ка описать любовь, любовь с первого взгляда, эти непостижимые материи!
Она проснулась напевая, как и каждое утро с их приезда. Фред уехал с рассветом на пикапе за этим самым прессом для яблок. Хоть бы не забыл ткань на занавески…
Он оставил полный кофейник на краю теплой плиты, подбросил дров в печь, положил восхитительный букет вьюнков рядом с чистой чашкой и выложил сердечко из соломинок на грубой столешнице. Джинджер поцеловала вьюнки и поставила их в каменную вазу. Соломенное сердечко она оставила на столе.
Распахнув настежь окна, она вдыхала сладкий воздух холмов. Была среда. Как и на каждый день недели, на среду приходилось строго определенное количество дел.
Когда они только въехали, Джинджер, оценив фронт работ, собралась с духом (и телом) и составила список. Понедельник – уборка в доме, подмести, вымыть окна и т. д. Вторник – стирка в горной речке, протекавшей в шестистах метрах. Среда – выпечка хлеба и заготовка съестного на неделю. Четверг – глажка плюс вытирание пыли и уборка. И так далее.
Все это, разумеется, вдобавок к текущим делам обычной фермы: приготовить и задать корм свинье, трем козам, шести курам и индюшке; убрать в хлеву и курятнике, принести воды из речки и дров, нарубленных Фредом, осмотреть яблони и т. д., и т. д.
Этих «и т. д.» было очень много.
Придерживаться программы списка оказалось нелегко.
Например, когда капризничали дрожжи и тесто для хлеба, вместо того чтобы подниматься куполом, принимало вид гипсовой тарелки. Тогда приходилось все начинать с начала.
– Эти картофельные дрожжи, – жаловалась она Фреду, – никуда не годятся.
Она купила в городе (поездка в город равно три четверти часа тряски по ухабам в битком набитом пикапе и столько же обратно) целую кипу книг по кулинарии и домашнему хозяйству, читала их и перечитывала, делала выписки и загибала страницы.
Проглотив две чашки кофе со сливками, яйцо, ломтик окорока и три куска хлеба с мармеладом (потолстеть здесь ей не грозило, у калорий было слишком много работы), Джинджер, как и каждое утро, показала язык гадким стенным часам – даже не красивым, – которые Фред привез от своих родителей. Он ими дорожил, это были часы его бабушки Хильдегард. Джинджер виделись глаза, совиные глаза, которые следили за ними. Не у бабушки. У часов. Пора было повязать передник.
Она подмела кухню, сменила постельное белье, вымыла окна. Потом, в сопровождении Белоснежки, вилявшей хвостом, вышла задать корм птице, укрепила столбик ограды, который ночью подгрыз сурок (да, здесь водились и сурки. А еще скунсы, ласки, куницы, полевые мыши и прочая, и прочая…), и переделала кучу дел в огороде, в сарае, на речке, в кухне. При этом у нее было полно времени, чтобы распевать во все горло все хиты Дорис Дей.
Белоснежку они взяли через две недели по приезде. Никто из окрестных фермеров не хотел брать эту сучку, потому что она была черная; Фред назвал ее Белоснежкой из чистой провокации.
Юная Белоснежка резво бежала по пятам, и Джинджер, распевая мелодии Джун Кристи и размахивая руками, чтобы отогнать насекомых, отправилась к речке за водой, а то, не дай бог, закончится к обеду. На берегу она несколько раз огляделась, как и всегда. Ей не хотелось встретиться нос к носу с медведем Геркулесом. Но никто не по казался. Возвращаясь, она все еще пела.
Ей вздумалось испечь анисовые бисквиты. Фред ездил вчера за провизией и привез ей пакетики с кардамоном, анисом и цукаты из лепестков дягиля.
Джинджер взялась за дело вскоре после полудня. Первые бисквиты в ее жизни! В Спринг-Рокс, ее родном городке в получасе езды от Чикаго, если хотелось пирожное или бриошь, всегда можно было купить их в кондитерской миссис и мистера Чборксинов, венцев, привезших в этот уголок Иллинойса свое искусство штруделя, миндального бисквита с тмином и макового пирога.
Джинджер вздохнула, доставая из стенного шкафа большую салатницу. Однажды, может быть, когда она вырастет большая, научится печь и маковый пирог… Когда она поедет навестить семью, непременно зайдет к мистеру Чборксину и попросит рецепт.
Она разложила ингредиенты вокруг салатницы. Потом налила, насыпала, перемешала, замесила, разделила, взбила, посахарила, помаслила, приправила, всё смешала, долго месила, раскатала, растянула, посыпала мукой, разрезала, вылепила, смазала, украсила… Все это – часто заглядывая во «Все мои секреты, 150 рецептов пирожных», книгу, со знанием дела написанную француженкой, мадам Пенелопой Жавер.
Под конец, высунув кончик розового языка, с чувством, будто сразилась со стаей китов, Джинджер разложила на смазанном маслом противне семьдесят три бисквита, которые осталось только подрумянить в духовке. Она бросила Белоснежке последний кусочек теста и посадила противень в печь.
Когда она развернулась, ее глаза округлились от ужаса.
Под навесом садовой двери жужжала и шелестела, как сушняк в лесном пожаре, огромная коричнево-желтая масса. Осы!
Или пчелы? Какая разница. Сердце Джинджер остановилось. Белоснежка прыгала и лаяла, подняв мордочку к рою.
Джинджер заставила себя не поддаваться панике. Потянув собаку за ошейник, она побежала закрывать дверь. Тут она вспомнила об окне над раковиной. Оно осталось открытым. Джинджер быстро пересекла кухню. У рабочего стола она замерла, оцепенев от страха.
В салатнице, которую она не успела вымыть, теснился другой рой! Или тот же самый… атаковавший по всем фронтам.
Они гудели от удовольствия на остатках сладкого теста, темная и омерзительная смесь трепещущих крылышек и коричнево-желтых телец.
Несколько долгих секунд Джинджер молча таращилась на насекомых, не зная, что делать. Заорать. Исторгнуть завтрак. Убежать. Вдруг она заметила два ведра воды, принесенные с речки. Не раздумывая, подняла одно и выплеснула его содержимое на жужжащую мерзость.
Она плохо прицелилась или недостаточно сильно плеснула. Поло вина воды разлилась по полу. В результате выжившие насекомые – а их было много – перешли к тотальной войне. Эскадрон взмыл в воздух, готовый спикировать на врага. Джинджер в ужасе надсадно закричала.
Закрывая лицо передником, она схватила Белоснежку и побежала в комнату. Заперлась, забаррикадировала окно, выходившее назад, на поляну. Задвигая засов, она услышала рядом лай Белоснежки. И тут Джинджер увидела большую черную фигуру, которая медленно, спокойно двигалась в высокой траве на поляне. Красная пасть раскрылась в устрашающем зевке… Геркулес! Медведь гризли. Он шел вразвалку в нескольких метрах от дома.
Со стоном чистого ужаса и отчаяния Джинджер закрыла изнутри ставни, заперла их, придвинула к двери кресло. Наконец она забралась под кровать и, прижавшись к Белоснежке, застыла без движения, без звука.
Так она пролежала до вечера, а гадкие часы в столовой безжалостно били каждый час. Все это долгое время она слышала, как Геркулес бродит вокруг, от окна к окну, от двери к двери, скребет когтями по стеклам, рычит и пыхтит у стен дома, так близко, как если бы сидел на соседнем кресле в кино. Она с горечью ощутила запах гари от бисквитов, которые давным-давно испеклись. День клонился к вечеру. Стемнело. Вся дрожа, она в конце концов уснула.
Разбудил ее лязг. Она открыла глаза, увидела над собой сетку кровати, свернувшуюся рядом Белоснежку, согревающую ее своим славным теплом. Верная Белоснежка.
Лязгнуло еще раз. Она привстала на локте, снова на грани паники. Возможно ли, что страшный Геркулес сумел открыть какую-то дверь? Она прислушалась, но все звуки заглушало сердце, так сильно оно колотилось.
У медведя нет ключей. Медведь не кашляет. Медведь не зажигает свет. И главное – он не зовет вас по имени.
– Фред! – закричала Джинджер так, что собака вздрогнула. – Фред!
Растрепанная, она выбралась из-под кровати, отодвинула кресло, открыла дверь. От хлынувшего в комнату едкого дыма у нее перехватило дыхание.
– Джинджер! – воскликнул Фред. – Боже, ты меня напугала! Дом погружен в темноту… Этот дым…
Он смотрел, ничего не понимая, на опрокинутые ведра, лужи на полу, трупики насекомых, на искаженное лицо любимой и ее грязное, помятое платье. Он понял еще меньше, когда она бросилась ему на шею и прорыдала какую-то невнятную историю про бисквиты с анисом, ос, гризли.
14. The gentleman is a dope[63]
Миссис Мерл попросила ее сходить быстро-быстро, узнать новости об этой окаянной доставке, ведь, боже мой, боже мой, по телефону ни до кого не дозвониться.
– Купите заодно хлеба, раз уж вы идете, – добавила она, нервно поглаживая рыжую пену своего шиньона.
Магазин располагался в конце Лексингтон-авеню. Дело движется своим чередом, заверил продавец. Да, все сейчас хотят телевизор. Да, они торопятся, торопятся. Да, установка включена. Да, они очень хотят, чтобы шоу Эда Салливана вошло в каждый нью-йоркский дом, и в этом им помогают опытные техники. И коль скоро произошла задержка (о, не нарочно, поверьте!), а эта миссис Мерл отправила к ним такую очаровательную посланницу, «Лекс Электрикс Стор» счастлив предложить компенсацию: вязанную крючком салфеточку с названием магазина, которую можно будет постелить на будущий телевизор, поставить сверху вазу с фруктами, все так делают, это очень красиво.
И Черити пошла домой с салфеточкой в кармане. Она вышла из метро на 59-й улице и решила пройти пешком через Центральный парк.
Она шла бодрым шагом, пока с соседней аллеи до нее не донеслись звуки оркестра. Черити свернула, чтобы подойти поближе.
Оркестр состоял из пяти девушек, наяривавших горячую версию Temptation[64]. Алыми буквами было написано название:
SILLY SALLY AND HER SWINGIN’ SYNCOPATORS
Когда песня кончилась, Черити зааплодировала вместе с остальной публикой. Но когда Тромбон стала обходить публику с желтой лейкой, решилась пойти своей дорогой.
– У меня только деньги на хлеб, – извинилась она.
Мисс Тромбон криво улыбнулась.
– По крайней мере, у тебя есть хлеб!
Подмигнув, она перешла к следующему зеваке. Маленькая собачка подбежала и запрыгала у ног Черити. Сердце ее опрокинулось, как кувшин, и тепло разлилось по всему телу. Она узнала собачку.
– Привет, Черити, – сказал Гэвин Эшли, сдвинув шляпу на свои медные кудри. – Привет, моя красавица.
Мисс Тарелки протиснулась между ними, сжимая в руках свои инструменты, к оркестру, начавшему новую мелодию. Ее цепкий глаз сразу оценил молодого человека…
– Не упусти его, козочка, – шепнула она на ходу.
Черити и Гэвин смотрели друг на друга, пока кларнет Силли Салли играл вступительные такты Strawberry Blonde[65]. Черити хотелось убежать со всех ног.
– Привет, Гэвин, – сказала она наконец. Пальцы ее вцепились в салфеточку в кармане. Она комкала ее, теребила. Только это в ней и двигалось, хотя снаружи ничего было не заметно. – Привет, Топпер, – поздоровалась она с радостно прыгающей вокруг нее собачкой.
Что ему сказать? Она была неспособна, даже на словах, заново пере жить, не расплакавшись, свое ожидание наверху Эмпайр-стейт. Пытку этими часами под холодным дождем, когда замерзли кости, заледенело сердце… Гэвин просунул руку под ее локоть, свистнул Топперу, и все трое пошли по аллее в обратную сторону.
По мере того как они приближались к выходу из парка, с каждым шагом ей чудилась обратная перемотка. Разматывался клубок ее жизни… или бобина фильма. Она шла, и к ней возвращался покой. Фильм она знала. «Любовный роман». Она видела его много раз и каждый раз плакала.
У ограды парка Черити уже знала, что скажет. Она мягко высвободила руку, выпрямилась.
– Простите за тот раз… Вы, наверно, сердитесь на меня, что я не пришла на наше свидание на Эмпайр-стейт-билдинг.
Пальцы Гэвина сжали ее локоть. Стало немножко больно, ей бы хотелось, чтобы боль была сильнее.
– Вы долго ждали? – спросила она.
Он молчал. Наверно, спрашивал себя, не ломает ли она комедию, и это наполнило ее жестокой гордостью. Она чувствовала себя героиней мелодрамы. Она была Ирен Данн в «Любовном романе». Да, она ломала комедию, но он не был в этом до конца уверен. Впервые она чувствовала себя перед ним сильной и твердой.
– Долго? – настаивала она, тараща свои чистые семнадцатилетние глаза.
– Достаточно, – ответил он после паузы и отпустил ее.
Топпер сидел и смотрел на Черити. Она потрепала его по мордочке. Он-то наверняка все понял. Даже если он догадался, что она играет последнюю сцену из «Любовного романа», собака ничего не скажет… Боже милостивый, куда ее занесло!
– В тот вечер шел дождь, – сказала она, опустив глаза. – Кажется, шел.
– Действительно, шел дождь, – согласился Гэвин, но его тону недоставало спонтанности. Он явно забыл. А может быть, и никогда не знал.
О на-то помнила все каждой своей клеточкой. Могильный холод, бесконечный холод, охвативший ее на 89-м этаже небоскреба и отпустивший лишь поздно ночью, когда она лежала в постели, стуча зубами.
– И было, кажется, холодно, – продолжала она совсем тихо, но непреклонно.
– О… Да, бр-р, очень холодно. Мои ноги превратились в ледышки. Но я боялся за тебя. Тебе что-то помешало? Ты встретила кого не надо?
Кого не надо… Да, она встретила.
– …попала в аварию?
Она бросила на него быстрый взгляд. Неужели он все-таки видел фильм? Нет… он упомянул аварию наобум.
– Или другой возлюбленный? Я не сержусь на тебя, Черити. У тебя должна была быть очень веская причина. Иначе быть не может, правда?
– Иначе быть не может, – мягко подтвердила она.
От грусти, от жалости она едва не улыбнулась. Он и вправду убежден, что она не пришла на свидание, и ломает голову, по какому праву имели наглость его продинамить, в то время как продинамил он сам.
– Я хотела тебя предупредить. У меня не было твоего телефона.
– Гадкая, – прошелестел он ей в самые губы. – Зачем ты заставила меня томиться там, наверху? А я ведь даже принес тебе цветы. Желтые розы.
– Правда? – воскликнула она, почти веря ему, и вдруг разволновалась, представив его с букетом, если… если он и правда пришел. – Я так люблю розы. Особенно желтые.
– Идем.
Он повел ее к притаившемуся в аллее цветочному киоску с зелеными перекладинами и купил ей букет из пяти маленьких роз. Они были коралловые, не желтые.
– А теперь скажи мне все.
– Что же?
– У тебя есть другой возлюбленный. Признайся. Это из-за него ты забыла меня в тот вечер.
– У меня нет никаких возлюбленных.
Он всмотрелся в нее. Она не лгала.






