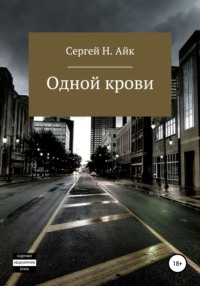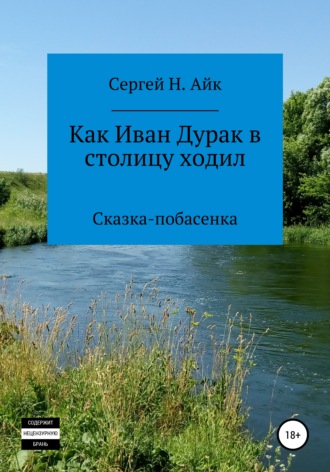
Полная версия
Как Иван Дурак в столицу ходил

Сергей Н. Айк
Как Иван Дурак в столицу ходил
Пролог.
Давно это было…, и даже, очень давно, году так в…, не, не скажу. Скрывать мне нечего, но кому доводилось жить в наших местах, очень меня поймет. Дни у нас похожи, что листья на березе, да и год от года не отличить…
Конечно, полагалось бы начать эту историю как положено…, ну там, жили-были, да вот только язык не поворачивается. И если быть мы еще кое-как были, то уж жизнью все это называть совершенно невозможно. А коли правду-матку, да прямо в глаза, так и вовсе, подыхали мы все деревней. Бывают такие времена, когда наваливается все и сразу, в одночасье. И вот, сколько уже годков с той поры прошло, а по сей день расхлебываем. И когда еще расхлебаем, неизвестно…
Однако правили тогда нами царь да барин. Царь, правда, не тот, что на медных монетах профилем выбит, другой…, то ли сын его, то ли внук, отсюда, кстати, то есть, из нашей деревенской избенки не разобрать, все они, цари то есть, сквозь наше слюдяное оконце исключительно на одно лицо.
Так что не лихие мы какие-нибудь или беглые, а как положено, при царе да при барине, о чем и Именной Указ где-то имелся, что, мол, с землями и тем, что на этих землях есть. Включаяпожитки, избенку да членов семьи отписать в пользование и присмотр…, а барин наш жил рядом, ну то есть туда, к лесу поближе. Мало того, барин был у нас не просто так, а с супругой, дочкой-малолеткой и еще братцем младшим. Барина нашего звали на иностранный манер, Жаном Богдановичем, супругу его, просто Ольгой кликали, Матвеевной, а имени братца…, так и не упомнить. Был он моложе лет на десять нашего барина, в юные годы оказался в ихнем Париже, и там с ним какая-то беда приключилась. Говорили разное, то ли он под лошадь попал, то ли баррикадой его какой-то придавило, то ли с революцией снюхался, от чего и заболел. Слова чужие, я в них не разбираюсь, то есть, что такое лошадь нам известно, а вот кто такая баррикада или там шельма-леворюция…, это уж сами понимаете, извините. Впрочем, болезнь-то мы его видели и даже слышали – говорилон чудным языком чудным, штаны носил срамные и в них же рубаху белую, кипельную заправлял. Однако, тута он не зажился…, убег. Жаловался, что не хватает ему какой-то особенной свободы, видать за ней и махнул, только его и видели.
Чего такое особенное имел ввидуэтот брат, вот вам крест, мне неведомо, но одно сказать следует, что болезни его касательно – бабами нашими он гнушался, так, заглянет иной раз в баню, посмотрит, как наши дуры друг друга вениками хлещут да ржут, поморщиться, белый платочек к морде вскинет и бегом оттуда. Это к тому, что от болезни его заморской нам никакого вреда и не было, хотя дворня поговаривала, что благородное общество и свободу он таки обнаружил в спальне Ольги Матвеевны, но это дело совсем уж барское, и мы туда вовсе никогда и не совались…
Так вот…, убег он значит, да и сгинул безвозвратно, поговаривали, что вернулся в Париж. Впрочем, нам до него дела никакого не было, мы бы даже и вовсе этого не заметили, если бы не барыня. Первоевремя она сильно печальна была, даже в теле спала, собственноручно придушила свою любимую левретку и выбила левый клык у конюха Силантия, когда тот, по заведенному обычаю, подсаживая барыню на лошадь, ухватил ее под юбкой за нежные места.
Но печаль вскорости прошла, Силантий был снова допущен к барским местам на забаву, барыня выписала другую любимицу, а наша жизнь, то есть, крестьянская, тем временем, катилась прямо к оврагу-откосу, хотя, тогда об этом никто еще ничего не знал, да и не догадывался даже…
Однако, как говориться, всякая напасть начало свое имеет. У кого прежде чирей на заднице вскочит, кто палец зашибет, а кто…, тута все по-разному, но примета говорит, что любая напасть начинается с вредительства собственных членов. А что касаемо сказок-побасенок, но тут все равно, с чего начинать, хоть с радости, хоть с беды, потому, как известно, язык он без костей, и мазолю на нем, как не мели, не натрешь…
Глава 1.
…с напасти…, точнее сказать, с необыкновенной напасти. Будь это обыкновенный мор, или, там, неурожай, который еще и градом побило…, ну или пожар, наконец, так это обычное дело. К таким бедам крестьянин привычен. Он где лишний раз обережется, где помолиться, а где и поплачет, а там глядишь, и пережил. А уж если совсем туго, так это к барину, Жан Богданович свиреп бывал, но легко отходчив, и если к нему с правильной стороны подойти, вступался за брата нашего, крестьянина…
Так что случись беда обычная, мы бы особенно и не горевали. А тут…, хотя, началось все конечно, с приезда молодой барыни, Клепатры…, прости нас Господи. Клавдии, конечно. Хотя, тут, конечно, у барынь свои резоны, но из-под родного крова она уезжала именно Клавдией. Тощая, бледная, сисек нет, задница в кулак, одно слово, барское, капризное дитя. А вернулась…, ох, а вот вернулась она уже Клепатрой. То ли так ей пошли на пользу воды заграничные, а может воздух там какой другой…, то нам не ведомо. Главное, вернулась, правда, уже полной сиротой.
Папаша ее, то есть, барин наш Жан Богданович, к тому времени уже как год покоился на барском кладбище. Обычное дело в наших местах, опившись шампанского, в одном исподнем, гонял девок по улице, а дело было зимой, ну и промерз до самых костей…, еле сумели его от лошади отодрать и в баню снести, а уж он, так и не придя в сознание, холодным и помер.
Осталась Ольга Матвеевна после него вдовой. Очень печалилась. Носила черное, зеркала дома завесила, молилась весь день, а по ночам…, прислуга разное о ней плела, говорили даже, что вызывала душу супруга своего. Есть перестала, только водицей да хлебом держалась. Очень сама горевала, ну и другим, конечно, жизнь тошную устроила, особенно, кто был к ней поближе. Так дворня решила ее задобрить, уговорила конюха сыграть вроде как ее усопшего мужа, благо было в них что-то похожее, только от конюха воняло, и пил он не шампанское, а самогон, настоянный на конском навозе, для пущего здоровья.
Подговорили барыню прийти к полуночи, к могилке супруга. Вроде как, с любезным последний раз попрощаться. А Силантий был нужен как раз для того, что бы предстать покойным супругом, с успокоительными речами. Потому как все решили, что она поговорить с ним хочет…, поплакать в родных объятиях, а она как его увидела, как кинулась на него, срывая с себя все черное. Понятное дело, что все хотели помочь барыне, привыкли к ней все, да и жалели, чего греха таить, но выдумка с самого начала была глупая. В общем…, так барыня разошлась возле могилки, что даже повредила себе что-то внутреннее важное и на следующий день от обильной крови померла, не дождалась городского лекаря, сердешная…
Тута все сильно призадумались…. Барыня-то померла, ее жалко, но после нее, все хозяйство без присмотра остается. Это одно, а другое, след оповестить единственную оставшуюся в живых родственницу, Клавдию, стало быть. Вот с этой целью и отправили к ней приказчика, Фому Спирина. Должен он был ей документы предъявить да зазвать молодую барыню, хоть ненадолго, домой, с хозяйскими делами познакомиться…
А приказчик уехал, да пропал…, целых полгода прошло. Где был, что делал – не известно. Про меж нами уже разговор шел, что пристукнули молодого дурака где-то по дороге, хотя, другие говорили, что он вообще убег с хозяйскими бумагами, но слава Богу, все напраслину говорили. Оказалось, что Фома так долго барыню ехать домой уговаривал, но таки уговорил, шельмец. Вернулись они вместе, молодая барыня и приказчик. Как они там друг друга отыскали, неизвестно. Как он ее там уговаривал и почему так долго…, не знаем, но догадаться можем. Однако ж, что-то между ними в дороге произошло. Сразу по возвращению, считай, самым первым делом, ну, сразу после того, как вошла она в дом и сходила на могилу родителей, Клеопатра указала Фоме Спирину на дверь, добавив при этом, чтобы он, подлец, даже и не надеялся на выходное пособие и хорошую про-т-ек-цию, понятно, в общем.
То есть, она много чего еще кричала, стоя на балконе, и размахивая руками во все стороны, она даже обещала забрить нерадивого в солдаты…. И так она при этом была похожа на старую барыню, что дворовые крестились с блаженной улыбкой на лицах. Маленько не доставало крепких выражений, в которых покойная Ольга Матвеевна была большая искусница, но это ведь дело наживное…, любого обучить можно.
Это все к тому, что никакого особого беспокойства не было, все просто выдохнули и вернулись к своим делам. Потому как были уверены, пройдет дорожная усталость, схлынет гордость дурная и все вернется, станет, и было до этого…. Прежде всего, мы думали, что Фома образумится, падет на колени перед барыней, ну, ручку-туфельку там слезно облобызает и отойдет сердце барыни. Куда ни кинься, баба ведь…, но не тут-то было.
И чем они там только дышат, что пьют в этой растреклятой загранице, приказчик на колени не пал, как следовало бы, прощения просить не стал, а развернулся, и той же ночью дал тягу, прихватив с собой, барские документы, ларец с драгоценностями и целый мешок ассигнаций. Той же ночью, стервец. Да еще и свел с барской конюшни скакуна…
Вот они события, все как есть, одно за другим, и не важно, что день прошел, или месяц, или полгода…, потому как, дождь без тучи не идет, синяк без кулака не вскакивает на роже, а баба без сраму не рожает. Одно за другое всегда цепляется.
А Клепатра тем временем сильно загоревала, к слову сказать, ведь и было с чего. И драгоценностей жалко, потому как кузнеца Митрофана, Уральского крепостного, уже нет, отмучился к тому времени, сердешный. Опять же ассигнаций жалко, все-таки целый мешок – когда еще столько наберешь. Ну а самая большая печаль барыни была, понятное дело, стервец-изменщик. Больно он хорош был, и лицом пригож, и телом ладен, ну и что Клепатра особенно ценила, нахватался он в загранице всяких затей, от которых барыня иную ночь сладким криком исходила, чем сильно пугала парижскую скотину, да и простой народ молитвы вспоминать заставляла…
Неделю барыня молодая своих покоев не покидала. Пила кофею по три чашки зараз, в который, для пущей крепости и от нервов капала местный самогон. Ходила по дому злая и нечесаная, тонкой ножкой пинала всякого, кому не повезло встретиться на пути. Нянька-кормилица, что с измальства была при ней, предлагала врача выписать, для излечения нервного расстройства, но почему-то так и не выписала, а потом уж и вовсе ни к чему врач стал, закрутилась-завертелась история эта дальше…
Глава 2.
А дальше было так. Ударила в деревенскую церковь молния, в самый крест, от чего тот, в ту же минуту рухнул и придавил двух поповских коров, которые привычно паслись прямо возле церкви. А молния между тем заискрила, зашипела, свернула, да и пошла вглубь, точнее, в колокол и расколола его. Отчего, раздался страшный, небывалый звон, редкий по своей долготе и силе…. А уж потом всяких несуразностей и бед стало так много, что язык устанет все их перечислять…
Терентий с сыном, косивший в ту пору воровским способом соседскую траву, замер и получил от сына по ногам косой. Он, то есть, сын, он ведь с рождения слух имел слабый, переболел чем-то в сосунках, да так и не оправился. Поэтому, звона того не слышал, а как махал косой, так и продолжал, пока папаша его озирался, да крестился, пытаясь понять, а по какому это случаю колокол звонит.
Верка Кривая, доившая корову, вздрогнула и прихватила Зорькину сиську, от чего корова взбрыкнула и ударила молодого поросенка, путавшегося между коровьих ног и ловившего теплое, парное молоко. Поросенок тут же и сдох, на месте, даже не копнулся.
Игнат, кузнец, молодой совсем, купленный старой барыней перед жуткой своей кончиной, отвлекся и опустил тяжеленный молот прямо себе на руку, из-за чего деревня опять осталась без кузнеца, ну а Игнат без руки…
Помер старик Яков, потом еще один…, что жил на самом краю деревни…, хотя, он мог и раньше помереть, потому как был нелюдимый, просто собака его руку к церкви притащила, вот тогда уже опомнились, и к нему заглянули. А уж что касается преждевременных родов, как удачных, так и нет, что у баб, что у скотины, так это и вовсе не пересчитать.
И уж совсем неожиданно, бывший на царской службе пушкарем, аж в самой столице, Мирон, двоюродный брат Верки Кривой, уронил себе на ногу пушечное ядро, из-за чего, пушка стрельнула не ко времени и енирал, царев слуга, опоздал с предобеденной рюмкой водки. Из-за чего и обедал без аппетита, и дела всякие спешные на час отложил…, а Мирона, конечно, за такую провинность заковали в железо, и как был, хромого, отправили с ближайшим этапом в рудники.
Вот так-то, ну и наконец, три дня спустя, то ли с того же, то ли сам по себе загорелся барский овин. И хотя по тому времени он был пуст и открыт для проветривания, из-за искр, что взлетели столбом и были разнесены ветром, выгорела, без малого, треть соседской деревни. Хорошо хоть так, а ветер мог и в нашу сторону повернуть, тогда бы бед стало и вовсе не счесть. Коротким словом, дорого обошлась всем и заграница, и смерть старого барина со своей супругой, ну и конечно, женская тоска барыни Клеопатры, а уж о предательстве Фомки Спирина даже и говорить не стоит, всю деревню подвел, сучонок эдакий…
Однако, ежели кто посчитал, что на этом все и закончилось, тот крестьянской жизни совсем не знает. Потому что в деревне всегда так, стоит начаться бедам, ничто их не остановит, пока они сами не иссякнут, как родник в лютую засуху. В тот год и хлеб не родился, и скотина мерла, а под конец, нанесло ветром какую-ту заразу на деревенских мужиков. Троих зараза эта свела в могилу, а остальные до первого снега маялись, да лечились всеми народными средствами. Но последней каплей, как это обычно и случается, стал Указ царя-батюшки о том, что собирается он воевать какую-то заокеанскую Тмутаракань, и для этой цели готов объявить моб-бли-бля-лизза-и-цию…
Так-то все знают, мужик наш он терпеливый, что хошь вынесет, но когда вот так, да одно к одному, а потом еще и поверх этого, тут уж конечно, никакого терпения не хватит. Крепко загрустил наш мужик, а значит, и запил крепко, и тут уж пришло время и бабам выть, да и как иначе, если дня без тумаков не обходится, а хозяйство рушится, а горькая, зараза такая, что река в разлив, никак не заканчивается…
Как известно, когда все так укладывается, то либо деревне гореть, либо мужику за вилы браться, благо в каждом дворе не одна пара возле сарая пристроена, ну, чтобы всегда под рукой. Пожар, как известно, в тот год деревню уже посещал, так что мужики сразу перешли к бунту, залив глаза с самого утра, наоравшись возле дома старосты, так что горло только рычать могло, да кашлять, похватали вилы да и двинулись к барскому дому, с одной только целью, разорить барское проклятущее гнездо.
Бабы с детьми в большинстве своем попрятались, так как никто не хотел под горячую руку угодить. И в прятках этих, по чуланам, да сараям сами молились крепко, да дочерей научали, что след делать в такой беде. А еще, конечно, плакали в голос, в надежде, что мужики образумятся. А те, уже громили барский дом, искали сокровищ, спрятанных в тонкой китайской посуде, да разыскивали барыню Клеопатру, со справедливой целью совершить коллективное насилие.
А тут и барыня сама им навстречу, простоволосая, босиком, в одной ночной рубахе. Сама под ноги кинулась и заголосила не хуже любой деревенской бабы…
– Милые вы мои, чем же мне помочь вам?! Сама, скоро по миру пойду! Забрал, паршивец приказчик, и драгоценности, и ассигнации, и бумаги наследственные. Сама горе мыкаю…, – зарыдала, рванула рубаху, нашла меж грудей крестик и поцеловала при всех, – а ежели хотите тело мое на поругание, то вот она я, лютуйте родные, слова не скажу…, мне и так свет не мил.
Мужик наш, он, конечно, того, дикий, особливо когда пьяный, но ведь все равно не зверь, не без внутренней души. Так что остановились они, бить-ломать перестали, стянули кафтан, да барыню им накрыли, от соблазна, да и так, на всякий случай, от сквозняков, то есть. Правда, забрали шторы с гостиной, извинились, как смогли, ну и потупив глаза, вернулись в деревню в великой тоске. И такая это была тоска, такая тоска…. Горькая поперек горла встала, а за дальними холмами, нарисовался он самый, Конец света, весь как есть.
Такая тоска для нашего мужика самая опасная, потому что в ней бездна бесовская, заглянув в которую иной в монастырь идет со страху, иной в разбойники, а те, которые послабже или с недугами внутренними, так и вовсе, мрут без причины. А мужики тем временем молча разошлись по домам, молча же достали чистые рубахи и белые подштанники. Бани затопили, и это несмотря, что до субботы еще целых три дня оставалось. И пока бабы, замолчав от страха, потому как, и им не доводилось видеть столь адской картины, даже и не знали куда лучше спрятаться, поэтому просто перебегали из одного угла в другой, да за занавесками прятались. Мужики же и веревки приготовили, и мыльцем запаслись. Иные же дров нанесли побольше, да возле порога тщательной поленницей сложили. А другие, засев во дворе, насвистывая незнакомые посвисты, принялись косы отбивать, да точилом их править…. И такая тишина встала над деревней, такая тишина…. Ни птичка, ни скотинка не рискнула в такой критический момент подать голос, потому как было бы то знаком, опосля которого ничего уже остановить невозможно…
В ту пору, на другом краю деревни жил дедок один, местные звали его Сучок. Привезла его в деревню Ольга Матвеевна в свои молодые годы, было это еще перед свадьбой, в ее первую столичную поездку. Сейчас уже и не вспомнить, чем тогда еще молодой и горячей барыне Ольге приглянулся молодой Сучок. Хотя, конечно, соображения всякие имелись, только, как теперь их проверить, если главных участников в живых уже и нет, а некоторые вещи человеческая память вообще плохо сохраняет. Так, например, уже и не узнать, какое имя получил Сучок от своих родителей, а нынешнее дали ему местные бабы…, шепотом, конечно, а вот же, прижилось. Так вот, к тому моменту Сучок был самый настоящий дед, ходил с костылем, коим имел привычку размахивать, будучи в великом раздражении. Вел свое немудрящее хозяйство, числился в одиноких, хотя злые языки, а других в деревне и не найдется, чесали про то, что сучок старика еще очень даже пристраивается к известным бабским местам. А мужики только плечами пожимали, мол, от нас не убудет, а одинокому старику, почему бы напоследок не потешиться.
Так вот, Сучок этот, а дело было в церкви, куда бабы сбежались голосить по поводу странного поведения своих мужиков, открыл глаза, прислушался к бабским воплям и сказал, что знает, как можно все дело исправить.
Где-то через час, перед его домом собралось все деревенское обчество.
– Слушайте, сирые, раз нам и барыня не помощница – одна у нас дорога. Идти к самому царю-батюшке и просить его заступничества, или, хотя бы мудрого совета.
Мужики сначала хотели его на смех поднять. Да оно и понятно, как это возможно вообще, из их деревни, из глухомани медвежьей, идти к самому царю, да еще его и просить. Хотели даже сначала делом обидеть старика, но Сучок костылей своей размахался и заорал:
– Дурни вы, а кто же как не царь нам поможет?! Мы его верные подданные. Подати – платили, молодцов в солдаты – посылали, бунтов и разбоя не чинили. Так ведь?
– Так-то, оно конечно так, что мы, нехристи какие?!
– Вот-вот, за царское здравие, и за здравие министров молимся.
– Молимся, конечно.
– А как же…
– Вот, а я о чем говорю, – продолжил дед, – если мы добрые люди, почему же царю-батюшке о нас, горемычных, не позаботиться? Пошевелите своей мозгой. Надо только бумагу правильно написать, да человека верного послать, чтобы и с умом был, и честный…
И такой тут гвалт поднялся, даже и не понятно с чего, орали все, что мужики, что бабы, ну и конечно мальцы, ну, последние, правда, просто с перепугу. Пришлось выжидать, пока шум угомонится…
– Тута, – продолжил Сучок, – важен подход. Первое, надо составить бумагу, а это дело серьезное, на ногах не решишь, поэтому, бабы – геть, домой, хозяйством заниматься! И мелких прихватите, чтобы почем зря по улице не шастали, потому как, дело намечается очень серьезное и не короткое.
Самый большой дом в деревне, не считая конечно, барских хором, был у попа, батюшки Калистрата. К нему-то народ, всем числом и направился. Батюшка Калистрат был мужик с понятием, сам в свое время крестьянствовал, выслушал их на пороге, бороду почесал, да и пригласил в дом, в самую большую комнату.
– Проходите, присаживайтесь, где место найдете.
– Спасибо, батюшка Калистрат, ты бы и сам, присоединился бы к нам, глядишь, подскажешь правильное слово, – предложили мужики.
– Спасибо, на добром слове, и на доверии, конечно, – поклонился поп, – но я от дел мирских напрочь отошел. Однако, пока вы тут делом занимаетесь, я за вас непременно помолюсь, а там, глядишь, Господь подскажет, что делать.
– Спасибо тебе, батюшка…
– Я попадье скомандовал, чтобы она самовар поставила, хмельного не предлагаю, потому как понимаю, что разговор пойдет серьезный…
На том и порешили. Отец Калистрат молиться пошел, попадья его, мать Ефросинья, то есть, вскорости и самовар подала. А мужики, к тому времени и без хмельного гудели пуще разбуженного пчелиного роя…. Перво-наперво, беды свои вспомнили, насчитали общим число сотни полторы и приуныли. Тут, правда, сразу надо сказать, считать они, так себе мастера были, ну еще первый десяток без ошибок, ну второй, если по трезвой голове, а уж что подалее, так вообще тьма кромешная. Чуть было не подрались, но опять Сучок встрял.
– Не дело так, мужики, не дело. Уже вечереет, а мы только попусту воздух мелем. Не так надо.
– А как, – спрашивается.
– А вот правильно было бы, сразу человека сюда посадить, чтобы он сразу же, за нами и записывал…
Грамотеев, понятное дело, в деревне выбор небольшой, пришлось снова к батюшке обращаться, тот спорить не стал, только предупредил, что в светском алфавите не силен, больше церковный разумеет, но для памяти достаточно будет и этого. Матушка Ефросинья к тому моменту уже третий самовар кипятила, так оно, с чайком да матерком, дело с мертвой точки и сдвинулось…
Мужики, между тем, уже следующим кругом по своим бедам пошли, словно запомнить стараются, или, к примеру, от повторений этих, бед их крестьянских меньше становиться…. В общем, дело за полночь. Кое-кто уже дремать настроился, а иные, уже и выспаться успели, и поновой в разговор встряли. А дело-то, как было в самом начале, так все там же и стоит. Тут ведь нашего мужика знать надо, он, когда серьезный разговор затевает, то на одном месте мыслью удержаться не может, он ведь обо всем поговорит, и про урожай, и про скотину, которая то болеет, то мрет, то плодиться перестает. Опять же про молодых, потому как, поколение молодое, раз от раза, все бестолковее становиться, все непочтительнее. За баб, надо пару слов замолвить, которые, тоже, зверь беспородный, чудной, но в хозяйстве, все-таки нужный. Ну и так далее, и тому подобное. Это собраниеисключением не стало, начали за здравие, по упокою прошлись, а конца по-прежнему, не видно. Не известно, чем бы все закончилось, однако, вмешался отец Калистрат…
Отложил бумагу, поднялся, оглядел общество, а мужики расхристанные сидят, мокрые все, в глазах туман, и дух невозможный, тяжелый…
– Ну что, мужички, – поинтересовался батюшка, оглядывая собравшихся, – решили мы вопрос, а то мне пора молиться пришла?
– Какой вопрос, – переспрашивают ошалевшие мужики, и удивленно так, чисто дети, смотрят на отца Калистрата.
– Ой, лапота, ой, бестолковые, – вздохнул батюшка Калистрат, – вы зачем ко мне просились? Зачем меня писать заставляли, почему от хмельного отказались, а, сирые?
– Дык мы это…
– Ну, того…
– А…
– А чего это мы, правда…
Одним словом, ничего они в первый раз так и не решили. Да и во второй раз тоже – просидели с обеда до глубокой ночи без всяких перерывов, да только запутались в словах своих, не говоря уж про мысли, так ни к чему полезному и не пришли. Потребовался третий раз, тут уж сам Бог велел разобраться. Пришли они опять к отцу Калистрату, расселись мирно, спокойно и заговорили, наконец-то, о деле…, уложились всего-то в полдня. Оставалось только красиво переписать бумагу, а для этого…
Глава 3.
А вот этот в любой истории есть, его даже и звать по-другому могут, но он есть всегда. Конечно! Какая может быть история, если нет Ивана, и хорошо бы, чтобы непременно Ивана Дурака…
Этот Иван проживал в избушке на самом краю барского сада. Хотя, как проживал – больше лежал под яблоней, а иногда под грушей или вишней-черешней, зависело от того, что на тот момент поспело. Пробовал лежать в малине, так комары-мошки заели, в крыжовнике – слишком много иголок оказалось, так что лакомился он ими мимоходом. Правда, поначалу на Ивана возлагали кое-какие надежды, может даже намеревались к должности какой пристроить, обучали счету, грамоте и письму, а что касается барыни, матери Клепатры, так она хотела обучить Ивана еще кое-какой науке, но оказалось что годков Ивану маловато, пришлось отложить. Хотя, в свои шестнадцать смотрелся он статным, да еще и красивым парнем, на которого было грех не позариться. Что именно остановило Ольгу Матвеевну, неизвестно, но почему-то смущал ее Иванушка. Вот и погнала она его прочь со двора, подальше от соблазна, а кроме того, сильно он напоминал ей одного офицера, с которым она то ли по молодости, то ли по замужнему одиночеству была в связи…