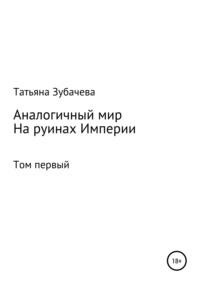полная версия
полная версияМир Гаора. Сторрам
Он уже понял, что это кто-то из охранников выпускает рабов в неположенное время, и понятно, что делает это не за так. Хорошо, пачка с собой. Гаор достал и приготовил в кулаке сигарету.
– Лезьте.
Охранник стоял у двери чёрным неразличимым силуэтом, держа в одной руке маленький фонарик, которым высвечивал заклёпки на их ошейниках, а другой принимал у проходящих мимо него сигареты. Как все, Гаор сунул приготовленную сигарету в ладонь охранника и короткой перебежкой, пригнувшись, пересёк освещённое пространство, укрывшись в густой чёрной тени от стены, напротив двери.
Они устроились в ряд на корточках и закурили. Закинув голову, Гаор попытался определить источник света, совсем не похожий на прожекторный. Луна, что ли? Если полнолуние, то возможно. Небо чистое. Он нашёл знакомые созвездия, вдохнул морозный, щекочущий ноздри и губы воздух, смешанный с сигаретным дымом.
– Эй, шестой где? – вдруг спросил так же стоящий в тени и потому практически невидимый охранник.
Гаор сообразил, что остальных выдают сигаретные огоньки, а он свою слишком хорошо прячет, и приоткрыл кулак.
– Вижу, – подтвердил охранник. – Фронтовик?
Это уже требовало ответа.
– Да, господин.
– Пересядь, чтоб я тебя видел.
Гаор перешёл на освещённую сторону.
– Левее, дурак.
Здесь выступ стены тоже давал тень, но не такую густую. Гаор послушно пересел.
– Вот так, – удовлетворённо кивнул охранник.
Теперь Гаору были различимы сидящие в тени рабы и стоявший в стороне и тоже куривший охранник. Того выдавал не только огонёк сигареты, но и блеск висящего на груди автомата. Невелика зарплата у охранника – усмехнулся про себя Гаор – если так себе на сигареты зарабатывает. А ведь и он мог оказаться на его месте. В надзиратели бы он не пошёл, даже ничего ещё не зная, а в охранники… Но в надзиратели ему и не предлагали. В Центре Занятости, куда он регулярно ходил, заполняя каждый раз заново анкеты и тесты, предлагали разное. Надзирателем – никогда. А в охрану звали. Многие считали это наилучшим вариантом, но ему слишком не хотелось опять козырять и тянуться. Разовые подработки оставляли больше времени для газеты, ведь он, даже не состоя ни в штате, ни в Союзе журналистов, считал себя, прежде всего, журналистом. Хорошо, что не пошёл. Попал бы в одну смену с той же сволочью… а охранника матери отнимать у смерти бы не стали, и избили бы его по-другому, он бы, может, даже успел бы выстрелить, а потом… Так хреново, а этак дерьмово. А вот что за недомерок там курит? И к Турману прижимается. И тут же сообразил, что это женщина, и, скрывая улыбку, опустил голову. А женщинам сигарет не дают, так что Турману эта прогулка влетела… бабе дай, за бабу дай, себе и за себя. Четыре сигареты. Не хило. Широко гуляет Турман. Не замечал за ним такого. А вон ещё одна женщина. Значит, две пары и двое сами по себе.
Сигареты докурены до обжигающих губы остатков, которые тщательно растираются в пыль. Охранник показывает им автоматом на дверь. Опять перебежками к двери, и они, на бегу благодаря охранника, втискиваются в тесный душный закуток, и за ними щёлкает, закрываясь, дверь. Снова путь через тёмную столовую, приоткрывается на щёлочку дверь, в которую они протискиваются по одному, и кто-то, так и оставшись невидимым, запирает её за ними.
Коридор уже почти пуст, значит, отбой скоро. Ни удивлённых взглядов у встречных, ни вопросов.
Вдвоём с Полошей Гаор вошёл в мужскую спальню. Сидевший на своей койке справа от двери Старший озабоченно рассматривал свой ботинок и даже головы не поднял, когда они проходили мимо него. Правила – понял Гаор – те же, что и с вещевой. Знаешь – знай, а не звони. И всё же не удержался. Умываясь на ночь, встал рядом с Полошей и тихо сказал:
– Спасибо.
– Дежурит он редко, – вздохнул в ответ Полоша.
И Гаор понимающе кивнул. Разумеется, как опознать этого охранника, кто подаёт сигнал, что можно, кто был в столовой, впуская и выпуская их, он не спросил. Жизнь дороже любой информации. Ну, если не любой, то эта точно жизни не стóит. А что за лишнее любопытство отвечаешь жизнью, он ещё по фронту знал. Сам даже раз укорачивал язык такому чересчур любопытному, что вздумал у них выяснять всякие ненужные командованию подробности и детали. Болота в Алзоне глубокие, гати узкие и неустойчивые, оступился – и никакая прокуратура, ни военная, ни, тем более, штатская не найдёт. А жизнь на фронте легко списать. Легче испорченной амуниции, сгнивших сухарей или разбитой машины. Самое дешёвое на фронте – жизнь солдатская.
Выдачи две или три прошло, пока ему опять Полоша не сказал:
– Курнём?
Он понял, что его догадка: курить – это в умывалке или на дворе в выходной, а курнуть – на воле, – правильна, и кивнул.
Всей воли – закуток за рабским корпусом, а всё равно. Рядом сидит, прижимаясь к нему, Веснянка и курит частыми мелкими затяжками.
Зима, 7 декадаВ выходные вечера часто пели. Обычно, уже разойдясь по спальням на ночь, когда до отбоя оставалось всего ничего, все лежат по койкам, но не спят и свет не выключен, кто-то, каждый раз другой, начинал песню, к которой присоединялись, подваливали остальные. Пели все. И он тоже. Когда знал слова, того же «коня» – там уже почти все слова выучил, то со словами, а нет… вёл голосом мелодию. Закончив песню, немного молчали и начинали следующую. Запевал уже кто-то другой. Обычно мужская и женская спальни чередовались, будто разговаривали песнями. После третьей, изредка после четвёртой песни входил надзиратель и командовал отбой, задвигал решётки и выключал свет.
За всё время ни разу Гаор не услышал знакомой песни или мелодии. Но и сам понимал, как нелепо бы здесь звучали маршевые и даже окопные песни, не говоря уже о тех, под которые танцевали. Не было и тоже известных ему «блатных» песен: уголовных или «блатяг» не любили, как он ещё в отстойнике понял. И то, как его встретили. Ворюга или мочила. Других ведь среди обращённых нет. Только Седой, тот мужчина на торгах с треугольником, нет с треугольником двое, у Ворона тоже треугольник, увидел случайно, когда оказался рядом с ним в душе, тот как раз голову мыл. Треугольник в круге, значит, долг выплачен, и Ворон считается прирождённым, видно, поэтому и терпят его. Но не дружат. И вот он сам со своей пятилучевой звездой. Четверо. А их только здесь две сотни, а сколько ещё, рождённых в рабстве, рабов от рождения? Система, конвейер… Хотя и он иногда даёт сбои. Но тоже по хозяйской воле…
…Веснянка лежит щекой на его плече, гладит ему грудь. Рядом как всегда кто-то сопит и покряхтывает. Даже мысленно он не позволяет себе узнать голос. Незачем.
– Рыжий, Рыженький, – шепчет Веснянка так, будто целует его шёпотом. – Любый мой. Были б мы в посёлке.
– И что тогда? – поворачивает он к ней голову, встречаясь губами с её ртом.
– Ох, – наконец отрывается она от его губ, – жаркий мой. Родила бы от тебя. Чтоб тоже рыжим был. Огоньком бы звала.
Такое кощунство немного задевает его, но совсем чуть-чуть, это же не может быть всерьёз, чтоб человека с Огнём в имени ровнять.
– Так за чем дело стало? – наклоняется он над ней.
Веснянка тихонько смеётся, прижимает его к себе. Он уже знает, как и насколько резко может ворочаться в тесном пространстве под стеллажом вещевой, и больше с ним таких казусов, как в первый раз, не бывает. Дразнят его, правда, до сих пор, и, как он понимает, ещё долго будут дразнить, рассказывая, как Рыжий в раж вошел, дорвался, понимашь, и все полки у Мааньки обрушил. Сам смеётся со всеми, уж больно складно у Сизого получается.
Веснянка охотно поддаётся ему, а той, первой, ведь не понравилось по-ургорски, так и не показалась ему потом, не позвала больше. Он так и не знает, кто она. А Веснянка сама к нему на выходных играх подошла, в «ручейке» выбрала, и потом они целовались в полутьме за углом, совсем уйти со света он не рискнул, боясь нарваться уже не на дубинку, а на пулю – за попытку к бегству огонь на поражение. И все ещё гомонили и играли, благо погода хорошая, а они ушли вниз, порознь как положено, разошлись по спальням и встретились у вещевой. Дверь приоткрыта и внутри темно. Значит, можно. Так и пошло у них. Хорошо пошло. Да и он уже не дёргался, чтоб по-ургорски, сзади, как ему привычно, а стал как все, по-нашенски, лицом к лицу.
Гаор замер, уткнувшись лицом в рассыпанные вокруг головы Веснянки её чуть влажные от пота волосы и, тихо соскользнув, лег опять рядом, уплывая в тёмную воду беспамятства. Рука Веснянки тронула ему волосы, расправила, накручивая на палец, кудри на лбу.
– Тебя матерь твоя Кудряшом, наверное, звала. Или Кудряшиком?
– Не помню, – ответил он, – нет. Вроде нет.
– А как?
– Не помню, – повторил он уже чуть более сердито.
Не любит он таких разговоров. Слишком по сердцу они его бьют. Веснянка поняла и замолчала. И ему стало уже немного не по себе, что чуть не обидел её ни зá что.
– Ну, так как? – решил он вернуться к их тому, прежнему разговору. – Родишь от меня?
Она невесело засмеялась.
– Да не в посёлке ж мы. Здесь хозяин не даёт нам рожать. Он нас не на расплод покупал, по-другому работáем.
– Как это не даёт? – не захотел он понять.
– Глупый ты, Рыжий. Таблетки такие есть, вроде фишек, тоже беленькие. Вот раз в три выдачи нам их и дают, и глотать при себе заставляют, и в рот смотрят, проглотила иль нет. А коли всё хорошо, то конфету дают, чтоб заесть. Горькие они, во всём горькие.
Он молчал, прикусив изнутри губу, чтоб не закричать, не выругаться по-страшному. Слышать он о таком, конечно, слышал, даже читал. «Запечатать сосуд» называется, но не задумывался. А оно, значит, вот так, совсем просто, таблетка в три выдачи, и не по своей воле, а по хозяйской. С рабами, значит, и это можно. А она всё гладила его по груди, не лаская, а успокаивая…
…Гаор потягивается под одеялом, забросив руки за голову, устало прислушивается к ночному, «казарменному» шуму спальни. Всё спокойно, хотя опять видел на вечернем построении эту сволочь. Ну, авось обойдётся. Вроде тот не дежурит, так подошёл, посмотреть. Говорили ему, что того теперь только на наружную охрану ставят. Но всё равно, неприятно. Спецвойска, спецовики, спецура… Самая отъявленная сволочь там. Болтали, что кто человек, так тех они сами забивают. Не верил. Знал, конечно, что за гады там служат, но чтоб такое… а теперь думает: правду болтали. Хорошо, Седой «мозготряс» свой на корню зарубил, ещё б спецуре «мозготряс» и тогда всё, кранты и амбец полный. А так… так ему случалось и обыграть их. Когда и вчистую. Как тогда, в Алзоне. Полное отделение, боевая дюжина, двенадцать человек вместе с машиной он на дно отправил. И не жалел, и не жалеет о сделанном. Только одного боялся: с ними офицер был. А хоть и младший лейтенант, а всё же не солдат и не сержант. Такого могут и посерьёзнее искать. Но обошлось. Никто об этом не знает, а то бы ему уже давно перед Огнём Справедливым стоять пришлось. А здесь говорят Ирий-сад. Как там у него в папке?
Листы пополнялись. Статью про Седого он уже почти сделал. «Вылизывал» её теперь, зачищая все шероховатости, аккуратно оставляя пропуски на месте дат, номеров и некоторых названий. Этого ему, к сожалению, сейчас не сделать. Статью про отстойник, печку и пепел пришлось всю перечеркнуть и начать заново. Для серьёзной работы у него нет данных, а для зарисовки… одни вопли, да и кого это зацепит? Чтоб страх прочувствовали в чтении, не надо писать: ой, как страшно. Нет, тоже пока только выписки, сбор информации, а эмоции на потом. Третий лист, стремительно разрастался, постоянно вычёркивались усвоенные и вписывались новые слова, он их уже начал потихоньку разбирать, отделяя то, что могло хоть как-то вывести его к первой, открывающей лист, записи, где под словом ургоры красовался жирный вопросительный знак. Ничего, кроме, тутошних и исконных он пока вписать не может, а это не ответ, а уход от ответа. Он ещё раз просмотрел лист, вложил его в папку и завязал тесёмки. Всё, спать – отдал он самому себе приказ.
Зима, 8 декадаГаора всё чаще стали дёргать со склада, то на расчистку снега, то в гараж осмотреть и заново отрегулировать «коробочку», в поездки, правда, не посылали, то помочь на другом складе, на внешней погрузке, несколько раз возил товары в зал, то ещё что…
– Шило у них в заднице, что ли ча, – ворчал потихоньку Плешак, – совсем работáть не дают.
Гаор чувствовал себя виноватым перед Плешаком, ведь когда его дёргают, Плешаку опять одному ворочать, но и не сам же он просится или отлынивает, его дело подневольное: куда хозяин пошлёт, туда и иди… вперёд и не оглядываясь.
И ещё был у него с Плешаком инцидент. Правда, обошлось, но Плешак целую декаду смотрел на него… ну, если не как на врага, то с подозрением. А всего-то и было, что вскоре после Нового года, когда его никуда не дёрнули, они, как обычно, «играли в слова», и Гаор спросил:
– Плешак, а вот криушане, волохи, а ещё какие есть?
И у него на глазах Плешак побелел, как, скажи, он ранил его, и вся кровь вытекла.
– Плешак, – даже испугался Гаор, – что с тобой?
– Ты… – наконец выговорил непослушными, дрожащими губами Плешак, – ты… откуда… ты что… это ж…
– Что «это»?
Гаор ничего не понимал. Наконец, Плешак отдышался и начал его ругать. Да так, как он за всю свою жизнь ещё не слышал. Гаор терпеливо переждал ругань, чувствуя, что это не так со зла, как от страха и растерянности. Похоже, он затронул нечто, действительно…
– Ты жить хочешь? – закончил Плешак неожиданным вопросом.
– Хочу, – согласился с очевидным Гаор.
– Тады молчи об этом, вмёртвую молчи. И кто тебе только вякнул про это?!
«Ты и вякнул», – хотел сказать Гаор, но предусмотрительно промолчал. А то у Плешака и разрыв сердца может быть. Но… кое-какие мысли у него и раньше появлялись, и кажется, он в своих предположениях оказался прав не на сто, а на двести процентов.
– Нельзя про это, – успокоившись, Плешак заговорил непривычно тихо и серьёзно. – Всем смерть тогда. И кто сказал, и кто слышал. И не просто смерть, а… не могу я, Рыжий, страшно это. Если услышит кто, да дойдёт, ты ж не на себя там иль меня, или ещё кого, ты на посёлки смерть наведёшь. Всем тогда зачистка, помнишь, сам рассказывал. А никого не останется, тады что? Нас и так-то мало осталось, а тогда… молчи, Рыжий, клятву брать с тебя нельзя, не на чем здесь, да и что вам клятвы, вы ж…
Плешак не договорил, а Гаору стало по-настоящему страшно. Таким отчуждённо горьким было это «вы», «вам».
– Я не чужой, – глухо сказал он, – мне здесь «мы».
– Не чужой, – согласился Плешак, – вот и блюди себя.
И упрямо замолчал до конца смены. Гаор понял, что если Плешак скажет кому об этом, что он затронул… запретное, то ему конец. Он жив только потому, что его приняли в «свои». А чужаком он загнётся в полдекады, даже если его просто не убьют первой же ночью, накрыв одеялом или ещё как.
Но, похоже, Плешак промолчал, и лёжа в ожидании отбоя, Гаор достал третий лист и вместо вопросительного знака аккуратно написал: криушане, волохи и поставил многоточие. Два имени он нашёл. Имена истребляемых и не истреблённых племён. И Седой прав: память жива, и хранятся язык, обычаи… Как сказал Ворон? «Ургоры должны сохранить себя, ты опускаешься». Он вспомнил, о чём подумал тогда. У Валсы несколько течений, друг над другом, и на островах они расходятся. Когда плывёшь по течению, тебя несёт мимо островов, но стоит нырнуть, опуститься в другое течение, и оно понесёт тебя уже в другой рукав. Да, он опустился. В другое течение, и теперь его путь другой. Ургоры… у них есть всё: армия, Ведомства Юстиции, Крови, Рабское, спецвойска, а у… должно быть общее название. Ургоры – Сто Семей. Значит, криушане, волохи, ещё кто-то и общее название. Так, у них ничего, кроме памяти. Как сказал Плешак? «Нас и так-то мало осталось». А Ворон? Что ургоры потеряли ещё одного. Значит, и Ворон что-то знает. И молчит. Ладно. Он тоже будет молчать. Прав Седой: ни один обыск этот лист не найдёт и не достанет. Но он не отступит. А в атаку с голым задом не ходят, подготовь тылы, и только тогда рыпайся. Подготовь тылы, следи за флангами и на прорыв? Хренушки вам. Минное поле проверь сначала.
За декаду Плешак успокоился, видно, понял, что Гаор будет молчать, и постепенно их разговоры о том, какое слово что значит, возобновились. Тем более, что Гаор был теперь осторожен и старательно учил обыденные расхожие слова, уже зная, куда не стоит соваться. У остальных он отчуждения не чувствовал, с ним охотно трепались в умывалке, расспрашивая о фронте, зоопарке, ещё всяких известных ему и незнакомых этим людям вещах.
Поговорить с Вороном о Крейме-Просветителе пока не получалось, но Гаор сам вспомнил. Был такой, лет где-то двести с небольшим назад. Учился в Университете, жил в своё удовольствие, и вдруг бросил всё и ушёл проповедовать в рабские посёлки, опустился и жил как дикарь, и был убит ими. Насчет последнего у Гаора теперь возникли вполне серьёзные подозрения, что к смерти Крейма причастны совсем другие силы. И кстати, откуда у спецуры этот знак: глаз на ладони. Тоже ведь неспроста. Аггел, как же мало он знает. За что ни возьмись, упирается в одно: так заведено, так всегда было. Сплошные традиции, обычаи и обряды, а под ними…
Усталость редко давала ему возможность додумать, он засыпал, но на следующий вечер упрямо начинал с того, на чём остановился накануне.
А однажды вышло совсем неожиданно.
.
Зима, 9 декада, 10 деньБыл выходной вечер. Он наигрался с Веснянкой, потом как обычно вымылся в душе, приготовил всё на завтра и успокоено лёг, ожидая пения. Сегодня дежурила надзирательская смена, дозволявшая песни.
Спели начатую женской спальней песню, и когда отдыхали, словно выжидая, кто начнёт, вдруг подал голос Булдырь.
– Рыжий, а ты что, песен совсем не знаешь?
– Почему? – удивился Гаор. – Знаю.
– А чего тогда без слов поёшь?
Расслышать в мощном многоголосье один голос, разобрать, чей он, и определить, что поют без слов, просто ведя мелодию… надо уметь!
– Этих не знаю, – честно ответил Гаор, – я их раньше никогда не слышал.
– Ну, так ты теперь свою спой, а мы послушаем, – предложил с плохо скрытым ехидством Булдырь.
– Булдырь, отзынь от парня, – сказал Асил.
– А чего ж нет? – возразил Гаор.
И сам не зная почему запел не какую-нибудь из фронтовых, а там хватало и «озорных», и «душевных», а ту старинную, что разучивал с ними ещё в училищном хоре смешной маленький хормейстер. Они её не любили: она требовала многоголосья, а орать в унисон маршевые было намного легче. Но может именно поэтому, что он привык уже к другому пению, Гаор и начал её, хотя был уверен, что забыл. Но слова сами собой всплывали в памяти, точно и уместно укладываясь на мелодию.
… Вечерний звон, вечерний звон!Как много дум наводит он.О юных днях в краю родном,где я любил, где отчий дом.И как я, с ним навек простясь,там слушал звон в последний раз!Мерная и одновременно протяжная мелодия, и слова… аггел, как же он раньше не понимал их, это… это же и о нём, да теперь это о нём. Гаор пел, не замечая, что уже несколько голосов ведут вместе с ним мелодию, без слов, создавая тот многоголосый фон, который не заглушает, а помогает словам, чего так и не мог тогда добиться от них хормейстер.
…Уже не зреть мне светлых днейвесны обманчивой моей.И скольких нет теперь в живыхтогда весёлых, молодых,и крепок их могильный сон,не слышен им вечерний звон…Песню поддержали женщины, похоже, пели уже все, но ни одно слово не терялось.
… Лежать и мне в земле сырой,напев унылый надо мнойв долине ветер разнесёт,другой певец по ней пройдёт,и уж не я, а будет онв раздумье петь вечерний звон[1]!Гаор дотянул последнюю ноту и замолчал. Наступила зыбкая неустойчивая тишина. И вдруг тяжёлые шаги надзирателя, лязг задвигаемых решёток, и… не дав команды отбоя, не приказав им заткнуться и больше не выть, надзиратель ушёл, хлопнув дверью надзирательской, и тут же погас свет.
Гаор сполз под одеяло: петь лёжа он так и не научился, и пел полусидя, опираясь спиной на скомканную для мягкости подушку – и успокоенно закрыл глаза. И вдруг хриплые сдавленные звуки. Он даже не сразу понял, что это, а, поняв, почувствовал неодолимое желание спрятаться под одеяло и затихнуть. Это рыдал Ворон. В спальне прежняя тишина, и вдруг лёгкие скользящие, а не ступающие шаги и быстрый женский шёпот.
– Ну, что ты, ну, не надоть… ну, миленький, не надоть так, не надрывай сердца…
Гаор накрылся с головой и зажмурился, боясь тоже заплакать. Что-то близко у него слёзы стали, раньше так не было. Мужчины не плачут, вот и давится Ворон, чтоб слабину его не поняли, а… нет, аггел, ну, нет же, ведь… старинная, аггел, как же его звали, они же пели её тогда, выходил объявляла в парадной форме и рявкал: «Сводный хор общевойскового…» – дальше шло перечисление наград и имён и, наконец: «Вечерний звон. Слова…», – аггел, ну почему самого главного он не помнит.
Вроде Ворон успокоился, и Гаор осторожно откинул с головы одеяло и лёг поудобнее, стараясь не скрипнуть койкой.
– Хорошая песня, – раздумчиво сказал кто-то, – чего ж раньше не слышал?
Ему никто не ответил, и постепенно тишина сменилась обычным ночным шумом.
В будни петь не дозволялось, но Гаора потом всю декаду просили наговорить слова, уж больно душевно, и в каком же это посёлке дело-то было? Песня-то точно про посёлок, где ещё погост, и чтоб храмина недалеко была, звон-то откуда, ну?
– Старинная, говоришь? – Волох задумчиво пыхнул дымом. – А никто не знат.
– Паря, ты-то откуда знашь?
– В училище пели, – спокойно ответил Гаор.
Они курили в умывалке, и ему было даже интересно, как дальше пойдёт разговор и до чего додумаются собеседники.
– А вот это ты врёшь! – торжествующе сказал Булдырь. – И завираешься!
– Это в чём? – с намеком на обиду ответил вопросом Гаор.
– А в том, что там одни голозадые, а они наших песен не знают! – победно припечатал Булдырь.
– Да-а, подловили тебя, паря, – согласились с Булдырём.
Гаор даже растерялся, не зная, что ответить, тем более, что вспомнить автора слов он так и не смог. Вертелось рядышком, а ни в какую.
– Это Крайнор написал, – тихо сказал куривший со всеми, но ставший после той ночи совсем молчаливым Ворон.
– Точно, – обрадовался Гаор, – вспомнил, Аург Крайнор слова, а музыка Стейранга.
И тут Булдырь ударил его в лицо. Удар был настолько сильный и неожиданный, что Гаор хоть и устоял на ногах, но выронил только что прикуренную сигарету, которая, зашипев на мокром полу, тут же погасла.
– Сдурел?! – заорал Гаор. – Я ж тебя…!
Остальные растерялись, а Булдырь, круто развернувшись, ударил Ворона, и тот, вскрикнув, упал.
– Врёшь! – кричал Булдырь. – Всё врёшь! Наша песня! Чтоб голозадый такое… врёшь!
Завязалась нешуточная свалка. Одни помогали встать Ворону, который оказался под ногами дерущихся, другие растаскивали, разводили Рыжего и Булдыря, рвавшихся друг на друга, как скажи пайку не поделили. И только вмешательство Старшего и Асила прекратило драку. Асил держал широко разведёнными в стороны руками драчунов за волосы, пока Старший отвешивал им по шеям, чтобы успокоились.
Гаор перестал дёргаться первым, а Булдырю пришлось врезать посерьёзнее.
– Ну? – тяжело перевёл дыхание Старший. – Ты, Асил, их подержи ишшо. Из-за чего сцепились-то? А Ворону кто подвесил?
Что Ворона ударил Булдырь, и Рыжего он первый ударил, а тот, понятное дело, стал отмахиваться, это выяснилось сразу. А вот из-за чего? Все переглядывались, недоумённо пожимали плечами и разводили руками. А хрен его знает, чего ему привиделось, стояли, говорили, а он тут к Рыжему привязался, а Ворон за Рыжего, а он с кулаками…
– Та-ак, – Старший внимательно оглядел всех, – ладно, Асил, отпусти. Так, Рыжий, о чем говорили?
– О песне, – буркнул Гаор.
Как только Асил его отпустил, он поднял с пола свою размокшую растоптанную сигарету и убедился, что она пропала безвозвратно.
– Ну, – Старший даже руками развёл, – ну, мужики, вы точно спятили. Всякое бывало, но чтоб из-за песни сцепились… По койкам тогда, отбой скоро.
Сигареты в пылу свалки у всех погасли, и, спрятав окурки, курильщики послушно разошлись. Ворон остался обмывать окровавленное лицо, задержался и Гаор, поэтому Булдыря быстренько вытолкали в спальню. А то и впрямь время позднее, надзиратель услышит, так мало никому не будет.
– Ну, – Ворон оторвался от раковины, – убедился? Что ещё нужно, чтобы ты понял?
– А что я должен понять? – ответил Гаор, так же умывавшийся в соседней раковине.
Кровь из носа ему не пустили, но пришлось по скуле, и если сейчас на захолодить, то нальётся синяк.
– Что они дикари, а ты человек.
– А при всех ты это повторишь? – не удержался и съехидничал Гаор.
– Нет, конечно, – грустно улыбнулся Ворон, – я все ещё хочу жить. Но…