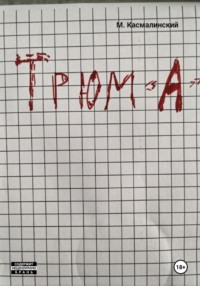полная версия
полная версияПуть с войны
Ракицкий стоял спиной к Ырысту, хрустел огурцом. У Бардина рот наполнился слюной. Стыдом он был наполнен до макушки. Конечно, голого допрашивать – хитрый прием. Без одежды как бы теряешься, не размышляешь – мякнешь квашней и обманывать сложно.
Полковник достал из-под кресла (откуда кресло в деревне, затерянной в чаще, ведущей войну с мирскими властями?!) документы Бардина. Просмотрел, и, видимо, не в первый раз.
– У Литовченки корова захирела, – сказал пан полковник.
– Нажралась чего-то, – озабочено вздохнул бородатый. – Лекарство бы.
– Может ветеринара вызвать? – сыронизировал Ракицкий.
– Вылечить бы. Жалко колоть.
– Жалко колоть, да хлопцам мясо тоже нужно хавать, – сказал полковник.
Голый Ырысту стоял и слушал этот странный разговор. Потом он догадается, что это тоже тактика допроса, но сейчас было тяжко. Одной рукой почесал затылок, вторую не отпуская от паха.
– Скоро картопля пойдет, – мечтательно сказал Ракицкий. – Молодая с укропом, с простоквашей холодной. Не еда, а песня.
– А картопляники? З вершками, – вспомнил бородатый, плеснул себе самогона. – За победу! – провозгласил он, с почтением поднял кружку в сторону пана полковника, выдохнул и выпил.
– Плесни мне тоже, – приказным тоном сказал полковник. – Нет, не этого. В шкапчике коньяк. Бесподобное пойло, подарок штурмбанфюрера. Он, наливай. Тильки не в кружку. Стакан там есть. За победу. Слава Украине!
– Героям слава! – отозвался Ракицкий. Бородатый с опозданием тоже повторил лозунг.
Полковник блаженно почмокал и с удовольствием закурил. Бардин завороженно смотрел на огонек папиросы.
– У Бадона в схроне, – сказал полковник. – Целая коробка шоколада. Надо бы забрать на обратном пути. И, как вариант, Бардина Ырыста к акции привлечь. Як мыслити?
– Под присмотром, – предложил Ракицкий.
– А лучше расстрелять его, – сказал борода, посмотрев на Ырысту циррозными глазами цвета облепихи. – Береженого Бог бережет.
– Тогда уж повесить, – сказал полковник. – Торжественно повесить и устроить гуляние.
– Скоро как раз Иванов день, – сказал бородатый.
– А как насчет того, что враг нашего врага, есть друг? – поразмыслил вслух Ракицкий.
Ырысту понемногу приходил в себя, осваивался со своей наготой. Хотели бы повесить, уже повесили бы.
– Дайте докурить, – тихо сказал он.
Пан полковник пару раз глубоко затянулся и затушил папиросу в пустой спичечный коробок.
– А мне сдается, он – комиссар. Что-то в нем такое… отвратительно коммунистическое.
– Говорит, он против советской власти, – сказал Ракицкий.
– Говорить можно, что угодно, – поморщился полковник. – Если против, как же тогда умудрился столько советских наград заработать? А где они? – пан полковник резко обратился к Ырысту. – Где ордена? Где вещи твои?
Вещи в мешочке, мешочек на ветке, подумал Бардин.
– Выбросил. Закопал, – почти не соврал, одну медаль он, правда, сунул в землю еще в Германии. – Меня земляки не поймут с такими побрякушками. Я ему говорил, – Ырысту кивнул на Ракицкого. – Больше половины друзей и родни репрессированы.
– Репрессированы, – передразнил пан полковник. – Слова какие знаешь! А почему дурочку ломал в первый день, что ни бэ, ни мэ на москальском говоре.
– От волнения, – сказал Ырысту. – Пан пулковник! Який из мене развидик? Вы сами подумайте. Кто бы мне доверил важное? Ну, вы в меня вглядитесь! Я, что похож на хлопца, которому командир можно секретное поручить? На передний край слазить, это да. В бой нас гнали бодро. А всякие хитроумия, то не ко мне.
Ракицкий подошел и сунул тлеющую цигарку в зубы Ырысту.
– Кури без рук, только ротом, – строго сказал он. – Я твои причиндалы видеть без слез не могу.
– Это от волнения, – не разжимая губ, промычал Ырысту.
А Ракицкий, стоя спиной к полковнику, вдруг улыбнулся одними глазами и ободряюще подмигнул.
– Из Сибири, значит. Алтай. Слыхал. – сказал полковник, забросил ногу на ногу. – И твой народ… Большой народ?
Ырысту докурил, шагнул к столу, чтобы затушить окурок.
– Там стой, – рявкнул Ракицкий и сам забрал цигарку.
– Народ мой малочисленный. Про нас писали, – вспомнил Бардин. – Типа, симпатии алтайцев склоняются к Пекину и Токио, а не к Москве и Петербургу. Херню писали, надо сказать.
– И что маленький народ и все – шпионы? – спросил полковник.
– Нет, почему? Еще вредители есть. А в глуши – единоличники. Сидят на горных лугах, баранов пасут, а потом баранов едят. Не отдавая ни кусочка государству. Страшные люди. Враги.
– А зачем вы воюете за это государство?
– А я, пан полковник, извольте видеть, не воюю. Я хочу, чтоб меня оставили в покое. Да так складывается, что те, кто хочет жить спокойно и своим делом заниматься, оказываются предателями и дезертирами. В этом у нас эзотерические разногласия с Советской властью.
Как-то так, подумал Ырысту, надо еще повстанческой армии польстить, сказать, что я преданный поклонник Степана Бандеры. И побольше украинских словечек.
Но разговор уже был закончен. Полковник сказал устало: «Будем проверять» и велел отвести Ырысту обратно в погреб.
– А баня как же? – неуверенно напомнил Ырысту.
Пан полковник удивился такой наглости.
– Может тебе еще и бабу привести? Бабу хочешь?
Ырысту съежился.
– Чего ты зажался? Что встал? Ха-ха-ха. Привстал! Нет, вы посмотрите на него. Зверек!
Нельзя тебе в баню сейчас, сказал Ракицкий, сопровождающий Бардина в темницу. После бани в холод – заболеешь. В другой раз.
Ырысту прижимал между ног ворох своей одежды, оттого шел неуклюже, как сытый индюк. В небе тускло проступил серп растущей луны.
В погреб Ракицкий бросил два теплых тулупа, дал Ырысту щепотку махорки, листик газеты, спички, огарок свечи.
– Экономь, – предупредил он.
Ырысту устроился на лавке, зажег огонь. Хотел почитать обрывок газеты, а она на немецком. И еще на немецком! Он заметил тонкие буквы, нацарапанные с краю стола: «Kurt Drajer Morgen Ich sterbe».
Держали до меня пленного фашиста, понял Ырысту. Потом закутался в тулупы, забылся тревожным сном.
Дневной свет запрыгнул в темь погреба и Ырысту понял, что утро. Поднялся по ступенькам, щуря глаза.
– Садись, – сказал Ракицкий, указывая на чурбачок, стоящий под яблоней. Ырысту помочился на малину, потянулся, сел. Ракицкий достал из-под дерева толстую с шершавой ржавчиной цепь и приковал правую ногу Бардина к яблоне, защелкнул на два оборота круглый замок, затянувший звенья цепи.
– Валет из-за тебя остался без цепуры, – шутливо закручинился Ракицкий.
– Ты смотри ключ не потеряй.
– Сам бы я тебя не вязал, как ты есть дикий собутыльник мово родного дяди. Но начальство приказало.
– Начальству видней, – сказал Ырысту, радостно подставляя лицо крепким солнечным лучам.
– А чтобы не было скучно, есть у меня… ты должен оценить, – Ракицкий положил на колени Бардина толстую книгу в твердой обложке.
– Ух! – восхитился Ырысту. Автор – Гоголь. Дореволюционное издание, текст с извращенскими «ятями» и другими странными буквами.
– Отдыхай, грейся. Я пойду. Попозже принесу курить и жрать.
Ракицкий умчался. Ырысту прочел первые строчки «Сорочинской ярмарки». Красиво: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное…», так и есть, хотя до полудня еще далече, жара уже показывает свою удушающую силу.
Из хаты вышла старуха, посмотрела на Ырысту, сидящего приблудным псом на цепи, и вернулась обратно. Снова вышла. Охая, подбрела и тонкой рукой, напоминавшей скрученную тряпку, протянула зачерствевшую шанешку, сказав детским совершенно голоском: «Н-ня, закуси, ам-ам».
– Спаси Бог тебя, бабушка, – растрогался Ырысту.
Стало почему-то до слез жалко эту старушку, которая, угостив узника, взялась поливать из маленькой чашечки четыре лунки вдоль крылечка, где росли на чахлых стеблях синие цветки – такие не садовые, такие лишние, сорные, но окруженные заботой и оберегаемые, как близкие, последние в жизни друзья.
Ырысту сорвал незрелую ранетку, пожевал – кисло, аж скулы свело. Вернулся к чтению, попытался поместить книгу в тень от яблони, потому что солнце так падало на белые страницы, что читать больно. Вот, Гоголь, писатель – мистик, но его истории такие непритязательные по сравнению с тем, что бывает на самом деле.
Например, сидит под яблоней кёрмёс – душа умершего шамана. Наверное, сказать что-то хочет. «А что сказать? – подумал дедушка Чинат. – Уходить тебе надо».
– Надо, – согласился Ырысту, посмотрел на старушку, та по очереди гладила лепестки цветочков. Цветочки были благодарны.
Старый шаман изрек: жаль, малыш Ырысту, не открылось тебе то, что должно было открыться.
– Мне и того, что есть, хватает с избытком, – подумал Ырысту, имея в виду дар спонтанного предвидения.
Дальше по течению будут сложные времена. Скажу. Вон эта злопердячая бабка уверена, что Бог сотворил человека из глины. Оей! И человек сможет сотворить человека из глины, если в глине найдется хоть волосок. Чинат вытер лоб каемчатым рукавом. Хоть ноготок, угу. А из ребра сотворить женщину! Можно и из пятки. Из ресницы. Так-то. Нарушается. Дальше по течению нарушено равновесие между мирами. Камы пока держат. Мало нас. А там вся приблуда! Трансгуманизм. Клонирование, оёй. Помойная генная инженерия. Трудные времена.
– Но Алтай! – мысленно воскликнул Ырысту.
Седой Алтай удержится. Удержит и тебя. И ты ему поможешь. Должен помочь. Есть важное. Скажу. Не спасай одного, если можешь спасти солюдие.
– Понял. Не забуду.
По полной луне что-то должно изменится.
«Буду ждать полнолуния», – подумал Ырысту, огляделся – спокойно. Визит шамана прошел с соблюдением режима секретности.
Весь день читал. Читал медленно, с удовольствием, запоминая некоторые особо звучные фразы наизусть. Встречались страницы с ровно оторванными клочками – на курево. Кстати, Ракицкий сдержал обещание, подбросил махорки. Про то, что заключенных надо еще и кормить он благополучно забыл.
– Пан полковник с Литовченкой отбыли в город, – сообщил Ракицкий. – Там и про тебя справки наведут. Если все нормально, пойдешь с нами на акцию. А там, как себя проявишь. Ты что можешь-то?
– А ты дай мне винтовку, – предложил Бардин. – Да поставь коробок на полста шагов. Покажу, чем могу.
Винтовки ему Ракицкий, конечно, не дал. Умчался опять. А ближе к вечеру вернулся пьяной поступью и запер Бардина в погребе.
Ырысту заснул, буквально на миг задремал, как услышал голос снаружи:
«Гой еси, баба Яга! Отворяй-ка поруб, да выпускай заточенного угра! Э-гей! Бабка Ёшка, ты оглохла?».
«Твоя правда, болярин, – дребезжащий голосок, – совсем глухая стала».
Засов проскрипел, дверь отворилась, Ырысту вылез наружу. У крыльца стоял Ракицкий в меховой круглой шапке и серебристой кольчуге, поверх которой накинут красный плащ, опускающийся на красные же каблуки высоких сапог.
«Угрин Бард! Иди за мной, великий князь к себе требует».
«О храбрейший, люболепный воевода Ракита, – поклонилась старуха, – Вернете ли пленного угра? Иль не ждать?».
«Повечеряй грибами, да корешками, бабка», – сказал славный воевода и добавил: «Он теперь будет в княжеском тереме».
Бард пошел вслед за Ракитой, думая, как глупо получилось, что он так удачно пробирался тайно через земли Савмата, вез грамоту от угорского кагана, которую поручился лично в руки отдать крулю алеманов, но наткнулся на ватагу шальных бродников. От бродников ушел, от зверей диких спасся, а на рассвете был схвачен дружинниками.
Воевода прикрикнул на дружину, воины удалые были тут как тут, они седлали коней и точили мечи. Здесь же стояла девица с толстой косой и тянула грустную песнь о березке. Какая надобность князю во мне, подумал Бард. Я даже и не знаю, что в той грамоте было, могу догадаться: алеманы и франки хотят, чтоб орда убиралась к восходу в бескрайние степи. А великий каган – не желает. Предлагает договориться и встретиться на ничьем берегу, например – на норманнском.
Князь Романтяй стоял посредь горницы и говорил старику, со спины похожему на дедушку Чината: «Поведай мне, кобник, что делать? Угры прошли через Танаис, уже взяли остров на Борисфене. Скажи, чаклун, какой беды ждать Савмату. Чего от нас нужно каганату?».
«Не кобник я, княже, и не чаклун, – ответил старик. – Я рахмон этого леса от полноводного Тириса до широкого Истра. Я знаю угров. Желание их такое: присоединять новые земли, скакать на быстрых конях до синего моря-окияна, забрать поболе рабов и смердов, ибо жадны они и неуступчивы.
«Какой толк в этом?! – удивился князь. – На что угорским ханам новые земли, когда и на старых порядка нет? На что им больше холопов, когда и на тех, что есть, заботы никак не хватает?».
«Ведут их древние боги, боги силы необыкновенной, идолы дымящихся болот», – рахмон склонил голову.
«Их боги сильнее наших предков? Наших усопших прадедов, победивших в тысяче войн, пращуров, чьи священные кости всегда хранили державу? Не верю. Внегда нужно, я принесу обильные жертвы. Кого, скажи?! Деву? Коня? Дитя новорожденное? Ты только скажи, чаклун!».
«Не чаклун я, а рахмон всех рахмонов. Угры и сами поклоняются предкам, но другим племенам прививают веру в Симаргла и Перуна. Говорят – это самые древние боги. А самые древние, первые песни на свете поются о том – народ наш самый свирепый и сильный, наши боги – единая правда, другие народы должны покориться, убьем, перережем, сожжем! Не будет мира на земле, покуда угры не просветлеют. А жертва предкам должна быть в полнолуние. И для начала нужно найти черного петуха».
«Где воевода Ракита?!», – закричал князь, озираясь.
«Не гневайся Романтяй Ослябич, – Ракита поклонился до земли. – И не вели казнить! Угрин Бард, что в порубе томился, приведен». Воевода подтолкнул Ырысту к князю.
«Номер части! Фамилия командира! – заорал князь Романтяй. – Специальность! Твоя военная специальность?!».
Снайпер-пародист, сознался Ырысту.
«С кем был в лесу?!»
Один.
«Где сейчас орда? Где твои братья-угры?».
Я – кипчак, гордо заявил Ырысту.
«Хотел я тебя повесить, – сказал князь. – Повременил. Теперь ты мне сгодишься. Отвезешь письмо к своему царю. Эй! Позовите писца! Петрик!».
Вошел бледный отрок со свитком, встал к наклоненному столику, разложил на нем гусиные перья.
«Пиши! – велел князь. – Кагану угров, мордвы, пайсенаков, потомку Скифа и ветру степей… Правитель Савмата и Ладожи, хозяин леса, хранитель священных погостов, великий князь Романтяй… челом бьет! Записал? С новой строки: ежели ты, тля плешивая, отседова не уйдешь…».
Вдруг на улице прогремел взрыв. Все поспешили к слюдяному окошку, но неожиданно рассыпалась дверь, и в горницу вошел крест-накрест перевязанный пулеметными лентами мужик в тельняшке. Бритая голова на мощной верблюжьей шее формой была, как маленький конус, нечеловечески широкие плечи переходили в надутые руки, которые только отсутствием копыт отличались от ног молодого бычка. Он поднял ручной пулемет и расстрелял князя и воеводу. Отрока добил из пистолета, а колдуна задушил. Чаклун только успел просипеть: «Надо дождаться полной луны». Мужик обнял Ырысту и сказал: «Я – майор спецназа Силантий Попадуля! Прибыл за тобой. Мой звездолет стоит заведенный, пошли. Возвернемся в свой временной пояс. Давай скорее, нам лететь полтора деципарсека».
Ырысту не понял, что это за деципарсек такой.
Мужик пояснил: «Пятьсот миллиардов верст в космическом пространстве. Там сейчас находится планета, в расстоянии восьмидесяти земных лет».
Как можно расстояние измерять временем, а время расстоянием? Ырысту запутался. И проснувшись еще долго голову ломал на эту тему.
В этот день Ырысту из заключения вывел Петрик. Он не стал привязывать пленника цепью, а показал – иди, мол, за мной.
– Кто такой Курт Драйер? – спросил Ырысту.
– Одна фашистская гнида, – сказал Петрик, погладив немецкий автомат. – Такая же, как ты.
– Ну, дякую нижайше.
– Ни ма за що.
О, как, подумал Ырысту, я еще и фашист! А не украинская ли повстанческая армия три года нежно дружила с вермахтом и СС? А Красная армия – всего-то… Напраслину возводит бледнолицый!
Они ушли за деревню, где до лесной опушки расстелилось заросшее поле. С краю трава была выполота, обнажились присыпанные землей картофельные кустики.
Петрик протянул сучковатый черенок хлябающей тяпки.
– Полоть! – приказал он. – Окучить. Умеешь? – презрительно спросил, наводя на Бардина дуло шмайссера.
– Доводилось.
– Форвертс! – Петрик натянул на глаза козырек форменной кепки, в околыше которой чернела дыра – немецкого орла Петрик давно скрутил.
Ырысту принялся полоть. Сразу отметил: картошка не уродилась. Ничего, и без нее протянут. И так коньяки с шоколадом жрут. Итак, полковник будет наводить обо мне справки. Определенно есть нехилое подполье у бандеровцев. И что он узнает? Первое, он узнает о дезертире Ырысту Бардине. Это мне на руку. Второе: если у них есть свои люди, штабные работники, – допустим, есть, – полковник узнает, что дезертир имел при себе важную информацию. Но это лишь догадка особистов! Что такого у меня могло быть? Компетентные товарищи интересовались той квартиркой, где мы с Кирилловым и Жоркой… Кукушка из часов, вот что! Часы могли быть тайником? Могли. А в птичке, предположим, агенты (свои или фрицев) прятали донесения. Но кукушка была у Жорки. А если ее не нашли у Жорки, не нашли у Стефана Кириллова, логично заподозрить, что эта хрень у Бардина. Может такое быть? Как вариант. Но это сейчас несущественно. Полковник узнает, само собой пытается выяснить подробности. Вещи утрачены. Это уже сказал. Скажу еще раз. И третье – совсем непонятное. Красноармейца Бардина ищут журналисты. Тут затруднительно, даже предположить нечего. Войек сказал, что редакция газеты просит сообщить. Уловка тех же особистов? Вполне возможно. Ну, хорошо. Пан полковник решает, что Ырысту достоин доверия. Что там говорили? Привлекут к какой-то акции. Что за акция? Мост взорвать. Склад продуктовый ограбить. Шлепнуть секретаря обкома. Все что угодно! И на акции они будут следить пристально. Надо выполнить задание нормально. Без фанатизма, но, не навлекая новых подозрений. Добиться доверия, обрести свободу передвижения. В идеале – получить личное оружие. Не привлекая внимания, собрать жратвы и тогда сваливать. На все про все месяц-полтора. Потом дожди, слякоть. Потом пройдет эйфория победы, жизнь упорядочится. Накроет страну контрольный колпак. Нет, бежать надо пока еще сумятица, пока армия расходится по домам…
И грохнул выстрел! Одиночный выстрел. Ырысту вздрогнул и, не успев ничего подумать, упал на землю, перекатился. Сжал тяпку, как винтовку – это моторная память.
…запел, загудел бубен, замерцала каменно-черным гора, свистящий вихрь пролетел над речными порогами…
Выглянул из травы, увидел Петрика с автоматом. Это он стрелял.
…закрутились колокольчики, каемчатый рукав взметнулся к небу. Засекло, засверкало вокруг и страшная песня шамана…
Петрик смотрит на шмайсер и говорит: нечаянно.
…спиралью взбуровил неистовый ветер снега на алтайских вершинах. И бубен дрожит…
Петрик меняется. Петрик дряхлеет. Только пехотная летняя кепка не изменилась. Змеистые рубцы – морщины и шрамы – легли на лицо, Петрик – старик, похожий на тощего бульдога в электрическом шоке. В таком же пожилом окружении он зигует, кое-как поднимая руку. Деды в фашистской форме идут по Крещатику. Ырысту понимает, что это – Крещатик, это – Киев, впереди – тот, что чуден при тихой погоде, влево пойти, попадешь на проспект Степана Бандеры. Здесь марширует также молодежь гордая свастикой, эсэсовской формой, нацистскими знаками. Шествие, факелы, украинская речь. И машут приветственно девушки, красивые девушки с зелеными волосами, с синими локонами, с багровыми прядями, с серьгами-кольцами в ухе, в носу, на губах, на бесподобно оголенных животах. Все рады фашистскому маршу.
Гул затих, видение исчезло, Петрик снова молод и бледен, он смотрит на автомат, который его подвел. Со стороны селения показались люди. С осторожностью, перебежками в поле бежали бандеровцы, а впереди – высокая баба в пестрой косынке. Петрик закричал: мамо, я стрелял, нечаянно. Мужчины выпрямились в полный рост, а мамка Петрика, подбежав, обожгла сынка подзатыльником – звонким, словно пастух хлобыстнул по земле сыромятным бичом. Из ее причитаний Бардин понял, что это Петрика послали прополоть картоплю, а он, не будь дурак, решил воспользоваться дармовым трудом арестанта.
Бородатый бандеровец заржал, показывая пальцем на Ырысту, который лежит в траве и целится в кусты из тяпки. Ырысту угрюмо отбросил черенок. Моторная память, чего ты стебешься? Четыре года войны и ни одного ранения. Думаешь, почему? Выдержка стерха, реакция мухи.
Бардина вернули в погреб, откуда долгое время не выпускали. Кинули поганое ведро и раз в день (или в ночь?) ставили на верхнюю ступеньку кружку воды и миску баланды. Курева не давали, в разговоры не вступали, Ырысту даже не знал, кто ему приносит пищу, явно не Ракицкий, тот бы, в любом случае, пару слов сказал. Свеча иссякла, да и спичек не было. Ырысту впал в отрешенное забытье, сидел на столе, поджав ноги, и созерцал темноту. Ни видений, ни снов значительных не было явлено, только мерещился несколько раз факельный марш в бывшем советском Киеве.
Одиночество и темнота. Так продолжалось тысячу лет. А может, неделю. Сложно сказать. Европеец – немец или русский – давно с ума бы сошел. Однажды он слышал дождь. По стенам погреба сочилась безвкусная вода. А после Ырысту позвали. Он вылез наружу с ведром в руке. Толстый бандеровец все-таки натянул маскировочный костюм. Подыши, предложил пухляш. Ырысту подышал. Под пасмурным небом – бабушка на коленях перед лункой. Один ее цветок был сломан. Она поднимала стебель прямо, он падал, она поднимала. Так повторялось снова и снова.
– Где Загорский? – спросил Ырысту.
Толстяк промолчал, сорвал с ветки горсть незрелых яблочек и бросил их в рот.
– А как его зовут? Я даже имя не знаю.
Бандеровец подвигал челюстью, выплюнул яблочную массу и сказал, нехотя:
– Михась.
– Михаил, значит. А тебя?
Толстяк не ответил и крикнул бабушке, что встань-ка, дурная-старая, сломан цветок, не оживишь. Старушка подняла голову, по щекам ее текли серые слезы. Бандеровец разозлился и загнал Бардина обратно в погреб.
Снова темнота и одиночество. Но теперь Ырысту не впал в оцепенение. Он громко произнес: «Сижу под землею в темнице сырой вскормленный на воле, уж не молодой». Водрузил скамейку на стол, освобождая место, где принял упор лежа, стал отжиматься.
Отжимания, приседания, перерыв, во время которого Ырысту вслух читал стихи, все которые мог вспомнить. Забытые строчки восполнял по своему усмотрению.
Я вам не старик, не сумасшедший, мы еще повоюем. Что там будет в полнолуние? Или поверят, или повесят. Какая-то определенность. Только, сидя, в подземелье не поймешь где день, где ночь.
День, ночь, день, ночь, скрип засова, ковшик, глоток воды, пятьдесят отжиманий, победа фашистов в следующем веке, телефон без провода, общество потребителей, пятьдесят приседаний, и днем и ночью кот тупой все ходит по цепи златой. А Жорка? Жорка упокоился в мире мертвых, бесплотным облачком застрял в ветвях священного дерева Байтерек. Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не еврей. Ветви – небо, корни – подземный мир, равновесие между мирами нарушено, только Алтай еще держит…
– Живый? – голос того бородатого, чьи глаза выдают больную печень. Сколько времени прошло? Где Ракицкий?
– Вилазий!
Кто такой Вилазий? Римский император, сын Мудясия, победитель при Карфадури.
– Эй! Выходь!
Никакого покоя, шляются всякие, подумать не дают.
Поднялся по лестнице. Терапевтическая доза свободы с запахом навоза. Ржание коней, дымчатый дождь. Бородатый привел Ырысту к полковнику, сам остался снаружи. Ырысту вошел в горницу, пан полковник сидит на подлокотнике кресла. На нем кольчуга и плащ. В углу стоит наказанный двуручный меч…
Сон?
Скрип засова. Свет в темнице.
– Живый? – кричит бородатый – Вилазий!
Воздухом прозрачным захлебнулся Ырысту, свежестью росистого утра. В небе растворялась почти круглая луна с незначительной вмятиной с боку, значит, очень скоро что-то разрешится, вечером или ночью.
Бородатый привел арестанта к дому полковника, сам остался снаружи. Пан «пулковник» сидит в своем кресле, на нем советская форма без знаков отличия.
Не вели казнить, великий князь, подумал Ырысту и ущипнул себя возле ребер. Больно. Не сон?
– Садись, – полковник показал на табурет.
– Оголяться не надо? – сказал арестант и уселся. Еще на первом допросе он понял, что в меру шутливый и смелый тон полковнику по душе.
– Бардин Ырыст… А имя переводится или так?