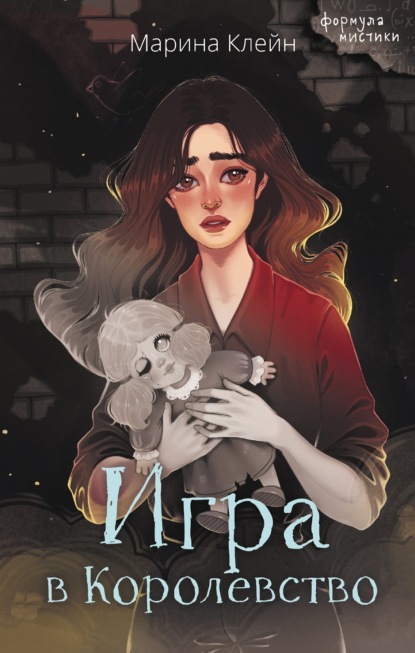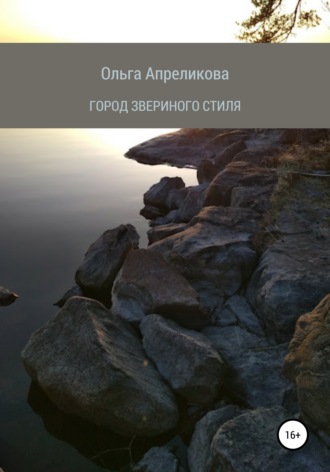
Полная версия
Город звериного стиля
– Там… Что-то белое убежало! – она прижала больную руку в лангете к груди и обняла ее, как куклу.
– Птица, может, нет тут никого… Ты чего так испугалась?
– Показалось, наверно…
Мур встал и выглянул в окно: наползли тучи. Надо в печку подкинуть дров и в камин. Домик еще греть и греть.
– Наверно, сейчас снег пойдет. Долька, пойдем, надо еще дров натаскать, и воды нету, чтоб посуду мыть, и вообще. Сейчас, пока печка топится, надо еще снега натаять.
Небо висело низко. Все стало серое. Как будто морозное и солнечное синее утро было в другой жизни. Пока Мур таскал дрова, которых в сарайке не так и много оставалось, Долька у крыльца миской набивала цинковые ведра снегом, и даже одной рукой у нее получалось хорошо, правда, то и дело она втыкала миску в снег и рукой пыталась убрать под шапку волосы – а они опять выскальзывали. Временами она выпрямлялась и с подозрением смотрела за забор и по сторонам. Муру и самому мерещилось, что кто-то за ними наблюдает.
– Ты родителям позвонила?
– Не хочу. Написала маме. Но не сказала, что мы здесь, а то папа как примчится, разорется. А потом еще у меня за бензин из карманных денег вычтет. Ну его.
У Мура холодок пробежал по шее сзади. С папы Богодая станется не только разораться. Он подумал, что за эту поездку еще придется отвечать. Но говорить Дольке ничего не стал, а то еще подумает, что он трус.
Он огляделся. Забор, деревья, снега. Тихо, будто толстым одеялом накрыли, и как-то муторно. Странно все же быть совсем одним в деревне. А может, они и не одни, просто кто-то сидит себе в доме, не высовывается. Сосед такой. Но дыма-то вон нет над крышами? А может, у него электропечки какие. Или топил, когда они не видели. Кто же это смотрит на них? Или кажется? В соседнем доме окна слепые, занавески задернуты; дальше – вообще ставни закрыты. Какая все-таки глушь. Отсюда и не поверишь, что есть город, метро, катки, кофейни, острый отблеск солнца в Фонтанке… Какое метро, какая Фонтанка? Он на Урале. Кама до весны под белой толщей льда, а из маленьких речек он видел только черную Егошиху подо льдом тогда, в логу.
Опять начал приближаться шум поезда, и Мур побежал за дом, чтобы посмотреть. Со стороны станции вывернул электровоз и стремительно попер мимо вагоны, вагоны, вагоны. Дальнего следования, скорый, так мчится, что лиц в окошках не разглядеть.
– «Урал», – сказала Долька. – Из Москвы, пустой почти. Я тоже хочу в Москву. Ты был в Москве? У вас же там рядом.
– Был. А в Петербург давай на весенние каникулы поедем? Хочешь?
– Очень хочу, – Долька подошла и поцеловала его.
– Значит, поедем, – Мур тоже стал ее целовать, но очарование почему-то не наступило.
Возникло тягостное чувство, что Долька лепит все их отношения ради того, чтобы он позвал ее в Петербург. Хотя какая разница! Да хоть в Москву, хоть в Ханой, хоть в Сидней! Мир большой! Долька же красивая такая. Зеленоглазая, как весна. Хотя… А какие у нее глаза на самом деле?
Закружились первые снежинки. Через минуту повалило так, будто мешок с пухом распороли прямо над домом, и Мур отвел Дольку на крыльцо. Стояли, смотрели. Снег падал и падал. Мир исчез.
– Завалит… А темно как. Вроде же еще не поздно?
Мур посмотрел на часы и не понял, куда ушло время. Он заметил, что калитка открыта – разве они не закрыли? Захотелось закрыть, хотя кто тут может прийти? Да и кого она удержит? Он все-таки прошел по глубокой, выше пояса, дорожке, закрыл калитку. Заметил, что снаружи у калитки на их следах сквозь пухлые снежинки что-то поблескивает зеленым – кокошник с ледяной красавицы! Ветром придуло, что ли? Подбирать не стал, пошел к Дольке. Она на крылечке сиротливо прислонилась к столбику, и он, подойдя, скорей ее обнял. За домом снова потянулся поезд, длинный неторопливый товарняк, на этот раз из Азии в Европу, с лесом, с цистернами мазута и нефти, и звучал глухо – только дрожь отдавалась через перила крыльца.
– А раньше еще больше поездов скорых ходило. Я помню… «Сибиряк», «Томь», «Байкал»… Бабушка по ним жила, как по часам…
Нельзя, чтобы Долька грустила, как старушка, и Мур повел ее в тепло. В доме все равно пахло сыростью, было душно. Ладно, если Долька скажет: «Поехали в город», то и поехали. Он проверил баланс на карте: на билеты хватит. Но Долька не говорила про город. Помешала, чтобы быстрее грелась, талую воду на плите, правда, сначала от ведра отшатнулась, потом долго недоверчиво смотрела в воду. Мур и сам посмотрел: под слоем воды с мелким сором – дно с осадком песка. Не из колодца ж. А она как водяного увидела. В общем, надо развлекать. Погулять снова? А на улице снегопад, небо низкое, темное и…
– О-ой, – жалко сказала Долька, пятясь от окошка. – Там опять. Белое. Пробежало.
– Зайцы, наверно, – махнул рукой Мур. – Тут пусто, они и обнаглели.
– Ну, может, и зайцы… Блазнит, что ли?
– Блазнит?
– Мстится.
– А?
– Мерещится.
– Да снег просто… Надо посуду помыть, – Мур вытряхнул остатки снега в ведро на плите. – Пойду еще принесу, пусть тает.
– Там темно… Я с тобой!
– И правда темно… Ты темноты боишься, бояка?
– Нет! Боюсь, вдруг кто-то белый снова заглянет!
Мур включил свет на веранде, на крыльце и в сарайке, осветив дрова и лопату с метлой, но яркие квадраты на снегу и сияющие окошки дома делали тьму вокруг только страшнее. Далеко-далеко по улице сквозь метель светил желтой точкой фонарь.
– Странно, что фонари не горят. Тут у нас вон тоже столб, видишь, и у соседей вон…
Долька не ответила, мрачно глядя на хлопья снега во тьме. Эта снежная темнота стеной стояла сразу за квадратиками света. Мур в такой косой шахте света у крыльца миской как можно плотнее набил цинковое ведро снегом. Наверно, в темноте далеко видно их мандариновый, веселый свет из окон. Уже стемнело. Хотя кому смотреть, кроме машинистов… А вдруг кто в самом деле подойдет по расчищенной тропке и заглянет… Тут деревенским скучно же в снегах зимовать… А они с Долькой за грохотом поездов и шумом тракта и шагов-то не услышат.
Входя, Мур заметил в сенях на лавке большой пластиковый контейнер со свечками и обрадовался, как ребенок:
– Долька, смотри! Мы сможем побороться с тьмой!
Долька заойкала, нахватала полные руки свечек и давай их резать, по банкам распределять, капала парафином, приклеивала. Кухонька озарилась трепещущими огоньками: какие рефлексы! Какие блики! И все эти сияющие банки из голубоватого советского стекла, тесно составленные на кухонном столе, наполненные пляшущим рыжим светом, волшебными фасетками отражались в зеленых Долькиных глазах. Она грела над ними пальцы, улыбалась, смешно сдвигала бровки, прилепляя очередную свечку к дну банки; потом фоткала все это, потом расставляла по комнате, даже вынесла на крыльцо и на тропинке штуки три поставила, опять фоткала и сияла сама, как свечечка. Мур подбросил дров в камин, натащил к нему старых одеял и подушек, прилег, стало жарко, Долька прикорнула рядом, сняла свитер…
2Мур проснулся от грохота поезда. Время было ночное, кругом темнота. Поезд прошел, и стало слышно тишину. Потом донесся гул большегруза с тракта, и опять все стихло. Снилась, он еще помнил, какая-то пафосная дурь: будто он, как ангел смерти, реял вдоль черной Невы, которая Лета, на вороном коне и мановением длани расставлял по берегам порталы между тем и этим светом, снаружи украшая их греческими портиками, как требовал того архитектурный режим Санкт-Петербурга, а внутри втыкал богов утешения по выбору заказчика. И приснится же! Сроду такого не видел. Может, после геологического надо на архитектурный идти, чтобы знать, как из камня строить грандиозные шедевры? Не сидеть ведь всю жизнь в дедовом подвале за мелочами…
Как холодно! Он опять забыл закрыть вьюшку. В трубе тихонько воет. Как они уснули, почему? Мур ведь спать не хотел, он хотел совсем другого, того, которое «дальше»… И уснул. Кажется, они даже не целовались. Долька точно подумает, что он – слабак. Свечки еще кое-как мерцали, пахло парафином, камин давно прогорел, комната выстыла. Пол был ледяной. Долька рядом съежилась под кучей одеял. Ее вон тоже сморило. Надо перенести ее с пола на кровать и снова печку топить. Есть хочется. И пить. И… Мур пересилил себя, встал; первым делом закрыл вьюшку над камином – в трубе смолкло; зевая, вьюшку на кухне, наоборот, открыл; натолкал в печку полешков, подсунул растопку, запалил; печка дружелюбно загудела. Он налил в эмалированный чайник воды из канистры, пристроил его на железный лист в нише над топкой. Такая плита, да… А гречка где, а колбаска?
– Ай, – чуть слышно выдохнула Долька в комнате. – Ай, Мурчик! Там! Она шевелится!
Мур вбежал к ней и сунулся к окошку. Посреди двора прямо на дорожке торчала ледяная статуя, облитая луной, как сахарной глазурью, от нее к дому по дорожке тянулось синее копье тени. В этой тени, у самого подола ледяной красавицы, в стеклянной банке слабо мерцал огарок. А как только он потухнет… Надо успеть… Руки тряслись. Низко на небе, как выход из тоннеля, зияла белая луна. Все было недвижно; блестел снег. Мур, выдираясь из оцепенения, оглянулся в теплую темноту: Долька стояла у камина, кутаясь в дрожащее одеяло. Даже если им обоим блазнит – зачем, чтоб девчонка боялась? А еще вроде бы нельзя на снеговиков ночью из окна смотреть…
И вдруг дошло, как обухом по лбу: откуда она здесь? Красавица эта ледяная от магазина? Сама пришла? Ага, за зеленым кокошником.
Мур набрался храбрости, накинул куртку; взял в сенях штыковую лопату в присохшей неизвестно с какой осени земле, вышел наружу: свежий, чистый снеговой холод. Посмотрел на красавицу – очень красивая. Лицо как из мрамора выточено. Может, правда из Горных девок? Кто ж знает, какие они на самом деле и что могут? Но где Ергач, а где горы… Ой. Ой, мама. А ведь через станцию отсюда – Кунгур. А там эта знаменитая пещера… Ледяная.
Так, только не смотреть ей в лицо. В мозгу зудели стишки: «Раз, два, три, четыре – ай! Слышишь счёт мой? Убегай… Если ты не убежишь, я убью тебя, малыш…» Ох. Чушь-то какая. Ломая наст, подошел и на те же, из стишков, «раз-два-три-четыре» порубил хрусткую красавицу на рассыпающиеся, как сахар, куски. Башка откатилась кочаном, злобно уставилась белыми глазами. И вдруг раззявила рот и сказала:
– Пппыыыхххх…
Повалил пар, снежная маска, распадаясь, проваливалась в никуда – это Долька сурово поливала ее кипятком из чайника. Потом полила место, где она стояла; пар облачком, кривясь, тараща дыры глаз, окутал Дольку – она замахала руками, чихнула – и растаял. Долька чихнула еще раз.
Потом сходила в дом и вынесла еще банку со свечкой, подпалила, поставила у крыльца. Принесла еще, и Мур помог расставить банки на дорожке. Огоньки жалко мерцали во тьме. Но вон тот огарочек – он же справился? Остановил? А если бы Мур вовремя не проснулся?
Снова Мур проснулся, когда уже светало. Снилась опять дрянь, будто стоят они с Долькой в сквере у Зимнего в очереди на черную карусель без лошадок, дощатый, затоптанный, плавно вращающийся круг – там, где в нормальной жизни был фонтан. Люди, суетливо ступив на черные доски, тут же исчезают… Долька тащит его туда за руку, а он упирается, не хочет.
Тяжелый сон. Тоскливый. Мгла и печаль. Где-то он читал, что снеговики или всякие снежные тролли могут насылать страшные сны. Но ведь он сломал красотку? Долька, притиснувшись, посапывала рядом. Ненаглядная. Только прохладная какая-то, замерзла? Он скорей укрыл ее вторым одеялом. Как бы не заразить ее своей тоской. Опять просочились стишки: «Темный дом стоит в бору, я уже к тебе иду…» Тьфу. Мур с детства знал, что, если посмотришь в окошко на утренний свет, сразу все ночное развалится, растает… Однако сейчас в окно смотрела белая харя.
И тут же он понял, что это язык из снега, наметенный пургой на стекло. Но ведь смотрит же, смотрит. Следит за ними. Он тихонько встал, чтобы не разбудить Дольку, задернул занавеску – пусть снежная харя смотрит на вылинявшие цветочки. Пошел на кухоньку умыться у рукомойника.
Какая талая вода все же противная, скользкая какая-то… Уехать? Что тут делать? А вдруг еще припрутся какие-нибудь ледяные буканы? Так и с ума недолго съехать. И вдруг подумал странную, взрослую мысль: он просто человек, молодой парень, и он не бессмертный. А жизнь когда-нибудь кончится. Сейчас – к вершине, потом – под уклон. Жутко думать об этом, но это так. Почему взрослые делают вид, что смерти нет? Если ее нельзя избежать, то не умнее ли делать вид, что ее нет? Но все о ней помнят, и, наверно, настоящая любовь – это вместе делать вид, что смерти нет? Жалеть друг друга и беречь?
Тогда надо уезжать. Он посмотрел в комнату на кровать, где под ворохом одеял съежилась Долька. Будто почувствовав взгляд, Долька зашевелилась и села. Мур хотел спросить, что это было ночью и могут ли горные девки вселяться в ледяные скульптуры, но вовремя прикусил язык. Долька сидела в одеялах какая-то выцветшая: меж бровей хмурая складка, а взгляд ошарашенно растерянный. И в окошки то и дело поглядывает. Может, это всё из-за него? Может, она думает, что Муру плохо, потому что тут все так скромно, бедно, думает, что он хотел дворец?
– Долька, я тебя люблю, – громко, ясно сказал Мур. – Что делать будем? Хочешь остаться – останемся. Нет – поедем.
– Поехали в город, – прошелестела Долька.
Ночью, защитившись от тьмы банками со свечками, они опять топили камин, и Долька всё болезненно жмурилась – Мур заметил, что белки глаз у нее вокруг линз ужасно покраснели от дыма, наверно, и уговорил ее линзы снять и промыть глаза хотя бы заваркой. И теперь она, наверно, стеснялась, что смотрит на Мура глазами не волшебно-зелеными, а обыкновенными, светло-серыми, совсем как у ее сестры Гальки. Глаза как глаза, только непривычно светлые. И еще рука у нее, наверно, болит в этой зеленой с разводами скорлупе. Может, чаю попить? Но бутылка с питьевой водой из магазина опустела, а при мысли о том, чтобы пить талую воду, Мура едва не вывернуло. Может, на вокзале есть кофейный аппарат? Кое-как они собрали остатки еды в рюкзаки, немного прибрались. Долька что-то замешкалась, и Мур один вышел на крыльцо. Было холодно. Пахло снегом. Налетел ветер, бросил в лицо колючую смесь микроскопических ледышек и инея – и Мур уткнулся в воротник куртки, чтобы только не вдохнуть. А Долька, только что вышедшая, чихнула, потом аж закашлялась; у Мура потемнело в глазах и показалось, что Долька растворяется, как пар… Чушь какая. Морок. Блазнит. Мстится. Мерещится. Да что ж это за чертовщина такая? Он дернулся и, нервно погрохотав замком, схватил Дольку за руку и потащил к калитке. Закружилась голова, а внутри все немело от холода… Он перепрыгнул банку с огарком и то место, где валялись куски ледяной красотки. Все равно вода останется водой, она бессмертная, хоть снег она и лед, хоть вода, хоть пар. Растают весной эти куски, вода испарится, полетает в облаках, прольется летними дождями, снова испарится, а новой зимой те же молекулы выпадут снегом и, может… Что это такое в голову лезет?
Кофейного аппарата на вокзале не было. И вообще вокзальчик был заперт, а расписание на стене гласило, что электричка на Пермь ушла час назад и следующая будет только в середине дня. Зато в другую сторону будет через пятнадцать минут. Долька провела зеленой варежкой по расписанию и опять свела бровки. И вдруг лихорадочно засияла:
– Мурчик, ты лучший из всех парней на свете; давай… Знаешь что, путешествие с тобой куда угодно – мечта всей моей жизни! – она окинула его странным быстрым взглядом. – Я должна поздравить саму себя с безукоризненным выбором! – Долька вдруг попятилась, потрясла головой, потерла лоб. – А в город не надо. Каникулы еще. А, Мурчик, милый, давай в город не поедем еще! Поедем в Кунгур! Он этот… Город-музей, вот! Давай? Что нам в город, где нам там встречаться? Квартирку снять? А тут и покатаемся, и… Там базы отдыха везде, а еще гостиница «Сталагмит»!
Мур смутился. Денег мало. Долька как прочитала его мысли. Вытащила телефон:
– Ну, я за добычей… Мама? Мама, да все со мной в порядке. Все хорошо. Я же написала. Я в Ергаче на даче. Мы. С Муром. Мама, если ты будешь на меня орать, я выключусь совсем. Мама, подкинь мне денежек на еду и все такое, пожалуйста. Да все в порядке, просто, ну, каникулы же… Да, мы хотим в Кунгур… В музей и в пещеру еще… Спасибо… Папа? Со мной все в порядке. Нет, я не сбегала из дома. Нет, не планирую. Нет у меня никаких обид. Все со мной хорошо. Папа, я большая девочка. Я сама его пригласила. И у нас все в порядке. Сейчас съездим в Кунгур и к вечеру вернемся. Еще не знаю куда, в Ергач или домой. Папа, добавь мне денежек, а то я боюсь, что на билет не хватит. Спасибо, пап.
Неужели это его Долька – такая четкая и жадная? Долька спрятала телефон и улыбнулась:
– Не хочу в город. Хочу тебя всего и насовсем, – и снова она улыбнулась, чуть заметно тронув язычком губу. Мура встряхнуло. Ее, впрочем, тоже, будто она сама не подозревала, что умеет так. – Знаешь, я бы прямо сейчас… Но давай уедем подальше. Поцелуй меня!
– С тобой – хоть на полюс, – поцеловал он прохладные, будто не Долькины, губы. – Ну, в Кунгур так в Кунгур.
Подкатила, свистнув, электричка; они запрыгнули в вагон – народу почти не было, – уселись у окон, когда пейзаж за окном уже стронулся, поплыл, ускоряясь. Приникли к стеклу, выглядывая домик, – и вот он, край поселка, и вот синие окошки из-под белой крыши. Неужели ночью все это правда было? Огоньки свечек в банках и ледяная жуткая красавица, что сама пришла?
Наверно, Мур на заснеженных улочках Ергача где-то пропустил поворот к реальности. В голове мгла и бледные Долькины губы; лишь в кратких размывах ясности скачут испуганные мысли: зачем им в Кунгур? Что это такое с Долькой? Что вообще не так и почему страшно? Но стремительное движение поезда, стук колес, черные елки, бегущие снаружи, не давали подумать о непонятном. И теперь он ехал и ехал, зачарованный черно-белой зимой за окнами. Долька иногда придвигалась, и холодный, как замороженные ягоды, рот мягко трогал щеку, висок и – если урывком к ней повернуться – губы. Мерзнет, что ли… Он тоже мерз. Но все же храбро скрывал озноб под улыбкой. Он счастливчик, потому что у него есть Долька. Однако внутри копилась странная, тоскливая стужа.
Как много леса за откосом насыпи! Черного, не людского. Нечего человеку делать зимой в лесу. Природе человек вообще не нужен, она с ним борется, как иммунная система с раковой клеткой. Вон там под елками снегу под горло, провалишься – и всё, рой берлогу и спи до смерти вселенной. Причем и снег, и елки, и застрявший в зиме весь мир вовсе не враждебны – они тупы, как вся природа, и заняты собой. Какие страшные и черные елки. Они растут, падают, гниют и снова вылезают из земли, которая бесконечными промерзшими пластами лежит под тяжелым снегом. Бессмертие такое у елок. И у земли и снега. У людей бессмертия нет. Из земли они лезут только в глупых фильмах.
От усталости и стресса немного тряслись руки. Мур потер лоб. Что это за мысли такие ужасные, и откуда они прут… но раз пришли, значит, есть основания?
Он посмотрел на Дольку: холодное белое лицо с презрительно полузакрытыми глазами, губка чуть приподнята в неживой улыбке, обнажая край зубов. После смерти зубы у человека долго-долго будут выглядеть как при жизни. Ничего не останется: ни щек, ни глаз, ни даже следа плоти, все сползет черной слизью, станет землей – а зубы обнажатся. Почему оскал черепа называют улыбкой?
Краем глаза он заметил, что Долькины пальцы как-то беспомощно, чуть заметно, скребут по джинсовым коленкам. А может, в нее вселилась какая-то снежная жуть, какая-то горная девка, и сейчас она, Долька настоящая, стиснута там внутри, заперта в темном углу, заморожена, и все, что может, – жалко скрести пальцами… Чушь какая. Меньше надо хорроров смотреть. Он закрыл глаза и вроде бы даже задремал. Снилось опять что-то черное. Как земля. Он силой выдрался из дремы. Долька механически улыбнулась. Она, кажется, даже не шевельнулась за все время, что он дремал. Что делать-то? Белая какая вся, даже в тепле не согрелась.
Скоро замелькали панельные дома, крыши и щиты с рекламой – Кунгур. На вокзале, схватившись за ожегший холодом поручень двери, Мур как проснулся. Снаружи стоял все тот же свирепый январь. Знобило. И небо опять как серый войлок, и еще все темнеет, того гляди, снег пойдет. Тяжелая голова. Мутит. Как мерзко пахнет городом: бензином, людьми, супом из форточек. Обшарпанные какие-то домишки, все под снегом, как под одеялом. На улице Долька прильнула опять – и ледяной поцелуй ее тоже пах бензином. Ой. Кто это рядом? А он и забыл, что у него тут девушка… Никогда раньше Долька не казалась такой бесцветной и будто бы чужой. Он одернул себя: это же Долька!
– Может, ну их, музеи? Посидим на вокзале и домой.
– Нет уж. Пойдем, пройдемся. Или зачем мы сюда ехали?
Они, держась за руки, пошли куда-то вперед, мимо почты, мимо небольших домиков, мимо магазина автозапчастей. Улица впереди выворачивала на мост через реку. Мур прочитал синий указатель: «Сылва». Куда их занесло и зачем? Сил додумать мысль не было. В глазах мельтешил черный снег. По улице редко проезжали машины, шли тетки с пакетами из магазина или с детьми, девушки парами, мужик с ящиком для инструментов. Он смотрел на них как из-за стекла. Они там, а он – здесь, с тихой, как мертвой, Долькой. Он притянул ее к себе, стал целовать – вроде ожила, ответила. Зашипела мимо проходившая бабка, и Мур отпустил Дольку, но покрепче взял за руку. Подумал, что еще один поцелуй с Долькой – и он навсегда перестанет быть собой. Почему-то поверилось в это легко. Но ведь чушь?
Ой. Он опять будто проснулся. Оказалось, из-под ног в полуметре уходит откос вниз, с крутого берега в далекие прутья торчащих из снега кустов вдоль серого полотна льда. Мур отшатнулся. Даже голова закружилась: и угораздило остановиться на краю, в пустом двухметровом промежутке между перилами моста и ограждением для пешеходов. Он прошел вперед, к перилам, посмотрел: с моста открывался черно-белый пейзаж. Все как нереальное. Какой-то ужас стыл в этой белизне реки и черноте лесов под серым небом. Торчащие по холмам вокруг елки казались хребтами обглоданных ящеров, и Мура замутило от бесконечности равнодушного пространства. И вдруг смысл этой бесконечности медленно проткнул его ум сухим, растопыренным остовом елки, с которой ссыпалась последняя рыжая хвоя: в пасмурном просторе, на высоком мосту через скрытую мертвым льдом реку, видно во все стороны и предельно ясно, что ты жертва, ты обречен. Ящеры вымерли. Люди тоже умрут все.
Разве это его мысли? Кто это думает такое в его пустой голове?
Долька перегнулась через перила, смотрела вниз, и отсвет серого пространства делал ее лицо совсем неживым. Мур оттащил ее от перил, обнял, как холодную куклу, и они долго стояли вплотную, почему-то не целуясь. Он заметил, что облачка пара от его дыхания тут же вдыхает она. А ее дыхание, остывшее, вдыхает он. И потому так холодно внутри. Он чуть отодвинулся. Но вдруг Долька навсегда останется мертвой, даже если будет казаться живой?
– Нам нужен мост повыше, – сказала Долька, покосившись за ржавые перила. – Через Каму. Он громадный. Поехали в Пермь.
– Зачем нам мост?
Долька не ответила, пошла назад, к вокзалу, и ее рука, вцепившаяся в пальцы Мура, стала похожа на клешню скелета. Ершиком встали волосы сзади на шее, в животе все смерзлось в острые ледышки. Похоже, это правда не Долька. А кто-то внутри Дольки. Бросить ее, убежать? Но куда Долька тут? С черт знает чем внутри? Что делать-то? Голова мутная, воли нет, и промерзший насквозь Мур шел послушно, забыв про мост: надо в поезд, потом ехать… И это тело что – все, что осталось от Дольки? Ведь настоящая Долька в жизни бы не стала вот так играть задницей, она целоваться-то еще вчера толком не умела…
А сколько времени? Такая темень то ли вокруг, то ли в уме… Мур неуклюже обогнул дорожный столбик из рядка, отделявшего проезжую часть от тротуара, через силу сжал как будто чужие пальцы, остановился:
– Стой. Что-то не так. Что-то совсем не так.
– Какой ты сильный, малыш, а? – с досадой сказала она.
– Я не пойду ни на какой мост, – сказал он в белые глаза.
– А я пойду! Отвези меня туда!
Если в Перми черт знает что в облике Дольки затащит их на мост через Каму… Мур представил железнодорожные фермы высоко над черными промоинами в белом полотне широкой-широкой реки, пар дыхания, который там, на высоте, выпьет из него Долька, и его слегка затрясло. Долька же боится высоты. А тварь в ней – нет. Она угробит их обоих… Долька выдохнула холод ему в лицо, и что-то в его мозгу сладко зашептало: как же Долька красиво полетит вниз, на лед, а то и прямиком в черную, дымящуюся промоину, и жалкий последний парок, что вырвется из их легких, смешается с паром от воды, и… Что это рычит?
И что, жить Дольке или нет, решит какая-то нереальная дрянь? – рванулся из этого морока Мур. Долька шла к вокзалу и тащила его за собой, как теленка. Он уперся было, даже схватился за столбик ограждения – но тут двигатель взревел уж совсем близко, раздался удар, звон, треск и лязг, кто-то истошно заорал, мимо пролетел погнутый столбик ограждения, сверкая белыми и красными стекляшками катафотов, – и время остановилось.