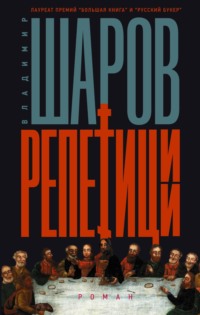Полная версия
След в след. Мне ли не пожалеть. До и во время
Летом шестидесятого года Сивцев и Федор Николаевич прошли от верховьев реки Красивая Меча к верховьям Дона и дальше – через Ряжск, на север, к Оке. От этого путешествия среди бумаг Федора Николаевича сохранился собранный и роскошно оформленный им самим гербарий. Его я потом подарил на день рождения своей дочери Оле – она до сих пор считает, что лучшего подарка ей никто и никогда не делал. Сейчас она учится на втором курсе биолого-почвенного факультета, хочет быть ботаником и считает себя ученицей Федора Николаевича.
Мне тоже нравится его гербарий, нравится читать его общие рассуждения о природе засечного леса, нравится разбирать подробные ссылки на других людей, многие годы изучавших эти леса. Я люблю листать страницы с ломкими шуршащими растениями, люблю читать их латинские и русские названия; многих из них, особенно трав, я раньше не знал – и теперь как бы сам даю им имена, помогаю соединиться с ними.
Год назад мы с Ольгой тоже ездили и частично прошли по тем местам, где когда-то были Федор Николаевич и Сивцев; видели те же леса и реки, даже собрали свой небольшой гербарий. Я знаю, что Федор Николаевич часто вспоминал полтора месяца, которые он провел, ходя по засечным лесам, да и я тоже люблю вспоминать наше с Олей путешествие от верховьев Дона до Ряжска.
Даже то, что комментарии к гербарию сделаны почти нарочито сухо, – для меня хорошо: они ничему не мешают и ничего не заслоняют из того, что я помню, но они нужны мне как канва, как вешки, обозначающие дорогу, которую прошел сначала он, а потом, следом за ним, я.
Первые полтора года жизни Федора Николаевича в Воронеже были продолжением его бегства из Москвы, бегства от всего, что было с Москвой так или иначе связано. Он тогда не просто стремился выйти за пределы своего московского прошлого, а оставить между собой и прошлым мертвую зону, как бы «дикое поле» (в нем как раз оказывался Воронеж), так, чтобы две части его жизни, старая и новая, нигде и ни в чем не соприкасались.
В это время Федор Николаевич начинает писать довольно странную повесть. К сожалению, от нее уцелели только фрагменты. Он пока еще в полном смысле «без роду и племени». Зная о близких только имена и даты, в лучшем случае общую канву жизни, он пытается достроить, дополнить до целого то, что лишь намечено; когда звенья отсутствуют вовсе – придумывает, и так, шаг за шагом, надеется вырастить свое родовое дерево.
Он мечтает о близких, родных ему людях, которые множатся, окружают его всё гуще и гуще, и он перестает быть тем одиноким и ото всех отошедшим человеком, каким был в жизни. С настоящими и выдуманными родными Федор Николаевич щедро делится всем, чем может, в частности, прототипом отца становится уже известный читателю Зара; вообще род, наследование, семья, отец в разных транскрипциях и трансформациях почти маниакально присутствуют в каждой части рукописи; город Нанков – это, конечно же, Воронеж; нетрудно найти и другие реминисценции.
Но не всё в этом повествовании однозначно и просто; у Федора Николаевича были очень высокие представления о справедливости, к своей жизни он по-прежнему относился жестко, даже жестоко, еще не научился себя прощать, вообще прощать жизнь; многое в повести – памятник этому. Например, несколько новелл, две из которых приписаны журналисту-«известинцу», – не только о времени, убившем всю его семью: в них и сам Федор Николаевич введен и приравнен к этому времени. Всё же я думаю, что идущее ниже так или иначе есть реабилитация прошлого, всех и всего, что в нем было.
В семь лет я научился читать, в восемь прочел Гоголя. День моего рождения – 13 марта (25 марта по старому стилю) – странным образом совпал с днем, когда майор Ковалев обнаружил, что у него исчез нос. Мой нос чрезвычайно велик, он всё время стоит у меня перед глазами, и тогда, и сейчас он причинял мне немало огорчений, – но он не похож на нос майора. Много раз я перечитывал рассказ, пытаясь точнее определить несомненную для меня связь между пропажей носа Ковалева и моим рождением, и наконец понял: не мой нос, а я сам – нос Ковалева. Своей догадкой я поделился с матерью, которую очень любил и которой во всём доверял; отцу я не стал ничего рассказывать: этот факт мог его огорчить и надолго выбить из колеи. Он и так считал себя виноватым передо мной. Мать пыталась меня успокоить и разуверить в казавшейся ей позорной связи. Аргументы ее были чисто женскими, она говорила, что очень меня любит и, без сомнения, не могла бы так любить ковалевский нос. Правда, один довод был разумен, не знаю, где она его вычитала, – оказалось, что сюжет «Носа» «бродячий». Моя бедная мама разыскала чуть ли не все рассказы, где были «беглые» носы, однако совпадение даты моего рождения с датой, когда майор потерял свой нос, объяснить ничем, кроме случая, не могла.
С шестнадцати до двадцати четырех я занимался только стихами; я писал о воде, дожде и снеге, писал о траве, когда мне казалось, что она течет, как вода. Я понял, что у всего, что я вижу, есть свой язык, свой словарь, – и достаточно переписать слова: как угодно, без смысла, без рифмы и размера, – и любой увидит то, что видел я: дорогу, лес или поле.
Когда-то давно я жил в Коломенском, в большом шестнадцатиэтажном здании на набережной. В городе природу, равную прямоугольнику неба над головой, не чувствуешь. В Коломенском всё было по-другому. Река, огибающая дома, незастроенный противоположный берег отдаляли и отгоняли город, который в ясную погоду был виден почти весь. Погода менялась каждый час, воздух густел, и постепенно в тумане исчезали сначала дальние, а потом и ближние дома, берег и река, черные пятна барж, скользя где-то между небом и водой, проплывали почти у самых окон, часто слышались длинные резкие гудки. Потом светлело, снова, как после дождя, появлялся город – и всё дальше, дальше и дальше, до самых крайних пределов зрения. Так бывало по многу раз в день. Казалось, что воздух беспрерывно пульсирует, а вместе с ним увеличивается и сжимается округа.
Помню, что сначала я целые дни проводил у окна, следя за изменениями погоды и за рекой, которой в Москве очень мало, потом мне уже не надо было подходить к окну, чтобы узнать, что погода переменилась, – я чувствовал это и так. Мои настроения, мысли и писания стали зависеть от нее целиком. Тогда же, наблюдая за воздухом, небом и водой, я понял, как тесно всё друг с другом связано, как легко одно перетекает в другое и разные вещи сливаются воедино. В стихах я как раз и хотел передать эту текучесть, эту близость и легкость перехода одного в другое, я хотел показать, что во всём, что мы видим, нет никакого порядка, никакой иерархии, что всё существует одновременно, всё соприкасается со всем и от всего зависит, поэтому я и писал сначала без знаков: я хотел, чтобы все слова, как и всё в этом мире, стояли рядом со всеми, я хотел, чтобы первая строчка переходила и во вторую, и в последнюю, и в любую другую, а знаки, особенно точки, так разделяли всё.
Когда мне исполнилось двадцать три года, родители отнесли стихи знакомому редактору. Он сказал, что такое можно писать, имея машину, трехкомнатную квартиру и дубленку, и что даже тогда к ним нужен «паровоз». Ни того, ни другого, ни третьего у меня не было. Родители были разочарованы, я тоже. Из разговора с редактором я сделал единственный вывод – пора браться за ум. Через пять лет я окончил факультет журналистики и был распределен в райцентр Нанков заведующим отделом комвоспитания местной газеты.
Через три года я был уже главным редактором. Редактор я был хороший и со всеми ладил, некоторые странности поведения мне охотно прощали. Своих стихов в газете я так и не напечатал.
В Нанкове я снова вернулся к повести о своей жизни. Я писал ее, как и тогда, в двадцать лет, – из детства, глядя на себя оттуда. Я хотел вспомнить и сохранить все свои беды, все страхи. Раздвоенность хорошо видна на ее страницах. Возвращение носа к майору Ковалеву не вернуло мне здоровья, на всю жизнь я остался печальным и нерешительным. Вот несколько кусков из нее:
«Итак, я снова оказался в этом маленьком захолустном городке. “Через четыре года” – мысль пришла как-то сама по себе, не прерывая узнавания дороги, старых домишек с цветными потускневшими наличниками, заборов, подпирающих тяжелые яблоневые ветви. Ноги привычно обогнули угол, город неожиданно кончился, но улица шла дальше, перебиралась через речку и уже на холме упиралась в высокий бетонный забор с аккуратно оставленным в нем узким отверстием для калитки и большой темной проходной.
Последние двадцать метров дорога тянулась между унылыми от небесной сухости цветниками с поникшими анютиными глазками, засохшей травой и сухими палками-стеблями каких-то больших и, наверное, ярких растений. Рядом с калиткой, там, где проходная целиком закрывала стоящее торцом здание завода, улица раздваивалась, и часть ее, пройдя в узком коридоре между забором и цветником, поворачивала за угол и, словно тормозя, растекалась около широкого каменного крыльца столовой. За высокими стеклянными дверями, среди отражений и солнечных бликов, был виден зал со множеством столов телесного цвета, плиточный пол, рельсы с кассой в конце, по которым каждый день чередой двигались подносы с белыми тарелками, украшенными несмывающимся клеймом торгующей организации».
В Нанкове всё так и было: заводская столовая, занавеска, дрожащая от сквозняка, а за ней – маленькая пивная. В пивной я бывал каждый вечер. Я сидел там и мечтал о парижских кафе. В моем воображении они больше всего смахивали на дамские шляпки – маленькие, без стен, открытые со всех сторон домики, вылезающие на тротуар, с обязательной клумбой больших ярких цветов на крыше. Зимой домики обрастали стенами из стекла и на фасад сверху свисали длинные тонкие растения, по которым текла вода. Я сидел где-нибудь в закутке, съежившись, чтобы сберечь тепло, и смотрел на людей в мокрых блестящих плащах, на отблески света в стеклах…
В Нанкове я не спился, но, думаю, останься я там еще на несколько лет, всё было бы по-другому. Я это понимал. Тогда же мне рассказали историю о богатейшем русском помещике, который до революции каждый год выезжал в Монте-Карло и в казино, играя в рулетку, ставил на все номера сразу. Быть может, он хотел всегда угадывать, всегда выигрывать или был провидец: после революции, когда у него не осталось ни гроша, правление казино за бескорыстие назначило ему пожизненную пенсию. Я тоже готовил себе старость. Толстая, разляпистая Таня, наливавшая пиво, любила меня, как почти все женщины старше сорока лет, – моим соседям по столику, да и другим, нередко перепадала от меня лишняя кружка; я хорошо слушал, и это ценили. Судьба отблагодарила меня странным, но еще более щедрым образом.
Одним из моих постоянных соседей по стоящему в самом углу столику был слесарь, хохол Василий. В нашем городе он появился незадолго до меня, и это нас сблизило. Работал он здесь же, на заводе, здесь же и спивался. Делал он только самую тонкую работу. Руки его были городской достопримечательностью. Мой предшественник на посту редактора хотел сделать из него героя труда (он же нас, кстати, и познакомил), но Василий остался холоден ко всем статьям о себе, пил и ничего не замечал.
Что бы кто сейчас ни говорил, история его вполне удивительная. До сорока лет он жил с женой на Украине – вытачивал уникальные инструменты и в рот не брал спиртного. В сорок лет его записали на курсы марксизма-ленинизма. Заниматься ему было интересно. Он старательно конспектировал работы, которые проходили на курсах, много читал и сам. Ему нравились их идеи, но еще больше то, как они к ним шли, как они их «делали». Это было другое, но, несомненно, близкое, родственное ему «машинное» мышление. Огромные заводы и фабрики производительных сил, длинные последовательные цепи доказательств, вытачивающие из хаоса человеческих связей детали производственных отношений.
Маркс, Энгельс и Ленин представлялись ему инженерами, особенно почему-то Энгельс. Когда он смотрел на его портрет, ему всегда вспоминалась мать, которая всю жизнь мечтала, что он выучится на инженера, но так и не дождалась. После школы сразу пришлось идти на завод: кончались сороковые годы, есть было нечего. И вот теперь, почти через четверть века, снова сев за парту и тщательно, шаг за шагом разбирая ленинское учение о партии нового типа, о том, как и из кого она должна создаваться, как она должна воспитывать массы и руководить ими, он с радостью находил в нем всё больше и больше сходства с любимым, читанным не один раз учебником сопромата.
Весной, перед праздником, когда двухлетние курсы уже подходили к концу и осталось всего несколько занятий по последним работам Ленина, лектор, зная о замечательных руках Василия, попросил его изготовить что-нибудь редкостное к приближающемуся юбилею. Василий согласился не сразу. Ему самому хотелось изготовить нечто достойное учения Маркса – Энгельса – Ленина, как бы ответить им. Он чувствовал в себе силу, но не знал, что же сделать. Лектор, который сам когда-то занимался резьбой по дереву, хотел, чтобы Василий вырезал профили Маркса, Энгельса и Ленина, но Василий чувствовал, что это мало, и не соглашался. И вот как-то вечером, после смены, читая статью уже смертельно больного Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин» и вновь, как всегда, поражаясь точности его мысли, Василий понял, чтоˊ сделает к юбилею: он вырежет всю статью от первой до последней буквы на рисовом зерне.
До праздника оставалось всего ничего – два месяца. На заводе горел квартальный план и часто приходилось работать по выходным. Успеть было почти невозможно, надежда оставалась только на отпуск, но как раз на этот год профком выделил ему две путевки в санаторий в Крым, о котором жена Василия, Наташа, мечтала много лет. Всё же он решил с ней поговорить.
Не знаю почему, но Наташа сразу согласилась, и тогда, впервые за пятнадцать лет их супружества, Василий понял, что любит ее. В тот же день втайне от всех он начал работать: два часа утром до смены и три часа вечером, а по выходным он сидел, склонившись над микроскопом, весь световой день. Невидимым для глаза движением касался он зерна тончайшим скальпелем, и на его белой поверхности возникали одни за другими штрихи, которые складывались в буквы, слова, фразы ленинской мысли.
7 апреля, в теплый, почти летний воскресный день, когда Василий сидел в комнате и, как всегда, работал, в калитку постучался лектор. Василий вышел к нему, а когда через несколько минут, договорившись об очередном занятии, вернулся домой, – его ждала катастрофа: окно было распахнуто (жена решила проветрить комнату), и в маленькой бархатной коробочке, где он оставил зерно, было пусто. Целый день с лупой ползал он по полу, пытаясь найти его, но напрасно – зерно исчезло. Да он и сам знал, что потерял его навсегда, еще тогда, когда увидел открытое окно. В тот же день Василий уехал из поселка. Пару лет он скитался из города в город, с завода на завод, пока не осел у нас в Нанкове. В его родном городе, недолго посудачив и сойдясь на том, что здесь не обошлось без разлучницы, о нем забыли. Соседи жалели Наташу и помогали ей чем могли.
В тот год на ее огороде вырос какой-то странный, никогда не виданный сорняк. Несколько раз она тщательно пропалывала все грядки и, казалось, избавилась от него, но на следующий год, после первых майских дождей, он появился снова – и так пошел в рост, что заглушил все посадки, даже картошки хватило только до Пасхи. А еще через год не только у Наташи, но и у других не росло ничего, кроме нового сорняка. Это было настоящее бедствие – полпоселка жило со своих огородов, и старый, всеми чтимый учитель биологии Егор Кузьмич послал кулек ярко-алых семян сорняка в Тимирязевскую академию, моля о помощи.
Через три месяца из Москвы приехала большая и, как видно, очень ответственная комиссия (сопровождал ее первый секретарь местного обкома партии). Целый день комиссия вместе с Егором Кузьмичом ходила по домам, расспрашивая хозяев о житье-бытье, о погоде, об урожае. Члены комиссии охотно осматривали заросшие сорняком сады и огороды, и, хотя ничего прямо сказано не было, в поселке сразу поняли, что товарищи приехали из Москвы из-за этой диковинной травы. Через два дня, во вторник, делегация уехала, а в среду утром поселок оцепили войска, никого не впускали и не выпускали, и даже школьный пионерский хор – победитель районного конкурса – не смог поехать на областной смотр.
По поселку сразу же поползли тревожные слухи. Говорили, что здесь замешано ЦРУ: оно погубило поселковые огороды и теперь хочет уничтожить всю страну, сорняк ядовит хуже всякой радиоактивности и может отравить землю на сто лет. Людская память легко связала два происшедших почти одновременно события – исчезновение Василия и появление сорняка, и уже через день в поселке никто не сомневался, что Василий был шпионом. Тогда же толпа народа собралась у дома Василия, чтобы убить Наташу, которую считали его соучастницей, и только вмешательство председателя поселкового Совета, заявившего под присягой, что Наташа первая напала на след преступной деятельности мужа и он бежал из семьи, боясь разоблачения, спасло ей жизнь. Как нередко бывает, соседи, да и другие жители, стыдясь своих нелепых подозрений, теперь наперебой звали Наташу в гости, а некто Пуртов, ее главный ненавистник, ночью прибил на фасад Наташиного дома табличку «Дом образцового содержания». Табличку он завоевал за неделю до приезда комиссии в упорном соревновании со всей улицей и очень ею гордился.
Вскоре слух о том, что трава ядовитая, и вовсе улегся. Оказалось, что коровы охотно ее едят и дают молока куда больше и жирнее, чем раньше. Этот факт окончательно смутил всех. Не понимая, что происходит, жители были готовы броситься в любую крайность, а когда на десятый день после отъезда комиссии завод из-за нехватки сырья встал, в поселке началась паника. Власти были вынуждены выступить на страницах заводской многотиражки с успокоительным заявлением. Заявление, хотя и составленное в туманных выражениях, могло бы много помочь делу, если бы в тот же день, впервые за пятнадцать лет, на прилавках магазинов не появилось мясо. Мяса было столько, что образовавшиеся сразу очереди уже на следующий день рассосались, а знатоки, не раз бывавшие в Москве, говорили, что и там такое изобилие бывает не часто. Наевшись мяса, люди задумались. Они стали сопоставлять приезд комиссии, прибытие войск, появление мяса – и ужасная мысль зародилась в их головах: уж не подозревают ли всех нас в том, что мы были завербованы шпионом Василием на службу в ЦРУ и, чтобы погубить Родину, по его заданию засадили огороды проклятой травой?
В ту же ночь тысячи жителей поселка, в том числе передовики производства, помня, что только чистосердечное признание может облегчить их вину, отправили в компетентные органы письма, где разоблачали свои преступные деяния. Попутно они сообщали имена всех своих знакомых и соседей, которые также, по их сведениям, были американскими шпионами. К счастью, эти прискорбные действия не имели никаких последствий – войскам, окружавшим город, было приказано уничтожать всё, исходящее из поселка, что они, верные долгу, и делали.
В томительном ожидании прошла еще неделя, а потом как-то утром жители обнаружили, что войска покинули окружающие поселок высоты, а из магазинов исчезло мясо. События, внесшие столько тревоги и сумятицы, на самом деле имели весьма простое объяснение.
Через четыре дня после того, как Егор Кузьмич отправил свою посылку, она попала на стол его старинного приятеля и сокурсника, профессора и заведующего кафедрой ботаники Ивана Архиповича Серегина. Хотя пути их разошлись еще до войны (Серегин сразу же занялся наукой, а Егор Кузьмич в начале тридцатых годов поехал в степной украинский колхоз агрономом), они сумели остаться друзьями, переписывались, а раз в несколько лет и встречались. Пять лет назад, когда Егор Кузьмич вышел в отставку из агрономского звания и осел в поселковой школе учителем биологии, переписка почти заглохла, и вот теперь, получив весточку от старого друга, последнего, кто был еще жив с их курса, Иван Архипович был несказанно рад. Он несколько раз внимательно прочел письмо, тщательно, надев очки, осмотрел присланные зерна и радостно потер руки. Это был, несомненно, новый вид.
«Наконец-то Егору повезло, – думал он весело, – да еще как повезло! Найти в самом исследованном районе страны, чуть ли не в центре Европы, новый вид – это настоящая сенсация. Надо скорее сделать описание растения и послать его за подписью Егора в журнал. Сегодня же доложу о нем на кафедре, а завтра пошлю». Серегин пододвинул к себе старинный цейсовский микроскоп, поместил зерно на подставку и стал медленно крутить винт, наводя микроскоп на резкость. Постепенно мутное розовое пятно стало принимать форму зерна, несомненно рисового, только гораздо крупнее и невиданного для риса ярко-красного цвета. Наконец очертания зерна стали четкими, и Серегин увидел, что всё оно, кроме самого низа, испещрено какими-то штрихами.
«Очень похоже на буквы», – сразу же подумал он и стал переписывать значки на бумагу. Закончив первый ряд, он решил посмотреть, что же получается, и ахнул: на бумаге его почерком были написаны самые настоящие буквы. Дрожащими руками Серегин снял очки и, протерев их, снова надел.
«Это буквы. Вне всяких сомнений, – сказал он себе, – их даже можно читать, и я их прочту, – повторил он, чтобы придать себе больше уверенности. – “Но я не отрицаю в то же время, что вопрос о нашем госаппарате и его улучшении представляется очень трудным…” – твердо произнес он и, снова склонившись над микроскопом, продолжал читать и писать: “…далеко не решенным, в то же время чрезвычайно насущным вопросом…”»
«А еще говорят, что человек придумал письменность, – со злорадством подумал Серегин. – Всё, всё от матушки-природы, – а мы ее, родную, мучим, насилуем, переделать хотим». К четырем часам дня, когда ему пора было ехать в академию, текст с зерна был переписан и то, что нужно для доклада, готово.
Всю кафедру Серегин вел себя очень нервно, перебивал, что было совсем не в его правилах, окорачивал выступавших и с трудом дождался конца официальной части. Наконец, текущие дела были обсуждены, обязательства приняты, и Серегин, встав со стула, торжественно начал:
– Друзья, – сказал он, – вчера из города Супова ко мне пришло письмо моего старинного приятеля Егора Кузьмича Т., в котором я, к своему несказанному удивлению, обнаружил описание нового вида сорняка. Да, да, – повторил он, заметив скептические улыбки сотрудников, – новый вид сорняка в центре Украины. Сейчас я зачитаю вам, что о нем пишет Егор Кузьмич, а потом познакомлю с собственными изысканиями.
Через двадцать минут, закончив чтение письма, профессор Серегин сказал:
– А теперь нечто еще более поразительное: поместив сегодня зерно под микроскоп, я обнаружил, что оно покрыто какими-то значками. Всмотревшись, я увидел, что это обыкновенные русские буквы. Да, обыкновенные русские буквы. На всех зернах буквы одни и те же, так что это не случайность, а несомненный видовой признак. Все их я переписал на бумагу и теперь зачитываю вам то, что получилось. «Но я не отрицаю в то же время, что вопрос о нашем госаппарате…» – начал он хорошо поставленным лекторским голосом…
Профессор еще не кончил, когда с кафедры, извинившись, тихо вышел доцент Кузин, через пять минут он вернулся, а еще через десять заседание было неожиданно прервано тремя дюжими санитарами со «Скорой помощи», которые увезли Серегина в районную психиатрическую клинику. В тот же день уборщица выкинула в окно злосчастные семена, а еще через месяц, когда хронический характер заболевания профессора стал всем очевиден, доцент Кузин был избран на давно вожделенный пост заведующего кафедрой ботаники.
В психиатрической клинике Серегин провел около трех месяцев. Сначала его положили в обычное отделение, но там он вел себя так кротко, так достойно сносил свалившееся на него несчастье, что уже через две недели его, в нарушение всех правил, перевели в санаторное отделение, куда обычно помещали уже выздоравливающих больных. Интенсивное лечение профессора, к огорчению врачей, не дало почти никакого эффекта. По-прежнему его во всём адекватное поведение резко контрастировало с так неожиданно обнаружившейся манией, которую врачи назвали «манией красного зерна». Через три месяца дальнейшее пребывание Серегина в больнице ввиду его безвредности и явной неизлечимости было признано излишним, и он был выписан с длинным диагнозом, суть которого сводилась к следующему: на почве прогрессирующего старческого склероза у профессора Серегина развился маниакальный психоз; болезнь приняла хронический характер, что обычно для больных в его возрасте, однако состояние стабильное и признаков ухудшения не наблюдается, больной для окружающих не опасен и может быть передан на попечение родственников. Незадолго перед выпиской заведующий отделением вызвал Серегина к себе и сказал: «Мы вам можем оформить первую группу инвалидности, однако буду с вами откровенен – шансов на излечение мало, и я бы посоветовал просто выйти на пенсию. Так проще, спокойнее, да и денег вы будете получать рублей на сто больше, что немало».