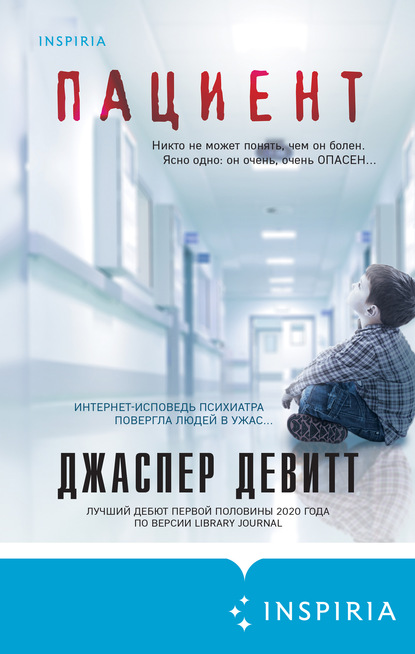Полная версия
Забытые кости
После старушки карусель и закрутилась. Паранойя, мания величия, панические атаки, странные провалы во времени: для здравомыслящего, вменяемого человека – безумие, но для больного шизофренией – обыденность, повседневная реальность. Пошел к дантисту, и, пока удаляли зуб мудрости, правительство имплантировало ему в мозг микрочип. Семья замыслила его убить. Шепчущие голоса в вентиляционной шахте подтверждали то, что он давно подозревал: мир таков, каким он его видит, и в лечении на самом деле нуждаются все остальные. Когда близкие, любимые люди выступили против его заблуждений, Эрик логично рассудил, что в реальности они не существуют, что их на самом деле просто нет, а есть голограммы, созданные, по всей вероятности, микрочипом. И у всех у них одна цель – разделаться с ним.
Теперь он каждое утро принимал лекарства, антипсихотик и антидепрессант: минолдезин и раксин. Как и двух похожих снежинок, двух одинаковых шизофреников не найти. На пике обострения он представлял, что находится Внутри Кривой. Фраза бессмысленная, но для Эрика это все имело свой причудливый, идеальный смысл.
Некоторые бедолаги сражаются с галлюцинациями ежедневно, он же мог не сталкиваться с ними годами – если продолжал регулярно принимать лекарства. Таблетки вызывали небольшую сонливость, но благодаря им болезнь проявлялась не так заметно, поэтому он не обращал внимания на некоторую заторможенность. Кроме того, под рукой всегда был эспрессо.
Окончательно отделаться от своих друзей, обладателей вкрадчивых, воркующих голосов, звучащих у него в голове, было намного труднее – при шизофрении один на один с собой ты не остаешься никогда. В тех нечастых случаях, когда они начинали уж очень буйствовать, Эрик приглушал их, насвистывая музыкальную тему из «Шоу Энди Гриффита»[3]. Если во взрослении и был положительный аспект, то для Эрика он заключался в том, что голоса со временем притихли. В тридцать шесть он уже едва замечал их. Они стали не более чем фоновым шумом, как работающий в другой комнате телевизор. Он даже подозревал, что скучал бы по ним, если б они вдруг исчезли совсем, как горожанин скучает по шуму дорожного трафика после переезда в пригород.
Подобно большинству шизофреников, Эрик обнаружил, что его симптомы обостряются в периоды крайнего волнения и беспокойства. Как, например, в прошлом году, когда он узнал об Измене.
Об Измене Эрик старался не думать без особой необходимости.
Мэгги была ему неверна. По мнению Эрика, предательство было тройное, потому что Джим, другой (Эрику этот термин казался столь же нелепым, как и любовница), был его коллегой, лучшим другом и (барабанную отбивку, пожалуйста) старшим братом. Теперь осталась только одна ипостась – статус родственника никуда не денешь.
Эрик увидел их в окно.
Джим, оглядев исподтишка постыдно модное веганское кафе, в котором укрылась парочка, провел ладонью по свитеру Мэгги и торопливо тронул ее за грудь. Мэгги шутливо хлопнула его ладонью по колену, после чего они ткнулись друг в друга лбами и захихикали. Взрослые люди вели себя как подростки. Целых семнадцать страшных минут Эрик топтался под падающим снегом, пока его жена и брат миловались в кафе. Обжимались. Нашептывали всякие словечки друг дружке на ухо. Целовались.
За актом их Измены он наблюдал немигающими глазами, под стук сердца в ушах, сжав кулаки так, что ногти прорвали кожу, позабыв внезапно, как дышать, как думать рационально, пытаясь убедить себя, что ошибся, неверно интерпретировал ситуацию, но зная в глубине души, что все так и есть. Даже слепец увидел бы неверность. И они делали это здесь, открыто, у всех на виду, не скрываясь, словно надеялись, что их поймают.
Им и в голову не приходило, что Эрик все видит.
Они заметили его только тогда, когда он ворвался в кафе «Мунфлауэр» и отмолотил брата до бесчувствия под льющиеся из динамика причитания Боба Марли о мире и любви. Джим, бывший на добрых 30 фунтов тяжелее и на четыре дюйма выше Эрика с его 185 фунтами и почти 6 футами, не сопротивлялся, что только распалило последнего. Даже не прикрывал свое лицо симпатяги, предоставив брату полный карт-бланш, пока тот не решил, что достаточно.
Крику, как и можно было ожидать, хватало. Кричали посетители, кричала Мэгги. Хипстеры-неорастаманы с тугими дредами испытали такой шок, что уже не могли поглощать свои пятидолларовые грибные чаи и семнадцатидолларовые бургеры с черными бобами; к такому откровенному проявлению насилия они не привыкли.
Голос самого Эрика в течение всего действия звучал чуть громче шепота.
– Я знал. Знал, черт побери. – Только эти слова он и произнес, качая горестно головой, после чего вырвался из кафе, словно безумец из «Ночи живых мертвецов», в одежде, испачканной кровью брата.
В детстве Джим и Эрик дрались частенько, находя причину в бессмысленном братском соперничестве, но случай в кафе стал первым, который Эрик вспоминал впоследствии как Великое Избиение в кафе «Мунфлауэр»-2018, и единственным за всю его жизнь, когда он сознательно хотел причинить брату физическое увечье.
И причинил.
У Джима обнаружили трещины в двух ребрах, перелом носа, вывих челюсти и рассечение брови, на которую наложили пять швов. Эрик сожалений не выразил, да Джим и не ожидал. Он знал, что виноват. Полицию не вызывали – вопреки требованию Мэгги. Джим заявил, что обвинений выдвигать не будет.
Причина, спровоцировавшая Эрика на такую жестокость – к концу избиения костяшки пальцев напоминали перезревшие помидоры, – заключалась не в недостатке скрытности со стороны Джима и Мэгги, а в том, как они использовали его шизофрению к собственной выгоде, чтобы уязвить человека и без того психически увечного.
В первую очередь Эрик доверял собственной интуиции. С его вывернутым мозгом другого варианта для выживания не было. Предчувствие чего-то нехорошего появилось задолго до того, как судьба решила вмешаться и пробила ватерлинию, проходившую под Уиллз-авеню, изменив тем самым обычный курс Эрика домой и направив его мимо кафе «Мунфлауэр».
Правда оказалась гнилой занозой, гноящейся под хрупкой оболочкой их брака. Как ни старалась Мэгги скрыть ее, она в конце концов вылезла наружу, как неизбежно и случается с правдой.
И все же было больно, когда нарыв прорвался.
Мелкие обманы Эрик подмечал давно. Ложь, которую нельзя было доказать, но которая все равно оставалась ложью. Детали одной истории, противоречившие деталям другой. Где Мэгги была, с кем была, на сколько задержалась. Притворно-простодушная рассеянность. «Ничего себе, должно быть, перепутала дни… А теперь уже не могу вспомнить, где была в среду во второй половине дня». Внезапные и странные перемены в манере обращения с телефоном: защита паролем, острая потребность держать его постоянно при себе, брать в душ, перенаправление звонков на голосовую почту, когда они были вдвоем…
Трусливая увертливость:
Что-то происходит, Мэгги? Что-то, о чем мне нужно знать?
Я думала, ты счастлив со мной, Эрик.
Счастлив, но не обманываешь ли ты меня?
Это было бы нехорошо.
Так обманываешь?
Мы женаты лишь несколько лет.
Я понимаю, но была ли ты с другим мужчиной?
По-моему, ты пытаешься затеять ссору.
Ни одного прямого ответа. Только хождение по кругу.
Тему их флирта Эрик поднимал в разговорах и с Мэгги, и с Джимом. Вначале они только пожимали плечами и поднимали брови, но ближе к концу дошли до полного бесстыдства. Он предупредил, что, возможно, они и не делают «ничего такого» (их слова, не его), но его ставят в неудобное положение. Тем более когда это происходит в общественных местах и является проявлением неуважения к нему лично и институту брака. Джим и Мэгги назвали его параноиком и даже предположили, что ему это «мерещится». Опровергать их обвинения было непросто.
Как-никак он сумасшедший.
Мэгги и Джим знали, что обвинять шизофреника в паранойе – это вещь столь же болезненная, сколь совет человеку с патологическим ожирением отказаться от шоколадных батончиков, когда он рвется в супермаркет ради полночного перекуса.
Они обрывали Эрика, стыдили, заставляли сомневаться в собственном здравомыслии. Прибегая к таким уловкам, они едва ли не целый год сбивали его со следа. Эрик и Мэгги состояли в браке чуть больше трех лет, и он не мог не думать о том, что почти треть их брака была притворством.
Эрик понимал, что если б хотел женщину, которая не привлекает мужские взгляды, то не женился бы на Мэгги. Возможно, его обуревали не самые приятные человеческие эмоции, но тупой ревностью он не страдал. Понимал и то, что мало кому приходится так же нелегко, как мужчине, взявшему в жены женщину, которая ему не ровня.
И все же. Было в отношениях Джима и Мэгги нечто такое, что всегда настораживало Эрика, что-то в их глазах, которые как будто теплели, когда они смотрели друг на друга.
В самом начале, когда они только поженились, интерес брата к Мэгги вызывал у него какую-то извращенную гордость. Даже в детстве Эрик и Джим были во многом противоположны. Позже, когда братья выросли, ситуация не изменилась. Эрик собирал винтажные футболки рок-групп, комиксы, малоизвестные фильмы ужасов; Джим покупал дизайнерские джинсы по 200 долларов, мужские журналы по фитнесу, боевики-блокбастеры. Так что Эрик обрадовался и даже разволновался – пусть и к собственной досаде, – когда понял, что завоевал сердце женщины, столь привлекательной в глазах всех, что она удостоилась даже похвалы его собственного брата.
Мэгги была красивой женщиной – блондинка, фигуристая, высокая, – это несомненно. Большинство мужчин, проявляющих интерес к противоположному полу, оборачивались, чтобы рассмотреть ее получше, когда она проходила мимо; но было в ней также нечто особенное, почти не выразимое словами.
Несмотря на твердую решимость позабыть бывшую жену, стереть ее из памяти стоило ему немалых трудов. В особенности лукавую улыбку: легкий наклон головы – такой легкий, что заметить его можно было, только если присматриваться, – полураскрытые губы и выглядывающие из-под них живые, с огоньком глаза. Даже теперь, когда он ненавидел ее (или, по крайней мере, пытался ненавидеть) и вспоминал ее лицо, эта улыбка вставала перед ним в первую очередь.
Желанной для Эрика Мэгги была не только из-за соблазнительной внешности, но и из-за своего отношения к шизофрении. Она не имела ничего против его психического заболевания – в отличие от большинства женщин – и принимала его темные моменты со стоической прямотой. Есть вещи похуже безумия, говорила она ему. Любовь Мэгги Эрик приравнивал к выигрышу в брачную лотерею и часто задумывался, почему она выбрала его, когда могла с легкостью заполучить любого мужчину.
Мэгги также была умна, что помогало ей манипулировать Эриком, и вместе с тем ее ум простирался за пределы сообразительности – на территорию мудрости. Она была веселой и смешливой и могла смеяться не только над другими, но и над собой, что Эрик считал качеством очень редким. У нее был чувственный, соблазнительный голос, подлинное наслаждение для слуха, но самым неотразимым в ней был смех: глубокий и неприличный, звучавший так, будто она публично изображает исполнение сексуального акта. Именно это делало ее по-настоящему красивой. И именно это беспокоило Эрика, когда приходил вечно вынюхивающий что-то Джим.
Брат, настоящий киношный красавец, обладал особым типом юмора, который Эрик называл юмором Того Самого Парня. Тем Самым Парнем он был на вечеринках – непринужденный, веселый, большой шутник. Его шутки часто граничили с запретными темами, но при этом никого не оскорбляли, даже если и бывали немножко злы. Подростком Эрик пытался соперничать с братом, копируя его юмор, но получалось неизменно плоско и несмешно.
С Джимом Мэгги смеялась чаще и громче, чего Эрик терпеть не мог, как и ее привычки прижиматься к Джиму и похлопывать его по плечу, когда он отпускал особо забавную шутку. Наверное, Эрик обнаружил бы Измену раньше, если б относился к таким вещам внимательнее.
Юмор Эрика отличался от понятного всем юмора Джима и Мэгги. Его IQ в 138 пунктов – уровень, близкий к гению, – отражался и в большинстве его анекдотов. Чрезвычайно умные для тех, кто их понимал, его каламбуры имели отношение к литературе, науке и поп-культуре. Его гениальность скрывалась за неуклюжестью и самоуничижением; он был зануда и ботан, которому посчастливилось родиться привлекательным: мягкие каштановые волосы и щербинка между передними зубами только добавляли мальчишеского обаяния. Так что недостатка внимания он не испытывал.
Но, конечно, до Джима ему было по этой части далеко.
Хотя Эрику нравилось преподавать геологию старшекурсникам в Уоррентоне, небольшом частном университете в Филадельфии, где также работал и Джим, он подал заявление об отставке по собственному желанию.
Джим, носитель семейных генов практичности, несколько раз думал о том, чтобы тоже уйти с должности профессора мировой экономики. Но никуда, конечно, не ушел.
Ситуацию Эрика усугубляла потеря коллег (за исключением, разумеется, Джима), многих из которых он считал семьей.
Коллеги, в свою очередь, были высокого мнения об Эрике: с ним можно было пройтись по кампусу, поболтать о музыке или узнать его мнение об ископаемых останках, найденных во время каникул. Проблема заключалась в том, что ни один из них не выразил удивления, узнав о разводе. Глядя им в глаза, Эрик видел, что они знали о шашнях Джима с его женой. Откуда? Ответа он не находил, да и не хотел искать, хотя и провел в размышлениях немало бессонных ночей. Долгий призывный взгляд, которым парочка обменялась на рождественской вечеринке? Компрометирующая ситуация в кабинете Джима, дверь в который забыла запереть Мэгги? Так или иначе, бывшие коллеги жалели Эрика – это было унизительно очевидно – и, возможно, не раз и не два пытались открыть ему глаза и рассказать об Измене.
В том факте, что жена и брат трахались у него за спиной, можно было видеть забавное клише, хотя Эрик почти не смеялся, узнав о недавней помолвке Джима и Мэгги. И уж совсем не до смеха ему стало, когда Мэгги сообщила, что беременна. Новость потрясла его до основания, поскольку на протяжении всего брака она утверждала, что вовсе не желает заводить детей. И вот теперь ему светило стать дядей ребенку собственной бывшей жены. Как мило…
Вынести такое бесчестье казалось невозможным, и задача сохранения рассудка в первые недели после обнаружения Измены сравнялась по трудности с попытками удержать обмазанную жиром свинью.
Цвета окружающего мира становились слишком яркими, звуки – слишком громкими, посторонние оказывались слишком близко. Эрик стал забывать, какой сегодня день, а иногда и месяц. Проведя немало времени наедине с шизофренией, он пришел к выводу, что действовать нужно быстро и решительно, а иначе ему грозит полная утрата контроля над разумом. После недолгих поисков Эрик нашел новую преподавательскую работу в небольшом колледже в Северной Калифорнии, в трех тысячах миль от того места в Филадельфии, о котором он позднее станет думать как о своей прошлой жизни. В плане престижа и оплаты это был большой шаг вниз, но городской колледж Перрика принял его быстро и выразил удовольствие тем, что заполучил специалиста с таким опытом.
Самое главное, там не знали о скандале, втянутым в который он оказался стараниями Мэгги и Джима.
Он получил шанс начать все заново.
С чистого листа.
Глава 3
Шефа полиции Эда Бендера Сьюзен отыскала в комнате отдыха участка, где он читал последний номер «Перрик уикли» за чашечкой черного кофе. Человек старой закалки, шеф скорее отрезал бы себе руку, чем позволил бы ей скормить несколько тяжким трудом заработанных баксов кофейному автомату за то, что вполне мог приготовить сам, потратив двадцать центов.
Чашка у Эда треснула на ручке, а наросшие слои придавали ей сходство с годовыми кольцами на мебели красного дерева. Этой чашкой шеф пользовался еще тогда, когда Сьюзен пришла в участок подростком-волонтером. Возможно, он пил из нее даже раньше, когда сам явился сюда таким же волонтером тридцать лет назад.
По жизни Эд твердо придерживался старой аксиомы насчет того, что чинить вещи нужно тогда, когда они сломались. Впрочем, Сьюзен подозревала, что шеф просто не любит перемен.
– Выглядишь не больно хорошо, – сказал Эд, оторвав взгляд от газеты, и выдвинул из-под стола стул, который толкнул в направлении подчиненной и на который Сьюзен с благодарностью опустилась.
На замечание она не обиделась – вид у нее, наверное, и впрямь оставлял желать лучшего.
– Ночь долгая. Уже солнце скоро встанет, – ответила Сьюзен, кивая на настенные часы. Заряд адреналина исчерпался, и усталость обрушилась с такой тяжестью, что она едва ворочала языком. – Там сейчас Флинн остался, у него все под контролем.
Эд тоже посмотрел на часы и кивнул. Они часто общались жестами, невысказанными намеками. Болтать попусту не любили оба, но из них двоих молчаливее все же был Эд – десятилетия работы растратили отведенный ему запас слов, и теперь до грядущей отставки осталось только молчание.
Шеф снова сел и сложил руки на газете.
– Как держишься? – В последнее время ему, возможно, уже недоставало энтузиазма в борьбе с преступностью, но никто не упрекнул бы его в недостатке внимания к сотрудникам.
Сьюзен ответила бледной полуулыбкой.
– Бывало и лучше. Но пока хожу и дышу, так что не могу жаловаться. – Она ощутила на себе его заботливый взгляд. Его отеческая забота оборачивалась разными гранями, стирая иногда профессиональные границы и обеспечивая на работе как комфорт, так и разочарование.
– Оно всегда так, когда дело касается детей.
– Это да.
Сьюзен знала, на что намекает Эд, но о чем из уважения к ней не говорит прямо, – к несчастью, труп у телефонного столба был не единственным детским телом, с которым ей довелось столкнуться по службе. Вскоре после поступления в полицию ее послали в логово сквоттеров[4] – в таком с виду благополучном городке, как Перрик, их было на удивление много – разобраться с жалобой на шум. Там-то она и наткнулась на малышку Гэби, которая была мертва уже пару дней. Мать Гэби, Дарла, впрыснула в вену крепкий коктейль каких-то химикалий и улетела так далеко, что даже не заметила, как дочка приняла за конфеты лежавшие в пакете для сэндвича пилюли сильнодействующего антидепрессанта. Позднее, протрезвев в камере и узнав о смерти Гэби, Дарла так разбушевалась, что ее едва удержали трое полицейских. До суда дело не дошло – Дарла приняла смертельную дозу спидбола[5], которым ее снабдил сутенер и по совместительству бойфренд.
Сьюзен слишком устала, чтобы вести разговоры о мертвых в духе доктора Фила. Одним из ценных качеств Эда было то, что он не вмешивался. Некоторые из более опытных ее коллег объясняли это апатией, связанной с приближающейся отставкой, но Сьюзен с ними не соглашалась, по крайней мере в том, что касалось ее должностных показателей. Она знала, что Эд доверяет ее компетенции.
– И по-прежнему никаких следов Джеральда Никола, – добавила Сьюзен, меняя тему.
Эд отхлебнул кофе.
– Ничего удивительного. На этот раз его не только посадят под замок, но и ключ от замка выбросят. Он это знает.
– С этого и надо было начинать, – сказала Сьюзен. – В смысле посадить под замок и ключ выбросить.
Эд пожал плечами: мол, что ты сделаешь?
– Подумать только, ты еще помнишь то дело… А я вот с трудом вспоминаю, что на завтрак ел.
– Помню, потому что об этом тогда в новостях говорили.
– Да, шума было много.
– Пока ждала Флинна, почитала кое-какие рапорты того времени. Этот Джеральд Никол – тот еще фрукт.
– Доказать обвинения в растлении малолетнего так и не смогли, но осудили по другим статьям.
– Да, я читала. – Сьюзен поежилась.
В 2012-м студия «Экспрешнс» в Сан-Франциско была одним из крупнейших центров дистрибуции детской порнографии в Калифорнии. Первоначально расследование координировала налоговая служба, заподозрившая владельца студии Хью Джарвиса в уклонении от уплаты. Именно во время компьютерного аудита и были обнаружены папки с фотографиями. Прежде чем Министерство внутренней безопасности успело произнести «тридцать лет тюремного заключения и 250 тысяч долларов штрафа», Джарвис успел сдать своих покупателей. Их оказалось пятьдесят девять, включая Джеральда Никола.
Доказательств физического насилия Джеральда над своими жертвами обнаружено не было – они появились позднее, после обнаружения тела ребенка, – но материалов для обвинения его в хранении детской порнографии хватало вполне. И не только в хранении, но и в распространении: он обменивал фотографии Джарвиса онлайн точно так же, как фанаты бейсбола обменивались карточками любимых игроков.
– В суде у Джеральда не было никаких шансов, – продолжал Эд. – Даже не знаю, почему они утруждали себя судом. Наверное, потому что суда заслуживает каждый. Адвоката ему дали прямо из юридической школы – парень до скамьи еще не дорос. Ненависть его к сексуальным насильникам была настолько очевидной, что он вполне мог бы нанять самолет для воздушного поздравления в день вынесения Джеральду приговора. Когда тебя ненавидит твой собственный адвокат, дело плохо.
– И вот теперь его выпустили, – хмуро заметила Сьюзен. – Места на всех не хватает.
В Калифорнии действительно не хватало мест для всех заключенных и тех, кто был осужден по ненасильственным статьям и хорошо вел себя в тюрьме, иногда выпускали досрочно. Единственное насилие, с которым Джеральд столкнулся в исправительном учреждении Миллстоун, было направлено на него со стороны других заключенных, которые если и ненавидят кого-то больше, чем доносчиков и копов, то именно насильников над детьми.
– Я позвонила его надзорному, Джуно Томисато.
Эд поднял брови.
– Мне доводилось иметь с ним дело – брюзга, да и то в хороший день. Бьюсь об заклад, ты его обрадовала звонком среди ночи.
– И даже больше того. В общем, он не удивился, что Джеральд сделал ноги. Сказал, что он скорее покончит с собой, чем вернется в тюрьму.
– Вот и хорошо. Сбережет налогоплательщикам немного денег.
В разговоре со Сьюзен Джуно Томисато сказал, что тюрьма для растлителей малолетних – сущий ад. И это мягко выражаясь. Как обычно, приговоры заключенных вроде Джеральда держат в секрете, но в тюрьме всегда всё узнают. Даже в защищенном заключении – ЗЗ-дворике, как это называют обитатели Миллстоуна – Джеральду ежедневно угрожали избиением, изнасилованием, кастрацией. У него крали пищу, его камеру обчищали начисто, его матрас и простыни обливали всевозможными жидкостями. С ним творили все, что только можно творить с человеком, все, что нормальный человек не пожелал бы даже увидеть во сне. Доказательства чинимой дикости присутствовали у него на лице: рваный шрам в форме полумесяца, след пореза бритвой вдоль скулы, от уха до подбородка. Эмблема Миллстоуна, носить которую он обречен вечно.
– Такой, как он, вечно скрываться не сможет, – сказал Эд. – Ни друзей, ни денег, ни настоящей семьи. Кстати, его мать в доме престарелых, так что у нее он прятаться не может. Рано или поздно этот мерзавец выползет из-под того камня, под которым скрывается, и мы его прижучим.
– Я, пожалуй, поговорила бы с матерью Джеральда утром.
– Ни черта ты из нее не выжмешь. Ей сейчас, наверное, лет под сто. – Эд постучал себя по голове. – У нее и мозги-то уже разжижились.
– Ей девяносто шесть, – подтвердила Сьюзен. – Ты ее знаешь?
Эд покачал головой:
– Нет, но в таком городишке, как наш, каждый о каждом что-то знает.
Сьюзен потерла глаза и моргнула, пытаясь вернуть мир в фокус. К черту сериальный марафон, к черту мороженое. Добраться до дома, и в постель.
– Ладно, я все равно хочу с ней поговорить. В любом случае не помешает, да?
Эд снова пожал плечами.
– Если думаешь, что это поможет. Только на многое не рассчитывай. – Он сделал попытку подняться. – Иди-ка ты домой. Сейчас все равно ничего уже не сделаешь. Я тоже снимусь, как только получу ответ из округа.
– Да? Они что, помощь хотят предложить?
– Пока ответ не получу, ничего не знаю. Непонятно только, чем они там, в офисе шерифа, заняты в такое время, что перезвонить не могут.
– Мне завернуть к ним по пути домой? Узнать, из-за чего задержка?
– Ты в зомби сейчас превратишься. Посмотри на себя в зеркало – глаза уже не голубые, а красные. Так или иначе, скоро ответят. – Он потряс газетой. – А я пока почитаю. Все, отправляйся домой и выспись.
Повторять не пришлось. Она отправилась домой и легла спать.
Глава 4
Эрик слышал где-то, что потерять все – это пережить катарсис. Теперь он все больше укреплялся в мысли, что так, скорее всего, говорят люди, которые на самом деле все потеряли и говорили себе это, чтобы вылезать каждое утро из постели и чувствовать себя чуть менее умирающими.