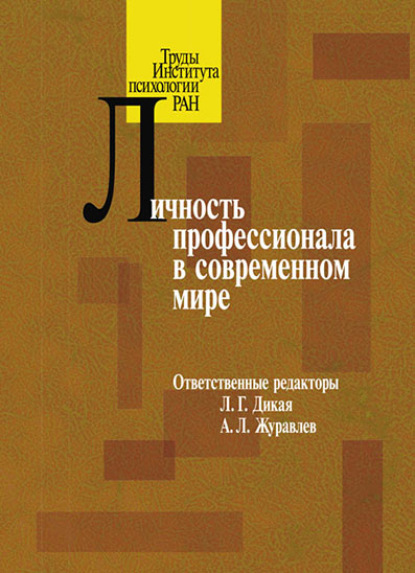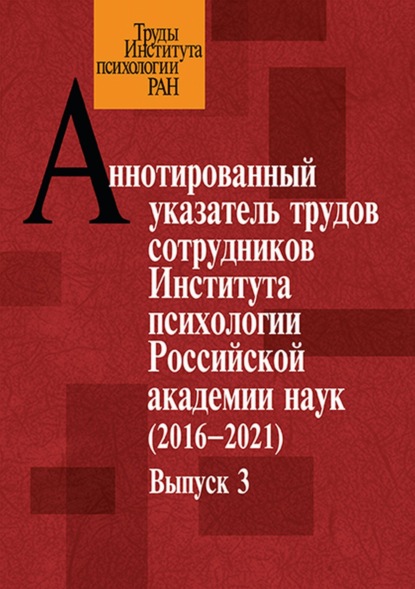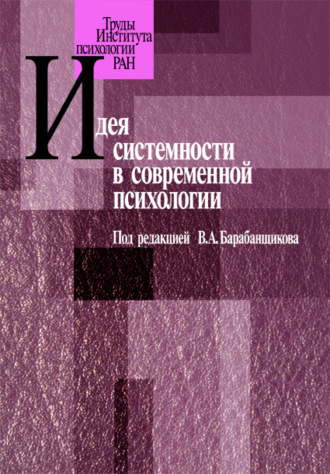
Полная версия
Идея системности в современной психологии
Через отнесенность к субъекту каждая ситуация получает волевое начало, которое, однако, не исчерпывает ее оснований в целом. Это – столкновение воль, сил, интенций, ведущее к спонтанности развития и непредсказуемости. Не случайно описание ситуаций, столь частое в литературе, осуществляется в терминах тенденций, которые изменяются самым неожиданным образом.
Жизнь человека соткана из ситуаций, в которые он вовлечен с первых секунд самостоятельного существования и в которых он не только реализуется, но и развивается. Ситуации чрезвычайно разнообразны по содержанию, способам разрешения, роли в личностном развитии и в жизненном пути. Они имеют как реальные, так и виртуальные способы организации, принадлежат различным сферам бытия, могут неожиданно прерываться или оставаться принципиально неразрешенными. Ситуация редко выступает в чистом виде: это всегда клубок событий разного уровня, разного времени жизни, разного содержательного и смыслового наполнения. При этом каждая ситуация предполагает особую позицию субъекта, соответствующий опыт, пути и способы выхода из нее. Остается удивляться универсальности и гибкости человека, его способности планомерно и достаточно успешно справляться с грузом многочисленных забот.
Ситуация – это «атмосфера» субъекта, наполняющая его жизнь предметным содержанием и смыслом. Поэтому анализ любого психологического феномена с необходимостью предполагает выход за его собственные границы в то объемлющее целое, в котором он возникает и развивается. Деятельность, общение, игра, учение – суть способы разрешения ситуаций, которые не только стереотипно повторяются, следуя степенному течению жизни, но и могут радикально меняться и требовать новых подходов и оригинальных решений.
И субъект, и объект жизнедеятельности органически взаимосвязаны и выступают как компоненты одного и того же фрагмента бытия, или события жизни, включающего психические явления в единстве с условиями их существования и развития. Данная система может иметь различное содержание, способ организации, масштаб (микро-, мезо-, макро-), подчинена определенной логике развития. По существу это и есть онтологическое основание психического как системы. Понятие события позволяет выразить важнейшие характеристики психических явлений – целостность и развитие, вписав их в естественный поток жизни. Изучение законов движения подобных систем, их развития, взаимопереходов, координаций и трансформаций представляется одной из центральных задач психологической науки (Барабанщиков, 2002).
Долгое время онтология психических явлений относилась к проблемам «второго плана» и нередко отдавалась «на откуп» смежным дисциплинам – физиологии, социологии или информатике. Исследователей больше интересовал гносеологический аспект – механизмы и способы отражения действительности в психике человека. Сегодня становится все более очевидным, что без учета способа существования психических явлений, их бытия психологическое знание остается принципиально неполным, а в практическом отношении – весьма ограниченным. Обращение к онтологической парадигме является необходимой предпосылкой разработки системно-генетического представления о психике.
В рамках рассматриваемого подхода то или иное психическое явление открывается исследователю (и должно быть изучено) в нескольких ракурсах. Во-первых, в контексте определенного фрагмента бытия, в который включен данный индивид либо группа, т. е. ситуации. Здесь лежат основания предметного содержания и динамики изучаемого феномена. Во-вторых, в рамках субъекта определенной формы активности. Здесь изучаемое явление берется в единстве внутренних условий своего существования, образующих разномодальное целое (в его состав входят: мотивационно-оценочный, когнитивный, диспозиционный, рефлексивный и другие компоненты). В-третьих, в плане той модальности психического, к которой непосредственно принадлежит изучаемое явление. Он фиксирует специфику и уникальность феномена, который выступает как сторона или момент унимодального целого. Таким образом, в каждом из ракурсов исследователь имеет дело с разными (хотя и связанными друг с другом) интегральными образованиями, а действительная природа явления реконструируется путем синтеза его различных «проекций».
Системный инструментарийИз вышесказанного вытекают главные требования к системному методу исследования психики: а) чувствительность к интегральным (системным) качествам изучаемой реальности и б) возможность внутреннего синтеза (сопряжения) выделяемого плана (измерения) с другими планами (измерениями) объекта познания.
С этой позиции далеко не каждое изучение даже системных модусов психического оказывается системным. Например, классическая процедура исследования микрогенеза чувственного образа (Ланге, 1893; Krugh Smith, 1970) не может быть безоговорочно отнесена к системным методам потому, что вырывает изучаемое явление из контекста реальной жизнедеятельности субъекта и ограничивается искусственно выделяемым фрагментом (пусть и очень важным) целостного перцептивного процесса. Микроразвитие чувственного образа рассматривается здесь «с нуля», так, будто бы до его возникновения с воспринимающим субъектом ничего не происходило, и заканчивается появлением некоторого устойчивого (зрелого) состояния. Что происходит с образом (а также с субъектом восприятия) потом, когда он уже выполнил свою функциональную роль, остается загадкой. С точки зрения системного подхода микрогенез восприятия должен быть исследован как система, включающая полный цикл жизнедеятельности чувственного образа: его возникновение, становление, функционирование и преобразование, а это требует более адекватных теоретических представлений и методических средств (Барабанщиков, 2002).
Необходимо отметить, однако, что вопрос о принадлежности конкретного исследования к тому или иному методологическому направлению, в том числе и к системному подходу, является довольно тонким. Наряду с требованиями, о которых говорилось выше, существуют специальные критерии, отвечающие представлениям о системе, принимаемым в различных версиях системного подхода, причем в разных исторических условиях их приоритетность может быть различной.
Методологическая квалификация исследования как системного связана в первую очередь с характером постановки научной проблемы и, следовательно, с организацией предметного содержания. Все определяется тем, рассматривается ли оно в качестве целостного образования или нет. В эмпирическом исследовании системный объект всегда выступает перед исследователем опосредствовано. Фиксация наблюдаемых характеристик объекта необходимо дополняется представлением о его системной организации и развитии, а это требует специальной методологической работы.
В зависимости от поставленной задачи один и тот же предмет может изучаться и как системный и как несистемный. Если, например, необходимо выявить черты характера человека, то можно обойтись традиционными средствами психологического анализа; если же требуется установить структуру характера, то без привлечения системных представлений не обойтись. Отметим, что использование традиционных (несистемных) средств исследования не означает обращения к чему-то устаревшему и неэффективному. Они и адекватны, и эффективны там, где требуется описать сложный предмет и разложить его на части (свойства, функции, способности, процессы и т. п.). Хотя исторически такая задача появляется в науке достаточно рано, она сохраняет свое значение и по сегодняшний день.
Как известно, эмпирические методы психологии представляют собой фиксированные приемы и правила освоения психической реальности. Это – орудия исследователя, посредством которых он соотносится с изучаемым объектом в целях получения нового знания. Как состояние психологической науки, так и перспективы ее развития в значительной степени определяются арсеналом методических средств.
Проблемность методов психологического познания заключена в специфике основного объекта психологической науки – человека, способного к саморегуляции и саморазвитию. В разных системах отношений он открывается новыми гранями, выступая то как индивид, реализующий во взаимоотношении со средой основной принцип своего бытия, то как субъект – носитель предметно-практической деятельности и форм отражения, распоряжающийся своими душевными ресурсами, то как личность, определяющая свою позицию среди других людей, то как индивидуальность, выражающая самобытность и неповторимость человека. Повторяя, казалось бы, заученные действия, человек каждый раз вносит в их исполнение все новые и новые оттенки. Он сам может ставить себе задачу, планировать и контролировать поведение, произвольно переходить от одной стратегии решения к другой. Объект психологического исследования не является нейтральным ни по отношению к процедуре, ни по отношению к используемой технике, ни по отношению к исследователю. В этом принципиальное отличие психологии от естественных наук (физики, химии, астрономии и др.). Участие в психологическом исследовании и в качестве испытуемого, и в качестве экспериментатора – это всегда фрагмент жизни человека, факт биографии, не только раскрывающий, но, так или иначе, меняющий его самого.
К сожалению, удовлетворительной теоретической модели психологического исследования, как и его специальных форм, в частности, эксперимента, пока не создано. Психолог вынужден балансировать между крайними позициями: либо контролировать заранее определяемые переменные и ответы на них (что соответствует нормам естественнонаучного познания), либо доверять своему внутреннему опыту, интуиции, интерпретируя внутренний мир другого (что отвечает требованиям гуманитарного познания, родственного искусству и литературе). В первом случае возникает опасность потерять субъективность, естество человека, во втором – возможность установить строгие и точные (в математическом смысле) зависимости. Мастерство исследователя заключается в том, чтобы удержать обе крайности вместе, т. е. практически реализовать системный взгляд на человека и его психику.
Другое глубинное основание методических проблем обусловлено природой психических явлений. Они обладают исключительной вариативностью, динамизмом, тесно связаны друг с другом и онтологически неразрывны. Любой акт, реализующий отношение человека с миром, конкретен, принимаемые дифференциации психических явлений (в том числе разделение на процессы, свойства и состояния) условны, а возможность их изолированного изучения, как бы в «чистом виде», крайне ограничена. Каждый эмпирический факт по своему психологическому содержанию оказывается многозначным. Это требует от исследователя фиксации не только определенного аспекта, среза или момента изучаемого предмета, но и самой возможности их последующей реконструкции в рамках органического целого. Перспектива позитивного решения методических проблем предполагает учет системных характеристик объекта и предмета психологического познания, что с необходимостью приводит к анализу событий.
В настоящее время собственный арсенал системных технологий психологической науки и практики очень скромен, а его развитие представляет непростую исследовательскую задачу. Главная трудность состоит в том, чтобы изучать то или иное явление не теряя (не обрубая), а учитывая его системные (интегральные) качества, связи с другими явлениями жизни и деятельности субъекта, целостный характер их развертывания во времени, разноуровневость организации. Это условие предполагает разработку концептуальных схем, позволяющих интегрировать эмпирические данные, методы исследования и понятия, принадлежащие к разным научным парадигмам. Их появление открывает возможность новых путей движения в теоретическом пространстве предмета.
Вопрос о том, когда применять системный подход в конкретно-психологических исследованиях, решается в основном в двух направлениях. Первое (оно может быть названо неспецифичным) обращается к принципам системного подхода на завершающих стадиях исследования при интерпретации полученного массива данных. Системная «шкала» здесь как бы накладывается на конкретный материал, организуя и упорядочивая его извне. Подобная процедура позволяет дать классификацию изучаемых явлений (по типам, уровням, планам, измерениям) и структурировать первично получаемые знания, но ее теоретическая перспектива весьма туманна. Другое (специфическое) направление вводит принцип системности в самом начале исследования, полагая его предмет в качестве развивающейся целостности либо ее проявлений. Здесь системная методология развертывается как бы изнутри, постепенно обрастая эмпирическим материалом и формируя системную теорию.
Психологические исследования, ведущиеся в русле системного подхода, мало похожи на монолитное течение. Это очень размытый и неоднородный пласт работ, объединенных обращением к понятию «система», которое по-разному определяется и реализуется разными авторами. В общем массиве исследований воплощаются две предельные ветви системного подхода: конкретно-синкретическая и абстрактно-аналитическая (Я. А. Пономарев, 1983).
Конкретно-синкретическая ветвь предполагает изучение конкретных вещей и событий (например, человека, психического заболевания, профессиональной подготовки специалистов и т. п.), а не законов их взаимодействия. Здесь произвольно устанавливаются элементы или компоненты системы; в едином формальном плане рассматриваются множества связей и отношений, каждые из которых подчиняются качественно различным законам. Данная ветвь отражает этап эмпирического (многоаспектного) знания в развитии психологической науки.
Абстрактно-аналитическая ветвь системного подхода предполагает изучение абстрактно выделяемых свойств вещей или событий (например, черт характера или способностей), подчиненных в содержательном плане качественно однородным законам. В основу выделения систем (ее компонентов, уровней) кладется определенная форма взаимодействия и соответствующий структурный уровень организации вещи или события.
Обе ветви выполняют в познании полезные функции и тесно взаимосвязаны, но только вторая отвечает требованиям более высокого, действенно-преобразующего типа знания, согласуясь с собственной природой психических явлений. Именно абстрактно-аналитическая ветвь ориентирована на раскрытие генезиса (а не только структуры) системы, полагая в качестве основной задачи изучение процесса (а не его продуктов).
Таким образом, на данном этапе развития психологической науки и практики наиболее привлекательным и многообещающим предметом исследования выступает системогенез психики и ее разнообразных проявлений. Движение в этом направлении позволяет более тесно увязать психические процессы, свойства и состояния с характеристиками субъекта, акцентировать внимание на процессуальной стороне, усилить тот аспект исследований, который ведет к интеграции психологического знания.
ПерспективаПризнавая несомненные достижения психологической науки, практики и образования ушедшего столетия, трудно согласиться с утверждениями, что человечество вступает в «психозойскую эру», а XXI век станет «веком психологии». На сегодняшний день замечание В. И. Вернадского остается всего лишь метафорой, льстящей самолюбию психологов и подогревающей их исследовательский энтузиазм. Предстоит еще очень много сделать, чтобы красивая форма наполнилась глубоким научным и практическим содержанием.
Обычно веком той или иной области знания, например, «веком физики», «веком химии» и т. п. называют столетия, в которых совершались принципиальные открытия, в частности, формулировались фундаментальные законы, утверждавшие новый способ мышления и влиявшие на организацию жизни общества в целом. С этой точки зрения XXI век представляется «веком биологии и информационных технологий» – т. е. тех дисциплин, которые стоят на пороге крупных достижений и радикальных перемен. Сегодня есть все основания ожидать, что и та, и другая области знания окажут существенное влияние на психологию, создав предпосылки фундаментальных открытий в будущем. Более того, психология сможет эффективно проявить свой научно-практический потенциал внутри биологии и информатики, решая непосредственно их задачи. Обратим внимание, что именно в этих дисциплинах системный подход получил наибольшее распространение.
Нельзя недооценивать и общего влияния на развитие психологии физических наук. Физика как феномен культуры, а не только как область позитивного знания, создает и поддерживает атмосферу научности, определяет представления о предназначении науки и типе ученого, формирует мировоззренческий климат эпохи. В физическом способе познания находят отражение существенные черты современного стиля мышления, который остается непоколебимым, несмотря на прогрессивно возрастающие объемы социокультурного познания и гуманитаризацию жизни в целом.
Расширение и углубление междисциплинарных связей психологии является одним из наиболее мощных факторов ее развития. Это касается и гуманитарных наук, которые также находятся в поиске предмета и метода, периодически погружаясь в кризисные состояния. Значительное, хотя и не решающее, влияние на развитие психологии могут оказать религия (особенно по линии практического опыта), искусство и литература, которые несут целостный взгляд на человека, а по глубине раскрытия внутреннего мира личности и способам воздействия на него существенно опережают академическую науку и строящуюся на ее основе общественную практику. Изображение человека средствами искусства и литературы является идеалом, конечной целью, напоминанием, а когда-то и укором научной психологии и рациональному познанию как таковому. В этом ключе большие ожидания связываются с развитием собственной практики психологии (психопрактики), пытающейся учитывать целостность человеческой индивидуальности. Несомненно, что роль психологического знания в постиндустриальном обществе, к которому движется человечество, будет монотонно возрастать, а темпы дифференциации психологической науки по крайней мере не уменьшатся. Прогрессирующая глобализация общественной жизни (экономики, политики, финансов, коммуникаций, здравоохранения и др.) с необходимостью утверждает системный способ мышления и отношения к действительности.
Вряд ли кто-либо сегодня всерьез отважится предсказывать судьбу направлений и тем более отдельных школ. Можно обсуждать лишь наиболее общие требования к науке XXI века и условия их выполнения. С точки зрения логики предшествующего развития будущее – за теми течениями, которые, раскрывая определенные свойства, связи и отношения психического, смогут осуществить синтез разномерного знания, преодолеть односторонность (моноцентризм) в рассмотрении своего предмета. Будущее – за системно-ориентированной мультипарадигмальной психологией.
Глубинный смысл методологических кризисов, перманентных в психологии, заключается в неспособности науки охватить разнокачественные основания психических явлений единой системой понятий. Методологическая и теоретическая разобщенность исследований, усиленная высокими темпами дифференциации и гетерохронностью развития психологического знания, остается благодатной почвой не только для редукционизма и эклектики, но и для псевдонаучных представлений о психике и человеке в целом. Крайним выражением разобщенности психологии выступает противостояние естественнонаучной и гуманитарной (социокультурной) парадигм. Соответственно, вопрос о выходе из кризиса в значительной степени касается способов интеграции разнородного знания, его взаимопереходов и взаимовключений. Очевидно, что проблема когерентности психологии сохранит свое значение и в XXI веке.
Хотя ее решение во многом зависит от принимаемого типа рациональности, есть все основания ожидать, что «логика целостности» усилит и разовьет свои позиции. Особый интерес в этом плане представляют принципы взаимовключения и дополнительности.
Взаимовключение психических явлений – обратная сторона их взаимосвязи. Единство внутреннего мира человека оборачивается взаимопроникновением психических процессов, свойств и состояний. Это предполагает не хаос и беспорядочность включений, а их организованность в рамках и на «территории» локального целого; такую организованность, которая выступает непременным условием возникновения и развития конкретного психического явления. Соответственно любое психическое образование носит двойственный характер. Оно выражает одновременно и момент психики (например, образ или понятие), и психику как таковую, обеспечивающую его существование. Конкретная модальность психического опирается на все другие модальности, втягивая их в себя и распространяя на них свое влияние. Целое заключено в своей части. Принцип Анаксимандра «все состоит из всего», привлекающий внимание современной физики, сулит немало перспектив и психологии.
С данной точки зрения психические феномены не могут не рассматриваться как проявления интегральных образований (целостностей, молярных единиц), вписанных в контекст жизни. Только при данном условии они получают опору как во внешнем, так и во внутреннем мире человека, выражают формы и проявления, и порождения бытия. Это, в свою очередь, открывает возможность их эффективного исследования, формирования, диагностики и коррекции.
На сегодняшний день «логика целостности» не может обойтись без «логики дополнительности». Рассматриваемый в широком значении принцип дополнительности (Н. Бор) предполагает многообразие не только феноменов, но и оснований психического. Имеются в виду разные измерения самой сущности феноменов, не сводимые в общем случае к противоречию сторон. Это означает, что выделяемые стороны достаточно самостоятельны, но и не разобщены. Отсюда следует постнеклассический познавательный норматив, допускающий альтернативное описание объекта по отношению к любой его теории: поскольку теория призвана вырабатывать целостное представление об объекте, ее познавательная ценность как целостной и как теории всегда оказывается ограниченной. Подобная картина наблюдается не только в современной физике (Гейзенберг, 1987), но и в математике, предмет которой также начинает осознаваться многомерным (Клайн, 1984).
Представление о многомерности природы психического позволяет по-новому взглянуть на взаимоотношения альтернативных течений и парадигм. Дух конфронтаций уступает место диалогу, новому пониманию истины и новому типу мышления, раскрывающему отношения между различными измерениями психического. Появляется возможность формирования иной методологической культуры и способов профессиональной работы психологов. «Единство в многообразии» – фундаментальное требование познания сложно организованных развивающихся целостностей (органических систем) выступает как принцип сотрудничества, взаимопонимания и связи научных традиций, теории и практики, прошлого, настоящего и будущего психологии.
Проникновение идей системности в мышление психологов и конструирование на ее основе новых задач, предметного содержания и методов психологического познания стало важным достижением философии и науки XX столетия. Оказавшись в благоприятной среде, эта идея не могла не получить своего развития. Есть все основания полагать, что в XXI веке произойдет дальнейшее распространение системного подхода на специальные и прикладные области психологической науки, причем его наибольший эффект можно ожидать при изучении комплексных (междисциплинарных) объектов. Существенно обогатится и расширится арсенал логико-методологических средств системных исследований. Упрочится значение системных идей в выработке стратегии психологической науки и практики. Вместе с тем, в общепсихологическом плане автономность (но не эффективность!) системного подхода будет все более ограничиваться полагающим его и сливающимся с ним предметным содержанием науки. «Логика органической системы» все чаще будет представляться как собственный механизм организации, развития и функционирования психики и поведения человека.
Литература
Абульханова К. А. О субъекте психической деятельности. М.: Наука, 1973.
Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды. В 2 т. М.: Педагогика, 1980.
Ананьев Б. Г., Веккер Л. М., Ломов Б. Ф., Ярмоленко А. В. Осязание в процессах познания и труда. М.: 1959.
Андреева Е. А., Вергилес Н. Ю., Ломов Б. Ф. Механизм элементарных движений глаз как следящая система // Моторные компоненты зрения. М.: Наука, 1975, С. 7–55.
Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональной системы. М.: Наука, 1978.
Барабанщиков В. А. Системогенез чувственного восприятия. М.-Воронеж: МПСИ, 2000.
Барабанщиков В. А. Восприятие и событие. СПб.: Алетейя, 2002.
Барабанщиков В. А. Системная организация и развитие психики // Психологический журнал, № 1, 2003, С. 29–46.
Барабанщиков В. А., Рогов М. Г. (ред.) Системные исследования в общей и прикладной психологии. Набережные Челны: Институт управления, 2000.