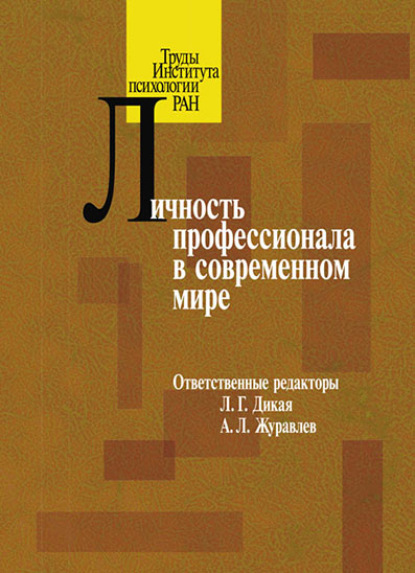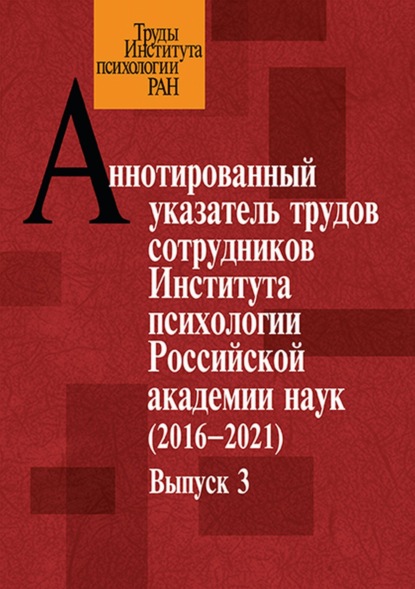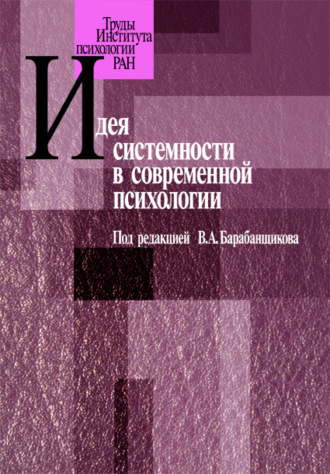
Полная версия
Идея системности в современной психологии
Единство теории, эксперимента и практики. Ломов не был поклонником «свободного теоретизирования», абстрактных схем. Он шел «от объекта» и конкретных требований жизни. Генеральный принцип, которым руководствовался ученый при постановке и решении практических задач, а также при анализе соотношения прикладных и фундаментальных исследований в психологии, формулировался им как единство теории, эксперимента и практики. Круг научных проблем и подходы к их разработке в значительной степени определяются общественной практикой. С нее так или иначе начинается и к ней приходит психологическое познание. Разработка прикладных проблем обогащает психологию новыми данными, методами, идеями. Последние требуют соответствующего осмысления, концептуального синтеза, который можно осуществить лишь на базе теории. Теоретические же разработки неминуемо выводят на эксперимент, позволяющий получать дополнительные данные и верифицировать возникающие гипотезы. Сама экспериментальная процедура нередко превращается в практическую – диагностику того или иного психологического качества человека или метод воздействия на него. Теория, эксперимент и практика замкнуты в единый цикл движения психологического знания. Соответственно и эффект этого движения всегда оказывается трояким: на «полюсе» теории – реконструкция «идеального объекта»; на «полюсе» эксперимента – новые исследовательские технологии; на «полюсе» практики – метод решения конкретной практической задачи.
Движение системы «теория – эксперимент – практика» является необходимым условием развития психологии, обеспечивающим непрерывное расширение объема совокупного знания, смену его форм и типов. Единство теории, эксперимента и практики открывается, таким образом, и как «важнейший принцип перспективного планирования психологической науки и профессиональной деятельности психологов» (Ломов, 1984, с. 51).
Для того, чтобы справиться с задачами практики теория должна быть конструктивной, т. е. содержать возможность эффективного применения. В этой связи немаловажную роль играют мера обобщения и постулаты, на которых строится теория, зона ее ответственности и практическая ценность, условия и сфера действия эмпирически открываемых законов. Обязательными требованиями к теории являются ее соответствие фактам и проверяемость как в общественной практике, так и в эксперименте. Как показывает опыт указанные измерения и метатеоретический план в целом чаще всего оказываются за пределами внимания психологов, а теоретические конструкции носят весьма аморфный характер.
Хотя эксперимент давно признается основным методом психологии, он далек от канонов экспериментального метода, применяемого в естественных науках. Связь независимых (условия проведения эксперимента) и зависимых (ответы испытуемых) переменных постоянно подвергается «возмущающим» воздействиям со стороны субъективных факторов – собственной логики движения внутреннего мира человека, его опыта, отношений к жизни, побочных влияний экспериментатора и др. Но именно эти «возмущения» и представляют для психологии особый интерес. Поэтому в отличие от физики и химии эксперимент в психологии включает дополнительное требование – наличие инструкции испытуемому – и принимает специальные формы. В частности, дифференцируют «естественный», «формирующий», «генетический» и другие виды эксперимента. Более того, данный метод не является единственным, а его возможности сокращаются с возрастанием сложности изучаемых явлений. «Одна из важнейших задач психологии на современном этапе развития – пишет Ломов, – заключается в том, чтобы рассмотреть все разнообразные используемые ею методы как единую систему, раскрыть «разрешающую способность» и ограничения каждого из них, а также условия и возможности взаимопереходов между ними в зависимости от логики проводимого исследования» (Ломов, 1984, с. 42). Очевидно, что в формуле «теория – эксперимент – практика» среднему термину придается предельно широкое значение: средства организованного воздействия на человека в целях получения психологического знания.
Эмпирические методы психологии «работают» не только на фундаментальную науку. В ходе развития общества исследовательские процедуры, первоначально выступавшие в качестве средств верификации (или фальсификации) теоретических предположений, становятся основой средств диагностики, тренинга, обучения либо воздействия. Превращение технологии научно-исследовательской деятельности в технологию организации жизненной сферы человека (инженерно-психологическое проектирование и оптимизация функционирования систем «человек – машина», «человек – среда» и др.; профотбор, целевое комплектование социальных групп и т. п.) – важнейший канал реализации практического потенциала психологической науки. По этому же каналу осуществляется и обратное движение: регуляция методического обеспечения психологии, расширение и переоснащение ее технической, в том числе и аппаратурной базы.
Включение психологии в решение практических задач не просто расширяет арсенал применяемых методов, но и ставит исследователя перед необходимостью анализа реальных, а не искусственно выделяемых, как в эксперименте, детерминант психики и поведения человека. Тем самым открывается возможность целенаправленно влиять на реальные процессы жизни и управлять ими. А это возможно только в случае теоретической реконструкции предмета исследования как целостной системы.
Исследования, проведенные Ломовым и его сотрудниками, позволяют заключить, что обращение психологии к идеям системности – не просто дань времени или моде. Системный подход вводит в психологию максимально широкий взгляд на изучаемые явления, возможность разработки конкретной логики взаимопереходов и взаимовключений, а также конструирование интегративного знания, которое не только глубоко отражает сущность изучаемых явлений (их гетерогенность, текучесть, недизъюнктивность), но и наиболее приспособлено для решения практических задач. Раскрывая недостаточность (узость, односторонность, ограниченность) концептуальной базы и традиционных средств исследования, системный подход создает предпосылки для формирования более адекватных теоретических построений, объяснительных принципов и способов организации знания. Системный подход позволяет наиболее точно ставить проблему и намечать стратегию ее решения; ориентирует исследователя на изучение психики как дифференцированного целого, выявление многообразия его связей и отвечающих им планов, уровней и измерений; обеспечивает создание предельно широкой многомерной картины психических явлений. Необходимо, однако, иметь в виду (и это вытекает из самой сути системного подхода как грани диалектики), что он не дает исчерпывающе полной методологической характеристики исследований психики и предполагает другие методологические ориентации. Более того, он эффективен именно тогда, когда наполняется конкретным психологическим содержанием.
Текущий этап исследований
Системный подход к анализу психики разрабатывался Ломовым в 70–80-х годах и в определенной степени отражает строй идей и представления существовавшего тогда общества. Распад Советского Союза и связанные с этим радикальные изменения в экономической, политической и идеологической сферах инициировали новый – постсоветский этап развития российской науки.
Российская психологическая наука на перепутьеМетафорические описания состояния психологии в разные периоды ее развития сводятся к двум альтернативам: «руинам, подобным развалинам Трои» (Н. Н. Ланге), либо «строительной площадке», на которой возводится невиданное ранее здание или новый город (Б. М. Теплов). Уникальность современного состояния российской психологической науки заключается в том, что она обнаруживает обе характеристики одновременно. Кризисные явления, связанные с разрушением тоталитарного мировоззрения и упадком экономики, сочетаются с исключительным интересом общества к психическим феноменам и развертыванием новых областей и направлений деятельности психологов. Психология все больше осознается как полезная наука, содействующая решению проблем не только важных сфер социальной жизни (образования, здравоохранения, экономики, политики и других), но и конкретной личности.
Снятие идеологических барьеров и возвращение к общечеловеческим ценностям привели к расширению оснований психологической науки. Началось освоение философских идей, которые ранее расценивались как враждебные и потому неприемлемые. Имеются в виду феноменология (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер), экзистенциализм (С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр), герменевтика (П. Рикер), увлечение Кантом и восстановление в правах русских религиозных философов (В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, С. Н. Трубецкого, С. Л. Франка и др.); ощущается влияние постмодернизма (Ж. Делез, Ж. Деррида, Ю. Хабермас, Р. Харре и др.). Классики марксизма цитируются все реже, а строй понятий тех областей знания, которые недавно назывались диалектический и исторический материализм, кажется почти забытым. Правда, это не означает признания того, что, например, феноменализм или инструментализм имеют больше преимуществ, чем теоретико-познавательный реализм, доминировавший в нашей стране в советское время (Лекторский, 2001). Происходит становление философского плюрализма, утверждающего целесообразность сосуществования разных идейных школ и течений. Создается, следовательно, благоприятная почва для развития любых направлений современной психологии.
Хотя в целом интерес к методологической работе заметно упал, освоение новых мировоззренческих позиций сопровождается критическим отношением исследователей к ряду постулатов советской психологии. В эпицентре критики находятся понятие отражение, которое ранее рассматривалось в качестве родового по отношению к психике, объяснительный статус категории деятельности, а также абсолютизация роли социального по отношению к личности и сознанию. Однако радикальных преобразований системы психологических понятий не происходит, как не происходит и переоценки содержания исследований за предшествующий период. Совершаются плавная перегруппировка понятийного поля психологии, его расширение и попытки расставить новые акценты. Психология рассматривается как преимущественно гуманитарная область знания, в качестве центральной утверждается проблема личности, а гносеологический план исследований все чаще подчиняется онтологическому. Конструктивную роль в научном исследовании играют понятия «субъект», «общение», «отношение», «переживание», «внутренний мир». Делаются попытки реанимировать метафизическое понятие души. Такие развитые направления, как психология познавательных процессов, психофизиология, психофизика заняли подчиненную позицию и в той или иной степени трансформировали свою тематику. В частности, получили распространение исследования когнитивных стилей, интеллекта, понимания и др., в которых выражена личностная составляющая познавательных процессов. Вместе с тем дух позитивизма не только не испарился, но и получил определенное развитие.
Меняются приоритеты и в структуре психологического познания. Пристальный интерес вызывают средства и технологии получения нового знания. Вопрос о том, как изучать, диагносцировать и видоизменять течение психических процессов, состояния человека, свойства его личности и т. п., становится ключевым. Методическая сфера интенсивно разрастается: все большее внимание уделяется психопрактикам (клиент-центрированная терапия, психоанализ, логотерапия и др.), широко используются и разрабатываются тесты, получают развитие техники эмпатического слушания, идентификации, самоотчета и др.; восстанавливается статус наблюдения как одного из основных способов психологического познания и естественного эксперимента (А. Ф. Лазурский). Наметилась тенденция активного использования идеографических или экспериментальных методов.
Психология перестала быть преимущественно академической. Существовавший еще 10–15 лет назад дисбаланс между фундаментальными и прикладными работами сместился в сторону последних. На этом фоне резко сократилась доля лабораторного (аппаратурного) эксперимента, с которым связаны значительные достижения российской психологии в прошлом. На дальний план отодвинуты и методы моделирования. Происходит своего рода выравнивание уровня развития методических средств психологии.
Таким образом, на текущем этапе развития российской психологии предпосылки, обусловливающие ее обращение к системному подходу, не только сохранились, но и обрели более острый характер. Современные психологи все чаще напоминают строителей Вавилонской башни, а возможность достижения декларируемых ими целей оценивается скептически. Появились основания утверждать, что разработка принципа системности в отечественной науке вступает в новую фазу. Необходимость системного мышления подчеркивается и в смежных дисциплинах (Василькова, 1999; Гумилев, 1994; Жидков, 1997; Капица, Курдюмов, Малинецкий, 1997; Карташев, 1995; Костюк, 1993; Лихачев, 1994; Моисеев, 1998; Прангишвили, 2000; Садовский, 1995; Смирнов, 1993).
Тенденции развитияВ качестве ориентиров развития системного подхода в психологии на сегодняшний день выступают две задачи: 1) построение на основе принципа системности предмета и 2) разработка системного метода познания психических явлений. Полнота и эффективность решения названных задач определяют уровень развития системных исследований. При этом речь не идет о построении умозрительных моделей психики как таковой и изучении способов ее организации и функционирования в целом. Перспективной представляется другая стратегия: системный анализ интегральных психических образований, сохраняющих печать единства внутреннего мира человека (Барабанщиков, 2003). Это предполагает обращение к локальным предметам и разработку специальных методов исследования конкретных психических явлений.
Строго говоря, изучение интегральных образований психики (либо их производных), выявление состава, структуры, способов функционирования, иерархической организации и т. п. является скорее правилом, чем исключением. К такого рода объектам относятся: поведенческий акт (П. К. Анохин), доминанта (А. А. Ухтомский), гештальт (К. Коффка), психологическая система (Л. С. Выготский), интегральная индивидуальность (В. С. Мерлин), интеллект (Ж. Пиаже), познавательная сфера (Д. Норман), перцептивный цикл (У. Найссер) и др. Особенность текущего этапа состоит в том, что наряду с изучением организации (структуры, уровней) и функционирования целостных образований на передний план выдвигается изучение их становления и развития. Доминирующим оказывается генетическое направление системного подхода. В качестве ключевых рассматриваются вопросы конкретных механизмов порождения целостностей, соотношения стадий и уровней развития, его видов, критериев, взаимоотношений актуального и потенциального в психическом развитии и т. п. (Барабанщиков, 2000; 2002; 2003; Барабанщиков, Рогов, 2000; Брушлинский, 1997; Завалишина, Барабанщиков, 1990).
Проблема психического развития занимает в психологии одно из центральных мест и имеет глубокое общепсихологическое содержание. К развитию способны лишь целостные образования, находящиеся в перекрестье системы детерминант. Поэтому обратной стороной психического развития выступает закономерное движение этой системы: изменение состава, структуры и способов детерминации психики и ее компонентов. При данном условии самое развитие приобретает очертания органического целого, т. е. системы.
Системный взгляд на детерминацию психики и поведения человека может быть выражен следующими положениями (Ломов, 1984; 1991):
• возможность возникновения и существования любого психического явления определяется различными обстоятельствами (детерминантами), которые могут выполнять функции причины, следствия, внешних и внутренних факторов, условий, предпосылок и опосредствующих звеньев;
• указанные типы детерминант тесно взаимосвязаны, образуя систему;
• соотношение между детерминантами подвижно; то, что в одних случаях выступает в роли предпосылки, в других – может оказаться причиной, фактором или опосредствующим звеном; конкретный состав и структура системной детерминации зависят от текущих обстоятельств жизни человека;
• движение или смена детерминант носят закономерный характер и являются необходимым условием развития субъекта (его психики, поведения);
• включаясь в систему объективных связей и отношений действительности, то или иное психическое явление (форма активности субъекта) само выступает в роли важнейшей детерминанты жизненных процессов: как природных, так и социальных.
Данная концепция противостоит представлениям линейного детерминизма, позволяя более дифференцированно подойти к решению некоторых фундаментальных проблем психологии и акцентировать не всегда выделяемые измерения детерминационных процессов: их динамичность, нелинейность и опосредствованность. По этой линии прослеживается, в частности, связь с синергетической версией системного подхода (И. Пригожин, Г. Хакен).
Согласно этой концепции, например, вопрос о соотношении биологических и социальных детерминант поведения должен решаться в направлении не фиксации их параллельности или внешних влияний и не определения специфики вытеснения или замены биологического социальным, а анализа содержания и способов взаимодействия этих детерминант в конкретной ситуации. В различных обстоятельствах и на разных стадиях психического развития соотношение и функции этих детерминант (их производных) оказываются различными. В одних случаях причиной определенных действий человека является социальное событие; биологические же особенности выступают в роли фактора, предпосылки или опосредствующего звена. В других случаях структура детерминации может быть иной.
При изучении психического развития нередки случаи, когда исследователи пытаются установить некоторую универсальную детерминанту, якобы ответственную за этот процесс и обеспечивающую переход новообразования с одной стадии на другую. Действительная же картина психического развития оказывается более сложной. Любой результат развития (когнитивный, личностный, операциональный), достигнутый на той или иной его стадии, включается в совокупную детерминацию психического, выступая в роли внутренних факторов, предпосылок, либо опосредствующих звеньев по отношению к результату следующей стадии. Тем самым складывается иная ситуация, обеспечивающая возможность перехода на новую ступень психического развития. По существу, динамика стадий (этапов, фаз, ступеней) развертывания психического и выражает движение всей системы детерминант, которая непрерывно доопределяется в процессе развития, и потому никогда не может быть предсказана полностью.
Целостные (интегральные) образования возникают, функционируют и преобразуются в процессе развития некоторой объемлющей системы, качествами которой они наделены. Соответственно развитие целостных образований может быть понято только в контексте законов развития порождающей системы (основания). Поскольку и субъект, и объект психической активности включаются в разные системы отношений, развитие выступает как полисистемный процесс. Он выражает единства дискретного и непрерывного, стабильного и изменчивого, тождественного и различного, репродуктивного и продуктивного, актуального и потенциального, необходимого и случайного, которые обеспечиваются лишь определенным соотношением (мерой) типов детерминант. В нем можно выделить уровни (микро-, мезо-, макро-) организации, качественно различные ступени или этапы, сменность ведущего основания и ключевых детерминант.
Психическое развитие не просто многосторонне, но и многовариативно. В рамках единого процесса различные психические образования (свойства, функции) развиваются неравномерно, имеют собственную «траекторию движения»; при этом их рассогласование может сыграть роль одного из источников психического развития индивида в целом. Новая система (качество) может возникнуть как в результате интеграции, так и дифференциации целостных образований (их функций). Источником же развития оказываются противоречия между разными измерениями, уровнями организации, свойствами или функциями одного и того же целого. Психическое развитие представляет собой полиморфный процесс, включающий прогрессивные и регрессивные качественные преобразования, возможность стагнации и тупиковых линий движения. Это не только рождение нового, но и трансформация или же разрушение неэффективных форм психической организации и поведения человека. Источник развития, пути, средства и формы его осуществления носят системный характер.
Еще одна черта современных исследований – акцентуация оснований интегративности и целостности психических явлений. Эта тенденция связана с усилением субъектного подхода к анализу психики (С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе, К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский), в соответствии с которым и психические процессы, и деятельность (либо поведение, общение, игра) рассматриваются в конкретной отнесенности к тому, кому они принадлежат. Как показывают исследования, даже самый простой психический акт представляет собой акт конкретного субъекта жизни и включен в общий контекст его развития. Субъект выполняет роль стержня, или интегрирующего звена, объединяющего различные проявления (компоненты, модальности) психики и уровни ее организации. Анализ субъекта, следовательно, открывает возможность выявления механизмов образования и развития целостностей и оказывается внутренним моментом системного исследования психики. Очевидно, что в рамках системного подхода субъект также должен рассматриваться как дифференцированное многомерное целое (система).
Онтологически (конкретно) понятый субъект выражает основу многообразных отношений человека к действительности. Вступив в эти отношения, индивид не просто подчиняется действительности, но и воплощает в ней самого себя. Реализуя разные отношения, один и тот же индивид оказывается субъектом разных жизненных проявлений, в частности, восприятия, мышления, эмоциональных переживаний, общения, деятельности и реализует соответствующие функциональные возможности (свойства, качества, роли и т. п.). Человек как субъект способен распоряжаться собственными ресурсами и, благодаря этому, строить отношения с действительностью. Активность, самодетерминация, саморегуляция, самосовершенствование – ключевые характеристики субъекта жизни (Абульханова, 1973; Брушлинский, 1994; Брушлинский, Воловикова, Дружинин, 2000; Брушлинский, Воловикова, 2002).
Анализ субъекта заставляет всерьез обратится к еще одной реальности, которая нередко выносится «за скобки» исследования, – к объекту жизнедеятельности. Чаще всего его отождествляют либо с эмпирическим объектом (вещью, событием), либо со стимуляцией. При таком понимании индивид (или группа) оказывается изначально «отрезанным» от условий своего существования и развития и, как показывает исторический опыт, никакие логические ухищрения не способны обеспечить затем их внутреннего единства. Объект, или совокупность обстоятельств жизни и деятельности человека, представляет собой функциональное целое, которое включает не только элементы (свойства, вещи, события) и отношения среды, но и самого субъекта жизнедеятельности, объединяющего их в систему. Подобное единство человека и его среды известно в психологии как «ситуация» или «мир» (Левин, 2000; Рубинштейн, 1973; Magnusson, 1981). В отличие от среды в любых ее формах объект-ситуация (объект-мир) противоречив и парадоксален: включая в себя субъекта, он одновременно противостоит ему; одной его стороной являются условия жизни, другой – их отражение человеком, включенным в ситуацию. Ситуация (мир) оказывается и сложнейшей системой детерминант активности субъекта, и, одновременно, результатом этой активности. Без анализа объекта (выделения его образующих, структуры, норм и правил, которым он подчиняется, уровней организации, динамики и т. п.) невозможно понять ни содержание психического отражения, ни охарактеризовать субъекта и формы его активности. Хотя представления об объекте активно используются в рамках праксиологического и средового (экологического) подходов в психологии, проблема объекта как системы ждет своего решения.
Ситуация складывается на основе разнородных элементов среды (физико-географической, экологической, социальной) как целостность, соотнесенная с интересами, требованиями и возможностями субъекта. При этом активным оказывается не только человек, но и элементы его окружения: они могут быть «враждебными» (противостоять субъекту или мешать), «дружественными» (содействовать субъекту, его намерению) или нейтральными. Соответственно и способы разрешения ситуации оказываются различными, принимая вид борьбы, сотрудничества или сосуществования.
Разрешение ситуации субъектом требует координации его сил, средств, возможностей и целенаправленного действия. В какой-то степени это осуществляется заранее заданным (известным, шаблонным) путем, в какой-то – требует творческого отношения, учета непрерывно меняющейся обстановки. Объективный смысл выполняемой активности заключается в организации мира в интересах человека, его жизни, согласно принимаемым нормам и ценностям. Организуя и реализуя себя, человек организует и реализует ситуацию. Последняя выступает как своеобразная проекция человека во вне, его объективация в мире.