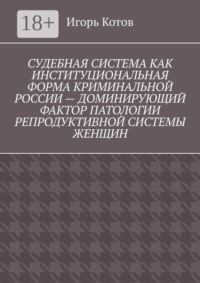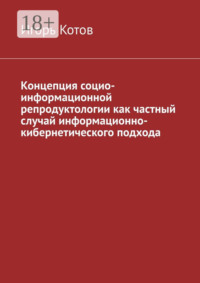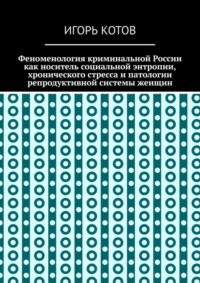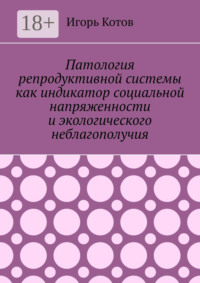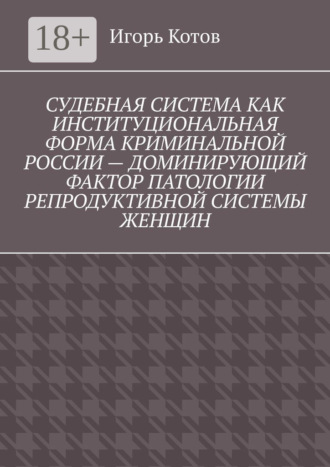
Полная версия
Судебная система как институциональная форма криминальной России – доминирующий фактор патологии репродуктивной системы женщин
– Очень кстати заехал, как бишь тебя зовут; мне до тебя нужда. Выпей водки, да выслушай.
Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.
– У меня сосед есть, – сказал Троекуров, – мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него имение – как ты про то думаешь?
– Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы, или…
– Врешь братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение…» [254].
История с несправедливо отобранным имением полностью взята «из жизни» – из «подлинного дела» Козловского уездного суда от октября 1832 г. [36].
– Иван Аксаков, «Присутственный день в уголовной палате» Один из «заседателей от дворянства», Алексей Александрович, служит в уголовной палате сравнительно недолго, и ему «гадко» от чтения дел и приговоров: «Там мужик обокрал другого, там мужичка какая-то ребенка подкинула, того розгами, того в Сибирь…». На что опытный товарищ дает ему добрый совет: Да Вы не читайте, так подписывайте, просто. Делайте, как я, батюшка Алексей Александрыч, оно и для совести-то спокойнее, ей богу! Ведь, по правде сказать, что толку, что Вы прочтете приговор или нет? Дела же Вы все-таки читать не станете? «Вот Вы говорите «законы, законы!» Да ведь законов-то что? Просто гибель. Да еще каждый год все прибавления да добавления; выдумали какое-то новое «Уголовное уложение», чтоб из степени в степень переводить. Ну, я Вас спрашиваю, батюшка Алексей Александрыч, досуг ли нам этим заниматься! Ведь наше дело дворянское: у вас есть крестьяне, ну, и меня бог ими не обидел. Стало, уже забота есть…» [15].
Обычаи и привычки судейских – прямое тому подтверждение: их профессиональные представления не имеют никакого отношения к законам. Так, помещик Жомов, (справедливо) обвиняемый в «продаже фальшивых рекрутских квитанций», истязаниях не только крепостных, но и гувернантки, отказавшейся вступить с ним в связь, кажется членам уголовной палаты прекрасным человеком, – потому что говорит по-французски, панибратски дружелюбен и предлагает им завуалированные взятки. И не просто «кажется» – мошенника и изверга, вина которого неоспорима, они оправдают – только на основании личной, не совсем бескорыстной симпатии и принадлежности Жомова к «благородному» сословию («Ну, как же его судить, ведь ей-богу, совестно как-то», – говорит председатель) [36].
Большинство решений по другим делам принимаются или более-менее случайным образом, или в соответствии с просьбами знакомых.
«Просила меня кузина моя… Дело у ней есть в палате, человек ее в краже попался. Так вот она и просит: нельзя ли его не наказывать, а оставить в подозрении, знаете, чтобы человек-то не пропал даром, чтобы она могла его с зачетом в солдаты отдать», – говорит гуманист Алексей Александрович, и его просьбу и подход суд единодушно одобряет: виновный все равно понесет наказание, а хозяйству польза будет [15].
Обилие законов и их запутанность были притчей во языцех и для судейских, и для власть предержащих – а также стандартным извинением полного их незнания.
– Комедия А. Н. Островского «Горячее сердце»: Градобоев (садясь на ступени крыльца). До бога высоко, а до царя далёко. Так я говорю?.. А я у вас близко, значит, я вам и судья… Как же мне вас судить теперь? Ежели судить вас по законам…
1-й голос. Нет, уж за что же, Серапион Мардарьич!
Градобоев. …Ежели судить вас по законам, так законов у нас много… Сидоренко, покажи им, сколько у нас законов.
Сидоренко уходит и скоро возвращается с целой охапкой книг.
Вон сколько законов! Это у меня только, а сколько их еще в других местах!.. И законы всё строгие; в одной книге строги, а в другой еще строже, а в последней уж самые строгие…
Так вот, друзья любезные, как хотите: судить ли мне вас по законам, или по душе, как мне бог на сердце положит…
Голоса. Суди по душе, будь отец, Серапион Мардарьич [226].
– Н. В. Гоголь в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Тогда процесс пошел с необыкновенною быстротою, которою обыкновенно так славятся судилища. Бумагу пометили, записали, выставили нумер, вшили, расписались – всё в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало, лежало – год, другой, третий. Множество невест успело выйти замуж; в Миргороде пробили новую улицу; у судьи выпал один коренной зуб и два боковых; у Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде: откуда они взялись, бог один знает! Иван Никифорович, в упрек Ивану Ивановичу, выстроил новый гусиный хлев, хотя немного подальше прежнего, и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга, – и дело все лежало, в самом лучшем порядке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен» (69) (Рис. 2).
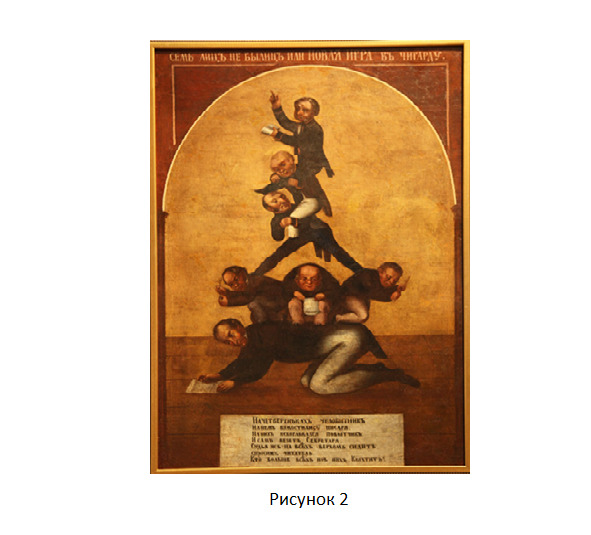
– Русский фольклор – рассказ «Шемякин суд», в котором главный герой – взяточник-судья: «А судья послал к ответчику своего человека, чтобы он спросил о трёх свёртках, которые бедняк показывал судье. Бедный вытащил камень. Шемякин слуга удивился и спросил, что это за камень. Ответчик объяснил, что если бы судья не по нему судил, то он бы его ушиб этим камнем. Узнав о грозившей ему опасности, судья очень обрадовался, что судил именно так. И бедный, радуясь, пошёл домой» [51].
– А. С. Пушкин в контексте сущности судебного процесса, где никто никого не слушает (Рис. 3):
Глухой глухого звал к суду судьи глухого,
Глухой кричал: «Моя им сведена корова!» —
«Помилуй, – возопил глухой тому в ответ: —
Сей пустошью владел еще покойный дед».
Судья решил: «Чтоб не было разврата,
Жените молодца, хоть девка виновата».
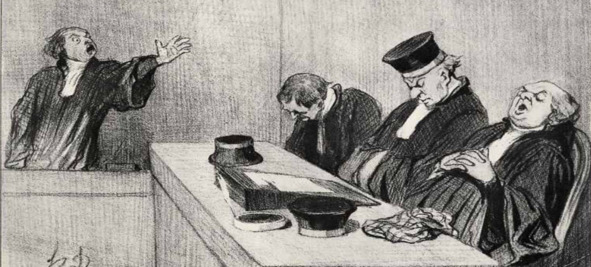
Рисунок 3
Картину коррупции в России XVIII—XIX вв. вообще и в судах в частности и постоянных, но фактически безуспешных попыток борьбы с нею русских государей представил российский историк и публицист П. Берлин: «Через всю нашу историю, лишь меняя форму, увеличивая и уменьшая размеры, тянется колоссальное взяточничество, которым пользуются как отмычкой к казенным сундукам». Причину безуспешности борьбы и неизбывности русского взяточничества Берлин видел в следующем: «В то время, как на протяжении XVIII и XIX веков правительство одной рукой энергично и бесплодно искореняло взяточничество, другой рукою оно столь же энергично, но уже вполне успешно насаждало условия, рождающие новое поколение лихоимцев». А всепроникающий и системный характер взяточничества и казнокрадства объяснял следующим: «Этим путем (щедрой раздачей богатств знати. – Ю. Н.) прочно закладываются психологические основы взяточничества и казнокрадства. Высшие слои приучались эксплуатировать привилегированное политическое положение с целью экономического обогащения. А за этим тонким слоем сановников лежал более широкий слой чиновников, которые, глядя, как обогащается знать, угодничая и прислуживая – в свою очередь наживались путем вымогательства и угроз по отношению к подчиненным» [35].
Красноречивое свидетельство ситуации с коррупцией в Российской империи приводит С. Довлатов: «Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его: „Что, в двух словах, происходит на родине?“ Карамзину и двух слов не понадобилось. „Воруют“, – ответил Карамзин» [83].
Не менее яркой и образной характеристикой российской коррупции может служить и крылатое выражение М. Салтыкова-Щедрина: «Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? Никакой и никогда!» [230].
Возможно, именно многовековая усталость от повальной судейской коррупции и заставила население новой, советской России поверить в то, что большевики, которые смели до основания всю прежнюю правовую систему, создадут другую, где будут судить, по справедливости, а не по размеру кошелька.
1.2 Судебная система в СССР
Советское государство столкнулось с проблемой коррупции практически сразу же после своего появления. Так, в декабре 1917 года в Петрограде член следственной комиссии ревтрибунала Алексеевский практически открыто вымогал 5 тыс. рублей у директора ресторана «Медведь» за освобождение его предшественника. Уже в мае 1918 г. был опубликован декрет «О взяточничестве» [91]. Данное преступление каралось «лишением свободы на срок не менее пяти лет, соединенным с принудительными работами на тот же срок». Покушение на дачу взятки рассматривалось как оконченное преступление. К отягчающим обстоятельствам были отнесены особые полномочия служащего, нарушение служащим своих обязанностей, вымогательство взятки. В дальнейшем борьбе с этим видом преступления уделялось существенное внимание. Так, согласно декрету «О борьбе со взяточничеством» была введена конфискация имущества [91]. УК РСФСР 1922 г. был дополнен ст. 114 для борьбы с коррупцией [260]. Более того, Уголовный кодекс 1922 года предусматривал за это преступление расстрел [138].
Но коррупцию побороть не удалось. Более того, взятки практиковались в тех органах, которые должны были с ней бороться, в том числе в органах юстиции.
Таким образом, несмотря на то, что взяточничество в Советской России признавалось контрреволюционной деятельностью и Уголовный кодекс 1922 года предусматривал за это преступление расстрел, в судебную систему и правоохранительные органы коррупция благополучно перекочевала из царской России, продолжая свое существование и развитие буквально с первых дней советской власти.
После гражданской войны оказалось, что у судей есть огромное преимущество перед другими представителями правоохранительно-карательного сообщества. Они могли налагать штрафы за действительную или мнимую вину. А многие торговцы и самогонщики готовы были кормить и поить судей, чтобы избежать разного рода неприятностей. Причем картина не изменилась даже после введения НЭПа и появления в стране относительной финансовой стабильности.
В 1926 году, например, ОГПУ сообщало в ЦК о злоупотреблениях судей:
– Орловская губ. Нарсудья Ромскойвол. Фридман пьянствует, грубо обращается с посетителями. Однажды заставил двух женщин просидеть 4 часа в уборной за то, что они разговаривали в зале суда.
– Гомельская губ. В с. Красная Гора Клинцовского у. приехал из Клин-цов судебный исполнитель Гарист взыскать по суду с гр-на Шевцова, компаньона частного кожевенного завода, некоторую сумму денег. Гарист взыскания не произвел и вечером пьянствовал в доме Шевцова.
– Мариупольский округ. Секретарь нарсуда Берестовского района Грандель, бывший махновец, осужденный к 5 годам заключения и освобожденный по амнистии, занимается систематическим пьянством.
– Запорожский округ. Нарсудья Балаковского района налагает штрафы за всякие пустяки. Был случай, когда нарсудья оштрафовал одного крестьянина на 50 руб. за то, что тот стукнул сапогом о пол. Когда оштрафованный спросил о причине наложения штрафа, судья оштрафовал его еще раз на ту же сумму.
– Урал. 5 мая. Крестьяне с. Шатрово выражают недовольство нарсудьей Статищевым, который во время поездки по району для разборки судебных дел пьянствовал, учинил драку с защитником Ларионовым и секретарем Ломовских.
– Тюменский округ. Нарсудья Личинского района за одно и то же преступление зажиточных штрафует на 25 руб., середняков на 130 руб.
– В с. Емуртла Тюменского округа нарсудья 15-го участка грубо относится к свидетелям и не учитывает психологии последних. Получая ответ не, по существу, сразу грубо «обрезает» говоривших, отчего те окончательно путаются и ничего не могут ответить.
– Каменнобродская стц. Секретарь народного судьи за растрату в 150 руб. арестован и находится под стражей, как пытавшийся бежать из Каменнобродского района.
– Донской округ. 15 мая. Секретарем нарсуда 14-го участка Мечетинского района является ДемченковМ. С. В бытность свою секретарем нарсуда в стц. Кагальницкой Батайского района он неоднократно воровал из своей же камеры вещественные доказательства, самогон и другие вещи. За Демченковым числится ряд других преступлений.
– Ульяновская губ. Народный судья с. Козловки Ардатовского у. Наумов сильно пьянствует. На масляной неделе200 вышеуказанный Наумов совместно с другими лицами, напившись пьяными, открыли стрельбу из револьверов.
– Население Троицкой вол. Сызранского у. недовольно поведением нарсудьи Токарева, так как последний пьянствует и в нетрезвом состоянии бывает на судебных заседаниях.
– Амурская губ. 5 июня. В с. Ново-Воскресеновка Амурско-Зейского района нарсудья 1-го участка Ершов пьянствовал у спекулянтки и контрабандистки Карчемкиной. После попойки Карчемкина пьяная ездила верхом на нарсудье, об этом стало известно всей деревне.
К судейским работникам применяли самые разнообразные меры наказания. В том же обзоре говорилось: «Майкопский округ. За 9 месяцев сменено 10 народных следователей, из которых предано суду: 4 – уголовному, 4 – дисциплинарному, 2 сняты как несоответствующие своему назначению. Калужская губ. За период январь – февраль 1926 года привлечено к ответственности по различным статьям 13 работников нарсуда. Кроме того, за тот же период отстранено от должности 13 человек» [230].
Особенно был знаменательный процесс 1924 года ленинградских судебных работников. Выступавший на процессе обвинителем прокурор Верховного суда Андрей Вышинский так описывал преступления судей:
«Следователи и народные судьи Сенин-Менакер, Кузьмин, Шаховнин, Михайлов, Копичко, Васильев, Елисеев, Демидов, Флоринский и Гладков вошли в связь с нэпманами и различными преступными элементами, заинтересованными в прекращении своих дел, находящихся в производстве этих судебных работников.
Указанные выше следователи и судьи занимались систематическими попойками и кутежами. Во время этих попоек и кутежей, тут же на месте, судебными работниками, при участии тех же нэпманов, составлялись постановления о незаконном освобождении арестованных по разным делам лиц и достигалось соглашение о незаконном прекращении самих судебных дел…».
Учитывая, что среди судебных работников, были коммунисты, Вышинский деле акцент на политическом аспекте данной ситуации: «Сорок два человека сидят здесь перед нами… Вот первая группа преступников – получатели взяток – 15 судебных работников, и среди них есть коммунисты. Вторая группа – посредники – 10 человек, и среди них есть тоже коммунисты. Получают „коммунисты“, посредничают „коммунисты“. Конечно, коммунисты в кавычках… на деле – маленькие, грязненькие, развратные обыватели».
С особенной страстью Вышинский обличал на процессе обвиняемого Копичко и его любовницу: «Боннель – это известная петербургская великосветская кокотка, соблазнившая одного из коммунистов, «перестроившаяся» на соответствующий лад и воскресившая под покровительством этого так называемого коммуниста развратные нравы бывшего петербургского или петроградского «общества»…
Этот «коммунист» – подсудимый Копичко, бывший следователь губернского суда. Расстрелять его нужно за одну связь с этой кокоткой, вертевшей следственной работой Копичко!.. Копичко торговал своим судейским званием. Он продавал себя проститутке. Совесть судейскую продавал… Я требую сурового наказания, беспощадного наказания, которое разразилось бы здесь грозой и бурей, которое уничтожило бы эту банду преступников, посягнувших на честь судейского звания, запятнавших своими преступлениями великое имя советского судьи. Я требую беспощадного приговора» [87].
В результате 17 обвиняемых были приговорены к высшей мере социальной защиты – расстрелу, 8 получили по десять лет с последующим поражением в правах, а остальные отделались более мягкими приговорами.
Но никакие меры наказания не помогали. Судьи продолжали пить и брать подношения. «Вымогали даже продовольственные карточки» и к концу 1920-х годов руководство страны сочло, что судейский корпус нужно очищать от дореволюционных писарей и секретарей, при царизме привыкших брать взятки, после 1917 года вступивших в партию и разлагающих советские судебные органы. Суды решили «орабочивать», направляя на судейские должности большевиков-пролетариев от станка [279].
Председатель Владимирского губернского суда В. Кефалиди – писал: «В органах юстиции можно встретить на ответственных должностях руководителями бывших волостных писарей и лиц, ранее работавших по писарской части в полиции, у земских начальников, в окружных судах и у мировых судей. Эти работники, по моему мнению, являются, безусловно, деклассированными, а если учесть, что они собой представляли до 1917 года на этой работе – а мы с Вами знаем их (это в отношении нечистоплотности), – то станет ясно, что пускать их на судебную работу не следовало бы. Все они пришли к нам в партию после 1917 года. Имеет место до сих пор в органах юстиции протекционизм, дружество и, если грубо можно выразиться, собутыльничество; это последнее наносит чрезвычайный удар и партии, и Советской власти.
До сих пор мы наблюдаем, как лица, выброшенные из органов юстиции одной губернии или области, направляются на ту же работу в другую губернию, в другую область; это ведет нас к быстрому разложению аппарата той местности, куда прибывает выброшенный. Необходимо сейчас же начать строго пересматривать весь состав суда и прокуратуры и снять с работы руководящий состав суда и прокуратуры, ранее работавший при царском самодержавии волостными писарями, писарями полиции, окружных судов и т. д.».
В подтверждение своей правоты он писал: «Я – работник суда в течение 10 лет, с первых дней его организации. Председательствуя в трибунале и суде, я достаточно изучил все его болячки. В губерниях Курской, Брянской, Орловской и ныне Владимирской, где я работал и работаю, гнойников не было, а это вот почему: стоит только председателю суда и прокурору взяться за выпивку – не надо даже систематического пьянства, как сейчас около него сгруппируются члены суда, пом. прокурора, несколько партийцев других организаций, и к ним сейчас же примкнет пара членов коллегии защитников, которым на руку это.
Защита окружена нэпманской и антисоветской публикой, подготовит несколько проституток, а там вам – и розовый букет со всеми прелестями гнойника. Я в этой части являюсь трезвенником и, к стыду, сказать, получал неоднократно упреки даже со стороны некоторых ответственных товарищей из Наркомюста, упрекавших меня в том, что я за рюмку водки выбрасываю из суда.
Да, сознаюсь, и в будущем также буду делать, ибо я считаю, что судьи, которым вверены партией и властью миллионы людей, должны быть безусловно кристаллически-чистоплотными, трезвыми, иначе он судить других не имеет права» [119].
Уже к 1934 году стало очевидным, что новый эксперимент не принес желаемого результата. Для проведения указаний партии и правительства в жизнь судьям-выдвиженцам не хватало ни знаний, ни квалификации. В 1934 году ЦК принял директиву об улучшении кадров судейских работников, а к процессу очистки судов решили привлечь комиссию советского контроля.
Ее глава Николай Антипов в сентябре 1935 года докладывал о результатах проделанной работы: «Директива ЦК ВКП (б) от 10.VII – 34 г. о замене несоответствующих своему назначению судебных работников выполняется неудовлетворительно. По РСФСР, в порядке указанной директивы, по неполным данным, снято 12% народных судей, однако это обновление очень далеко от фактической потребности. Мероприятия органов юстиции по подготовке новых и повышению квалификации имеющихся кадров ни в какой мере не отвечают потребностям… Наркомюст РСФСР не знает даже, какое количество судей охвачено переподготовкой в порядке специального постановления Совнаркома от 5 марта 1935 г…
Краевые и областные партийные организации очень мало занимались судебными кадрами, выделяли на эту работу политически слабых, второстепенных работников. В результате подбор судебных кадров, особенно народных судов, остается крайне неудовлетворительным; многие народные судьи политически и юридически совершенно безграмотны, а в подавляющем большинстве – малограмотны. При удовлетворительном социальном и партийном составе судей (в народных судах РСФСР – 91% и в краевых, областных и главн. судах – 95% – члены и кандидаты ВКП (б), совершенно неудовлетворительным является состав судей по их правовой подготовке: 48% народных судей по РСФСР не имеют никакой правовой подготовки, при этом свыше 41% не имеет практического стажа судейской работы» [94].
Разочаровала комиссию советского контроля и политическая подкованность судей: «Неудовлетворителен состав судей и по политической подготовке, – говорилось в докладе Антипова. – Проверкой установлено наличие среди них людей совершенно безграмотных…
Народный судья Воронцово-Александровского района Лебедев не читает даже газет. Лебедев не знал о постановлении июньского Пленума ЦК ВКП (б) об уборочной кампании и хлебопоставках. К союзным республикам Лебедев относит «Карачай, Татарию, Азербайджан» и добавляет: «остальных не помню»… Лебедев, который должен судить за невыполнение госпоставок, считает, что в молокопоставках обязан участвовать каждый колхозный и единоличный двор, независимо от наличия коровы. Нарсудья Александровского района (Сев. Кавказ) Засыпкин также не читал постановления Пленума ЦК. Этот судья не знает закона о зернопоставках, о сельхозналоге, не имеет представления о новом уставе сельскохозяйственной артели… Нарсудья Зануда (Куйбышевский край) газет не читает, 23.VIII не знал о конгрессе Коминтерна… Судья Никитин (Куйбышевский край) не знает закона о борьбе со спекуляцией, утверждал, что закон об охране общественной собственности касается также хулиганства» [95].
Но более всего проверяющие были поражены тем, какие приговоры выносят судьи подобного профессионального и интеллектуального уровня: «Неграмотность народных судей приводит к тому, что до 40—60% вынесенных ими и обжалованных приговоров отменяется и заменяется вышестоящими судами. По РСФСР в целом оставлено в силе без изменения только 61% обжалованных приговоров нарсудов. Многие приговоры настолько возмутительны по содержанию, что трудно сказать, являются ли они результатом неграмотности и политического недомыслия судей, или сознательным созданием материалов для антисоветской агитации. Несколько фактов:
Народный суд Пропойского района (БССР), рассматривая дело по обвинению председателя колхоза в халатном отношении к своим обязанностям, записал в приговоре: «В организовавшемся в 1930 году колхозе им. Егорова, вследствие малого количества хозяйств в колхозе и незаинтересованности населения в колхозном строительстве, нежелания совместной колхозной жизни, был целый ряд недостатков и злоупотреблений, направленных на развал колхоза».
Лунинский нарсуд (Куйбышевский край) по делу об алиментах вынес именем РСФСР такое решение: «Принимая во внимание, что Вахтина, имея 40 лет, незамужняя и крайне непригодной личности для полового сношения с тов. Цаплиным… Вахтиной и Цаплину в признании отцовства отказать».
Водотранспортный суд Камского бассейна (Свердловск, судья Басаргин) осудил капитана Ростовщикова за разложение команды, хищения и виновность в авариях – к 3-м годам лишения свободы, но дополнил приговор словами: «Учитывая, что Ростовщиков, в силу слабости и склонности к пьянству и в силу привычки напиваться во всякое время по своему жизненному укладу, в порядке ст. 53 Уголовного Кодекса лишение свободы заменить условным осуждением». Этот же судья, разбирая дело по обвинению Балогурова и др., признал их виновными в авариях и приговорил к исправительным работам, но на этот раз сделал скидку на трезвость: «Принимая во внимание, что аварии совершены в трезвом виде»».
Но еще больше комиссию советского контроля возмутило то, что судьи-выдвиженцы не хуже предшественников научились злоупотреблять служебным положением: «Отдельные звенья судебного аппарата оказались засоренными преступными элементами. Приводим несколько примеров из многочисленных фактов:
– В Куйбышевском крае в течение года из 117 нарсудей 27 судей (или 23%) сняты с работы за разные злоупотребления, причем 14 нарсудей отданы под суд. Как показала проверка, судебный аппарат Куйбышевского края и сейчас засорен элементами, дискредитирующими советский суд.
– Нарсудья Порозов (Челябинская обл.), будучи судьей в Уфалейском районе, присваивал себе вещественные доказательства, делал приписки в приговорах и т. п., снова работает в другом районе.
– Нарсудья Миньярского р-на (Челябинская обл.) Денисов систематически пьянствовал, занимался взяточничеством, присваивал вещественные доказательства, уничтожил уголовное дело и т. д».
Как отмечалось в докладе Антипова, для пресечения судейского взяточничества и прочих безобразий не делалось практически ничего: