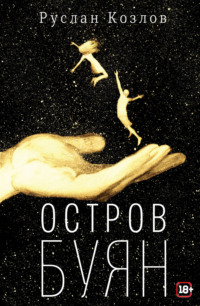Полная версия
Stabat Mater
– Да, госпожа.
– Вот, кстати, еще одна странность, – произносит августа. – Мой дед, Тит Вибий Вар, лично знал человека, осудившего на смерть вашего мессию. Правда, тогда этот человек давно уже не служил прокуратором, а жил на покое на острове Капри.
– Мы помним имя того прокуратора, госпожа. Его звали Пилатом. И он долго свирепствовал в Иудее.
– Свирепствовал? – Сабина удивленно поднимает брови. – Своей, как ты говоришь, свирепостью он пытался вразумить буйный народ Иудеи и предотвратить все худшее, что случилось потом, когда смутьяны довели дело до большой резни и по Иудее прошли железные когорты, а ее столица была обращена в прах подобно Карфагену… Но я не намерена вести с тобой исторические диспуты, старик… Лучше скажи – что за дело вам, живущим здесь, в тихой и цветущей Вифинии[5], которую войны, бунты и прочие потрясения всегда обходили стороной… Что за дело вам до какого-то канувшего в Лету мессии – выходца из дикой пустыни, из края головорезов и смутьянов?
– Мы приняли его учение, госпожа, – учение, в котором нет ни одного призыва к насилию, но в изобилии проповеди о любви к ближнему.
– О любви к ближнему, – повторяет Сабина, и в ее голосе слышится сомнение. – И снова странность. Если эта вера так миролюбива, почему люди считают вашу секту людоедской, рассказывают о кровавых ритуалах, практикуемых вами? И даже говорят, что безумный мессия, которому вы поклоняетесь, призывал своих клевретов съесть его самого – съесть его плоть и выпить кровь!
– О августа, – со вздохом говорит Кирион. – Таково примитивное и буквальное понимание иносказаний мессии. Во всеобщей неприязни к нашему братству сошлись три главные черты плебса – страх перед непонятным, ненависть к инакомыслию, а главное – желание отыскать виновных во всех бедах и покарать их. Злобные слухи о нас родились во времена цезаря Нерона, который обвинил наших братьев в поджоге Рима и прочих преступлениях. И с тех пор эти слухи живут и разрастаются подобно ядовитому плющу, оплетшему нас…
– Ты слишком многословен, старик. – Сабина поднимает руку, прерывая Кириона. – Я не хуже тебя осведомлена о подлых нравах плебса, так что оставим это… А сейчас я хочу услышать от тебя вот что: пожалел ли ты когда-нибудь о том, что сжег свою руку, поступив так из преданности вашему мессии? Клял ли себя за то, что прожил жизнь калекой?
Несколько мгновений Кирион молчит, потом тихо, но твердо говорит:
– Нет, госпожа. Я ни разу не пожалел об этом.
– Но тогда ответь: вот ты, как я уже сказала, не похож ни на фанатика, ни на безумца. Ты никогда не видел вашего мессию и не мог подпасть под его чары, если таковые были. Значит, подобную твердость убеждений тебе дает именно его учение, его слова, как-то дошедшие через столько лет до тебя и твоих единоверцев. Так в чем же притягательная сила этого учения?
– В том, моя госпожа, что оно ведет к освобождению от зла. Но не внешнего зла, а внутреннего – от греховного зла в собственном сердце. И тем указывает путь к спасению.
– К спасению… – В голосе августы звучит сарказм. – Почему же ваш мессия не смог вразумить и спасти от истребления своих соплеменников в злосчастной Иудее?.. И что все-таки означают его безумные слова о поедании плоти?
– Они означают, госпожа, что наш мессия принес себя в жертву. А мы должны принять эту жертву, насытиться ею как духовной пищей и стать достойными этой жертвы…
Говоря это, Кирион бросает взгляд на августу и видит, что она широко зевает. И, зевнув, произносит:
– М-да… Поразительно, что столь туманное и далекое от жизни учение владеет умами так долго…
– Главное, госпожа, не слова мессии, а то, что случилось после его смерти… – начинает Кирион, но не успевает договорить.
Из-за его спины, бесшумно ступая в мягких сандалиях, появляется бритоголовый римлянин, подходит к Сабине, склоняется к ней и что-то вполголоса произносит.
– Когда? – спрашивает августа на латыни.
– Через девять дней, – уже громче докладывает бритоголовый и, повинуясь жесту Сабины, исчезает за завесой.
С минуту августа сидит молча, вновь захваченная неведомыми Кириону мыслями, затем говорит:
– Я слышала, безбожников, подобных вам, именуют христианами…
– Да, госпожа. – Кирион склоняет голову. – Христос – это и есть наш мессия, божий посланник. Так это слово звучит по-гречески.
– По-гречески? Значит, вы – греческая секта?
– Нет, госпожа.
– Иудейская?
– В нашей среде есть люди разных народностей, – говорит Кирион, – те, кому открылась Христова истина…
– И сколько же христиан здесь, в Олимпосе?[6]
– Немного, госпожа. Лишь те, кто сейчас в тюрьме. Шесть семей. Всего – тридцать пять человек вместе с женщинами и детьми… – Говоря это, Кирион вдруг чувствует, как в его нутро опять вгрызается голодный спазм, невольно охает и хватается за живот.
– Что с тобой, ты болен? – холодно спрашивает Сабина.
– Нет, госпожа. Это просто голод напоминает о себе…
– Я велю накормить тебя. Но прежде мы должны закончить разговор, ради которого ты здесь… Итак, Кирион… Боюсь, у меня плохие новости для тебя и твоих единоверцев. Знаешь ли ты, почему все вы оказались в подвале претории?
– Не знаю, госпожа, но догадываюсь. Нас хотят обвинить в поклонении Христу…
– Да, это так. Однако вас бы никто не тронул, если бы не обстоятельства, которые сложились неблагоприятно. Скоро сюда прибудет цезарь. Здесь он решил отпраздновать день рождения своего возлюбленного, греческого юноши, и показать ему место, где герой Эллады Беллерофонт бился с огнедышащей Химерой и сразил ее, а труп закопал под горой – той самой, из недр которой до сих пор вырывается пламя. Здешний проконсул, желая угодить цезарю и его любовнику, намерен устроить большие игры на столичный манер. Уже сооружен деревянный цирк, ведь здешний каменный амфитеатр слишком мал для такого события. На арену цирка выйдут акробаты и гладиаторы, бестиарии[7] и люди-саламандры, проходящие сквозь огонь, и кто-то там еще… – Сабина морщится и трет висок, будто ее голову пронзила внезапная боль. – Но главной частью представления, – продолжает она, не отнимая пальцы от виска, – будет воссозданная легенда о Химере, которой приносят человеческие жертвы. Химеру, точнее – многих Химер, изобразят голодные львы, как-то по-особому наряженные… А жертвы будут настоящие. И, думаю, ты уже догадался, кому уготована эта роль.
«Хлоя! – проносится в голове Кириона. – Она так кричала прошлой ночью, ей приснилось, что на нее набросился лев… А еще Лидия, и Агата, и другие дети… Но мы ведь знали, что когда-нибудь так может случиться и Господь призовет нас, уповая на нашу стойкость… Но голодные львы… И дети… Разве это можно вынести?..»
– Не хочу смотреть, как звери раздирают детей, – слышит он голос августы и пугается, что невольно высказал свои мысли вслух. – Нет, не хочу, – продолжает августа, и ее голос кажется усталым и равнодушным. – Нельзя сказать, что я чересчур чувствительна, нет. Скорее, дело в моем классическом воспитании, полученном от наставников-греков. Так или иначе, все эти кровавые зрелища, достойные мерзких варваров… Они просто… Просто оскорбляют мой вкус… Да, вкус! – вдруг кричит Сабина. – Ты слышишь, старик, оскорбляют мой вкус!..
Подняв глаза на августу, Кирион видит, что она сжимает виски уже обеими руками и ее пальцы трясутся. Край паллы спадает с ее головы, но она не замечает этого.
– Да-да, оскорбляют вкус! – снова кричит она.
Из внутренних покоев появляется девушка в белой тунике и, держа в руке небольшую чашу, быстро, почти бегом, спешит к Сабине, и та, схватив чашу, залпом выпивает ее, а потом, приняв из рук девушки платок, вытирает им губы и подбородок. Когда служанка удаляется, августа долго сидит неподвижно, глядя перед собой, словно изучая прожилки на мраморных плитах пола. Ее тягостное молчание усиливает волнение Кириона, и так почти невыносимое.
– Госпожа… – решается он позвать Сабину.
– Да, старик, дурной вкус – это опасный признак и для отдельного человека, и для империи, – спокойно говорит она, как ни в чем не бывало продолжая прерванный разговор. – Торжество дурного вкуса предвещает крах. А дойдя до некоего предела, дурной вкус и вовсе становится страшен. В мире дурновкусия чувствуешь себя как в яме со зверями. – Она наконец отрывает взгляд от пола и встречается глазами с Кирионом. – Но это так, к слову. А сейчас суть в том, что людям с дурным вкусом понадобились жертвы. Но просто взять и бросить вас зверям, как куски мяса, нельзя. Ведь это Рим, и тут во всем должна быть видимость законности. – Губы Сабины искажает саркастическая усмешка. – Поэтому вашей казни будет предшествовать суд. От вас потребуется немного: не признавать, что вы – христиане, поклясться в верности цезарю и поклониться Юпитеру, в святилище которого пройдет суд над вами. И если вы поступите так, то даже у цезаря не будет формального повода отдать вас на съедение зверям… А теперь вот что скажи мне, старик. Имеешь ли ты влияние на своих единоверцев?.. Уверена, что имеешь, – продолжает она, не дав Кириону ответить. – Стоит тебе только поднять твою красную руку, и все будут внимать тебе и сделают так, как ты скажешь… Тебя, Хирококкинос, я не призываю отречься от твоей веры. Ты уже сделал свой выбор, когда вложил руку в горящие угли, и сейчас ты подтвердил мне, что не жалеешь об этом… Хотя вижу, как ты стал бледен и как гнетет тебя жестокая участь, уготованная вам. Возможно, львиные клыки страшат тебя больше, чем пылающая жаровня, и ты рассудишь, что предать… Нет, не предать, а просто слукавить перед твоим мессией куда разумнее, чем принять мучительную смерть для потехи негодяев и ради торжества дурновкусия… Ты говорил, ваш мессия исповедовал любовь и милосердие. Если так, то ему не нужны ваши жертвы. Ведь он не Химера, и не кровожадный Молох, и не Сатурн, пожирающий детей… Впрочем, ты волен поступать, как повелит тебе долг перед твоим кумиром. Возможно, и мужчины из числа твоих единоверцев решат следовать этому долгу, недоступному моему пониманию. Это ваше право. Но повторяю, старик, я не хочу смотреть, как звери рвут детей своими клыками и когтями. Да и их матерям не место на кровавой арене. И потому я приказываю тебе, Хирококкинос, слышишь, приказываю: вели женщинам твоей секты выполнить необходимые условия, чтобы спасти себя и своих детей…
Смысл сказанного августой с трудом доходит до Кириона. Он слышит ее слова как бы сквозь крик маленькой Хлои, испуганной приснившимся львом. Он пока не может ни о чем думать, не может ничего ответить августе, он слишком слаб от голода и от обрушившейся на него страшной вести.
– Когда? – выдавливает он из себя. – Когда состоятся игры?
– Мне доложили, что Адриан сейчас в двух днях пути от Александрии, где его ждет императорская галера. Еще шесть или семь дней ему потребуется, чтобы пересечь Наше море[8]. Значит, через девять дней он будет здесь. И вряд ли захочет оттягивать начало игр… На этом все, – говорит Сабина. – Через три дня ты вновь предстанешь передо мной и доложишь, как выполнил мое повеление… Сейчас тебя накормят… И вот еще что. С этой ночи ты можешь выходить из тюремного подвала когда захочешь, но прочие безбожники останутся в тюрьме. И теперь от тебя зависит – куда они отправятся из претории.
– Госпожа… – К Кириону постепенно возвращается способность думать. – Спасибо за эту милость, госпожа… Моя жена Филомена тяжело больна. Ее не взяли вместе со всеми. Она осталась на попечении соседей, и я не знаю, что с ней. Теперь я смогу увидеть ее… Благодарю тебя… Госпожа, и если уж ты так добра, прошу тебя, вели, чтобы моих собратьев в тюрьме лучше кормили. Мы изнемогаем от голода. И еще изнемогаем от тьмы, в которой нас держат днем и ночью…
– Хорошо, – говорит Сабина после недолгого раздумья. – Я распоряжусь о еде и светильниках… И если в подвале есть отдушины, я велю их открыть, чтобы твои собратья не задыхались в собственном зловонии.
– Благодарю тебя, августа…
Кирион с трудом встает и выходит из атрия, следуя за тем же рабом, который водил его в термы. Он едва держится на ногах, шатается, и раб вынужден придерживать его за плечо.
Кирион не видит, как августа снова хватается за виски и сжимает их, словно ее голова раздувается от боли или от каких-то страшных мыслей.
Полчаса спустя Кирион один, без конвоя, пересекает агору, освещенную уже не луной, а рассветным небом. Он чувствует, что его разум и душа как будто окаменели. Кирион спешит в преторию, обеими руками держась за хитон на животе. Под хитоном – фрукты и лепешки, куски сыра и мяса – все, что он сумел нагрести со стола, за которым его кормили. Никто не запрещал ему брать еду. И опасения, что еду отберут тюремные охранники, тоже были напрасны – его без обыска пропускают в подвал. И, спустившись к собратьям, он видит, что там уже горят масляные светильники и все люди едят, собравшись вокруг четырех котлов. И самое удивительное – едят не руками, а глиняными ложками, появившимися невесть откуда.
– Отец, иди скорее! – зовет его Дидона, старшая дочь, которая первой увидела, что он вернулся. – Нам принесли еду, отец! Вареный горох. И даже мясо!..
– Возьми, вот еще еда… – Он глазами показывает на свой хитон, который топорщится от снеди.
Дидона подбегает и начинает вытаскивать еду у него из-за пазухи.
– Смотрите! Здесь лепешки, и сыр, и сливы, и даже смоквы… Хлоя, дети, скорей, скорей сюда!
– Где ты был, брат? И откуда это все? – В голосе подошедшего к ним Власия слышится подозрительность.
– Я говорил с императрицей… Да-да, не думай, что я обезумел. – Кирион снизу вверх глядит на огромного Власия. – Императрица здесь, в Олимпии. А скоро сюда прибудет и сам цезарь… Брат, я все расскажу. Но сейчас мне надо спешить к Филомене. Августа позволила мне покидать тюрьму. Прости, брат. Я скоро вернусь, и мы поговорим…
Комната пуста. На лежанке – скомканные тряпки, расколотый кувшин.
«Наверно, Симон и Лия забрали Филомену к себе», – думает Кирион.
С замирающим сердцем он переходит узкую улицу и, прежде чем постучать в дверь напротив, прижимает руки к груди.
– Господи, – бормочет он. – Боже милостивый, сохрани мою Филомену. Твоя воля во всем. Не дай мне, несчастному, погрязнуть в бедах и напастях подобно Иову. Господи, не оставь, помоги, укрой, защити…
Дверь перед ним распахивается. На пороге – Лия. Через мгновение Кирион все понимает по ее глазам. Лия молча сторонится, предлагая ему войти. Но Кирион стоит, ухватившись за косяк, чтобы не упасть.
– Когда? – спрашивает он.
– Двенадцать дней назад, как раз на Пурим. – Лия низко опускает голову. – Кровь пошла из горла. Я была с ней… Войди в дом, Кирион, тебя могут увидеть.
– Могут увидеть? – тупо повторяет Кирион. – О чем ты?
Может быть, Лия считает его беглецом? Или просто не хочет, чтобы люди видели у ее дома христианина?
– Ее положили, как она хотела, вместе с матерью? – спрашивает Кирион.
– Да, – нетерпеливо отвечает Лия. – Да. Вместе с матерью, в их родовую лодку…[9] Послушай, Кирион, или зайди в дом, или уходи.
– Я уйду, Лия…
Кирион отступает назад и останавливается посреди улицы. Он не слышит, как Лия резко захлопывает дверь, не слышит, как она говорит за дверью подошедшему к ней мужу:
– Этот Краснорукий не в себе. Совсем как безумный. Может, в тюрьме с ним что-то сделали?..
– А деньги? – раздается за дверью мужской голос. – Деньги за погребение Филомены? Открой же, я с ним потолкую…
– Говорю тебе, он не в своем уме, – зло отвечает Лия. – Потом потолкуешь.
– Когда? – не унимается мужчина. – Когда он сдохнет под римскими бичами? Может, мы и его будем хоронить за наши деньги?..
Кирион не слышит. Он медленно бредет к своей двери. Три ступеньки, ведущие к ней, он преодолевает с таким усилием, будто это горный перевал. И, шагнув через порог, в изнеможении садится на него. Его спина, обращенная к улице, вздрагивает – то ли от рыданий, то ли от тяжелой одышки. Так он сидит долго, ни о чем не думая, будто провалившись в пустоту. И в этой пустоте к нему запоздалым эхом возвращается голос августы: «Разве твой бог – кровожадный Молох, который хочет жертв?» И он вдруг резко и болезненно понимает, что должен ответить на этот вопрос, что такова жестокая необходимость и что без этого ответа вся его жизнь будет никчемной, как и его обгорелая рука. Он вспоминает, что через девять дней умрет. Но о собственной смерти он теперь думает без содрогания и даже – как о чем-то желанном, как о предвестии скорой встречи с Филоменой. Его страшит другое – что у него осталось слишком мало времени для ответа на вопрос, сорвавшийся с уст язычницы-императрицы и ставший главным теперь, в нескольких шагах от страшной арены, под взглядами желтых голодных львиных глаз.
С трудом распрямляя затекшие ноги, Кирион встает и пересекает комнату, заглядывает в кухонный угол, машинально отмечает, что полки, где стояла утварь, пусты – то ли Симон и Лия забрали все, то ли в доме побывали воры. Встав на колени, Кирион отодвигает камень у основания печи, достает из открывшегося тайника небольшой ящик, обитый медью, и ставит его на стол. В ящике – одиннадцать пергаментов, исписанных по-гречески пересказами того, что он слышал о Христе и Его учениках. Там же – один чистый пергамент, и тростниковый стилус, и чернильный порошок в деревянной коробочке, и красное вино в глиняном флаконе. Найдя на полке уцелевшую плошку, Кирион приготовляет в ней немного чернил, размешивая порошок в вине тупым концом стилуса, потом садится к столу, расправляет перед собой чистый пергамент и прижимает свинцовым бруском его верхний край. Правую искалеченную руку он может использовать только как крюк, но левой действует с привычной ловкостью и пишет ею не хуже, чем когда-то писал правой.
Кирион пока плохо представляет – что и зачем он собирается писать. Он всегда боялся собственных мыслей о самых важных вещах и никогда не додумывал их до конца. А уж пачкать ими дорогой пергамент и вовсе считал непростительной дерзостью. Ведь он не философ, не поэт, не ученый. Но теперь ему некогда бояться и нечего стесняться…
Сам того не замечая, он начинает писать на родном языке – ведь думает он всегда только на нем. И к тому же это их общий с Филоменой язык. Язык их детской дружбы и юношеской любви, язык их трудной и долгой жизни, их уступок и ссор, обид и прощений, скорбей и радостей, язык, которым они говорили об истине, обретенной ими во Христе…
В тот день Кирион написал:
«Зачем Богу нужны наши страдания? Вчера я знал ответ: Он хочет испытать нашу верность, увидеть – достойны ли мы войти в Его Царство. Наш мир, ставший новым Содомом, обречен на скорую гибель, чтобы затем, подобно новому Иерусалиму, возродиться очищенным. И в том будущем мире Господь уже не потерпит никакой нечистоты.
Я, пишущий эти строки Кирион, сын лодочника Пелея, полвека назад принял на острове Патмос святое крещение от Иисусова ученика – геронды Иоанна, желая, чтобы вся моя жизнь стала одним непреклонным следованием за Христом. Я знал, что придется пройти через страдания, но готов был приветствовать их как вехи на пути к спасению, проложенном для меня Господом. И потому никакие испытания не могли устрашить меня.
Так было до нынешнего дня, когда я понял, что по своей духовной слепоте готовился принять лишь собственные муки, хотя рядом со мной тем же путем шли мои близкие. Но узнав об участи, ожидающей нас, – о том, что мы должны быть растерзаны львами для увеселения тирана, – я осознал, что увидеть мучения близких будет выше моих сил. Это вырвалось из глубины моего сердца подобно пламени и вмиг сожгло любую возможность смириться с таким жребием – даже если он брошен рукою Самого Господа.
И вот, видимо, таков предел моей веры, которую я дерзко полагал беспредельной. И таков крах моей жизни, пришедшей ныне к малодушию и неверию…»
1 марта. Прощеное воскресенье
Иван
В больничной церкви – вечерняя служба. Отец Глеб кадит в алтаре и с амвона. Прихожан – человек десять, в основном женщины с заплаканными глазами – мамы больных детей. Самих детей нет. Если их и приводят в храм, то лишь на причастие. Мужчин сегодня двое. Один всю службу стоит на коленях, не плачет, не крестится, только сгибается все ниже в бесконечно медленном поклоне. Другого я знаю, это доктор Зорин, старший анестезиолог. Раза два я видел его в коридоре хосписа осажденным родителями. Видел, как одна женщина вцепилась в лацканы его халата, а Зорин отворачивался, будто от нее скверно пахло, и монотонно твердил: «Нельзя. Нельзя больше дозу». Наверное, из врачей ему здесь тяжелее всех. Другие врачи зовут его Завболь.
Женщин в черных платках сегодня в церкви нет. Значит, молимся о живых.
Я остался на вечерню и чин прощения по просьбе отца Глеба. Он страшно увлечен Кирионом и его рукописями. Сказал, что продолжим разговор после службы. Да и я был рад отсрочить обратный путь по коридорам хосписа…
Внутреннее пространство маленькой больничной церкви выглядит странно: храм несоразмерно высок и похож на уходящий вверх тоннель. Три яруса колонн напоминают натянутые жилы. Будто какая-то сила тащит церковь вверх, хочет вырвать из земли, а каменная плоть противится. Эту церковь делает похожей на православный храм лишь невысокий иконостас, отгораживающий алтарь. Все остальное здесь – чужое, готическое. Узкие окна на уровне третьего яруса освещают верхний свод – пустой, без росписи. До нижней части храма дневной свет доходит лишь по прихоти погоды. Если на улице солнце, сюда может пробиться случайный луч. А в пасмурный день свет едва сочится. Сейчас он пульсирует под сводом нервными сполохами – должно быть, снаружи продолжается солнечно-метельная круговерть. В меняющемся освещении кажется, что огоньки свечей то бледнеют и чахнут, то вновь разгораются ярче.
Ни в одной церкви я не видел такой службы, как здесь. Отец Глеб служит один – без дьякона, без алтарника, без хора. По этому поводу он как-то сказал с печальной улыбкой: «Сам читаю, сам пою, сам кадило подаю. Зато уверен, что никто не собьется». Только на литургии в храм приходит пожилая медсестра, чтобы пропеть «Херувимскую». Во время службы отец Глеб уходит в себя, говорит и поет, закрыв глаза или глядя вверх, но каждое слово доносит ясно, звучно, словно перебирает голосом звонкие четки. В его одиноком и как будто отрешенном служении по-особому видна красота церковнославянского языка; и я благодарен ему за то, что он никогда не путается в словах, не ошибается с ударениями и падежами, не глотает странные для современного уха окончания слов. А вот его проповеди кажутся мне суховатыми, даже формальными – немногословные и безупречно благочестивые комментарии к евангельским текстам. При этом я заметил, что в проповедях он старательно избегает любых наставлений. Зато во время исповедей и бесед отец Глеб преображается. Несколько раз я ждал его, сидя на лавке у стены или стоя в притворе. Я не мог расслышать слов, но тихий гул его голоса, его взгляд, его руки, которыми он не стеснялся обнимать собеседников, останавливали рыдания, оживляли окаменевшие лица…
А сегодня я впервые вижу его другим. Он волнуется, запинается, на середине короткой молитвы перед чином прощения с минуту стоит молча, растерянно смотрит на прихожан, будто ждет подсказки. Потом встает на колени, склоняется в земном поклоне и, поднявшись, тихо, медленно говорит:
– Простите меня… Я так мало могу сделать для вас. Мое сочувствие, даже самое искреннее, так мало дает… Как смею утверждать, что я – бездетный монах – понимаю и разделяю вашу боль! Никакого сострадания не хватит, чтобы судить о ней со стороны… Дорогие мои, сегодня мы должны простить обидевших нас, простить причинивших нам зло. Нелегко бывает справиться с обидой на ближнего. Но во сто крат труднее унять обиду на Бога. Почему Он не может защитить ваших детей? Почему заставляет вас выносить невыносимое? Я не знаю. И в этом незнании – моя вина. Ведь чтобы простить, нужно понять. А как понять Бога, попускающего такие страдания? У меня нет ответа – простите… Я только одно могу сделать – поделиться с вами своей верой в то, что боль ваших детей и ваша боль – не бессмысленны, не напрасны… Эта вера – самое большое, самое главное, что у меня есть… Я знаю, у вас бывают минуты, когда кажется, что Господь оставил вас. Но это не так. Я чувствую всем сердцем: Господь – рядом с каждым из вас, рядом с каждым из ваших детей. В этом горе и страдании Он ближе к вам, чем к другим – здоровым и счастливым. Каждый день я молю Его, чтобы дал вам сил, чтобы помог ощутить Его близость, Его сострадание… И даже – Его мольбу о прощении…
Я ждал, что после службы родители, как всегда, выстроятся в очередь на беседу к отцу Глебу. Но сегодня все тихо, молча расходятся. Остается только доктор Зорин. Кажется, просит об исповеди.
Я ухожу в притвор, чтобы никого не смущать, пристраиваюсь в узкой нише, где можно сидеть. Я чувствую себя усталым, тяжелым, сонным. Но для меня это хорошее состояние, оно притупляет мою вечную тревогу, перемешивает мысли, превращает их в серый бессмысленный хаос. Если повезет, то из этого хаоса не будут выскакивать острые, болезненные вопросы, заставляющие вздрагивать и просыпаться: «Что дальше?», «Кто ты в свои тридцать семь?», «Кому ты нужен?..», Хаос – прекрасное протосостояние мира. В нем не было ни форм, ни вещей, ни имен, ни личностей, ни долга, ни тревоги, ни боли, ни зла… Радости и добра тоже не было. Ну и что? Зачем они, если за них всегда приходится жестоко расплачиваться?.. Все хотят обратно – в теплую, темную утробу хаоса. Все помнят о ней на самом глубоком, неистребимом, нестираемом уровне генетической памяти. И до сих пор переживают родовую травму человечества, до сих пор ужасаются и негодуют: зачем нас исторгли из этой утробы! Зачем ослепили светом, пронзили мучительно громкими звуками, искололи тревожными мыслями, бросили голыми и беззащитными перед всесильным злом! Зачем сделали заложниками страха перед неизвестным, непредсказуемым будущим! Зачем терзают вечной необходимостью делать выбор и принимать решения, а потом давят виной за все, что мы сделали не так!.. Верните нас обратно – в блаженное бессмыслие и бессилие. Верните в безмятежность и безгрешность! Там, в предвечном хаосе, мы были растворены вместе с Богом и, значит, были едины с Ним… И зачем только нас разлучили!..