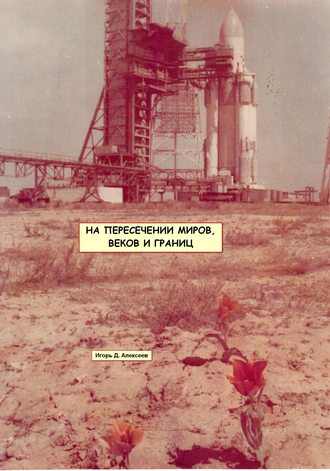
Полная версия
На пересечении миров, веков и границ
В первом классе я практически не учился: в сентябре болел дизентерией (заболел, будучи в Днепропетровске), затем ветрянка, краснуха, свинка, несколько раз переболел ангиной. В декабре лежал в больнице со скарлатиной с последующим осложнением, и, напоследок, в марте 52-го года меня на долгих три месяца, с осложнениями на сердце, уложили в педиатрический институт АН СССР на Солянке с диагнозом ревмокардит, где я перенес три сердечные атаки, и меня чудом оставили в жизни.
Хотя не всем в этой больнице так повезло: в нашей палате, где лежало более 20 мальчишек в возрасте от нескольких месяцев до 14-16 лет, смерти происходили достаточно часто и несколько буднично. В больнице я очень много читал, мучая персонал просьбами об обмене книг. В палате иногда, не помню, чтобы это происходило часто, приглашенные учителя занимались с нами по отдельным предметам, иногда старшие ребята или больничные сестры читали вслух. У одного из старших мальчишек, помню его фамилию – Азарков (может быть – Озорков), была гитара. Репертуар у него был несколько странный, так что, когда родители забрали меня из больницы, первое, что я им спел: "Гоп со смыком – это буду я!…". Папа от смеха чуть не задохнулся.
Тем не менее, меня условно, без аттестации по нескольким предметам, перевели во второй класс. Прекрасно помню свою первую учительницу – Фаину Михайловну, только что окончившую педагогическое училище, красивую с большими черными глазами, вечно преследуемую старшеклассниками, которые вряд ли были младше её самой, но влюблённую в нас – свой самый первый класс и готовую возиться с нами сколько угодно.

1952г. – военные лагеря под Тулой (Сапожниковы: дядя Боря, Ирочка, тетя Бэба – мамина сестра, Алексеевы и баба Феня)
Моим соседом по парте был Мельников (имени уже точно не помню, кажется, Володя), у которого отец был художником. Жили они в полуподвальном помещении какого-то полуразвалившегося дома около парка им. Дзержинского. Как-то, побывав у него дома, чтобы вместе подготовиться к урокам, я долго не мог отойти от полученных впечатлений. Каморка, наполненная запахом масляной краски и каких-то растворителей, внизу на стене портрет Сталина, разбитый на квадраты, рядом незаконченный портрет того же Сталина на мольберте, свернутые холсты в рулонах по углам. Только мы пришли, к Мельникову-отцу пришел посетитель: оказалось, представитель ГосЛИТа пришел сертифицировать готовые портреты (оказалось, что у Мельникова была лицензия или разрешение на копирование портретов Вождя). Этот мужчина с лупой "прочёсывал" готовые портреты, сравнивая их с "расчленённым" оригиналом, и ставя какие-то отметки, без которых портреты нельзя было вывешивать в присутственных местах и сдавать в магазины. После его ухода мой одноклассник тут же постарался проводить меня – его отец начал готовиться "отмечать" приемку продукции без брака.
Летом 1952 года мы поехали отдыхать в военные лагеря под Тулой, где служил начальником политотдела десантной дивизии дядя Боря Сапожников, муж маминой сестры Бебы. Там мне запомнились несколько интересных моментов.
Дядя Боря был очень маленький (рост где-то около 160 см.). Соответственно, и вес у него был небольшой – не хватало, чтобы прыгать с парашютом. Поэтому он хранил дома свинцовые грузы, которые при прыжках навешивал на пояс. Там, в лагерях, мне удалось поймать огромную щуку, которая погналась за утятами и выскочила на берег. Не растерявшись, я забил ее камнем. Когда мы с гордостью тащили ее домой, она оказалась выше меня.
Помню я и похороны Сталина. Папа ушел с раннего утра, одевшись в полную полковничью форму (Наверное, единственный раз, когда я его видел в форме дома). Поскольку занятия в школах были отменены, мама решила пойти в Дом Союзов вместе с Мишей, ему ещё не было четырех лет, и со мной. Поехали от площади Коммуны (сейчас Суворовская пл.), где была гостиница, трамваем. Не доезжая Садового кольца, нас высадили. Дальше пошли пешком. Народу все прибывало. С горем пополам мы дошли до Трубной площади, но дальше проход был закрыт армейскими грузовиками, стоявшими поперек Покровского и Рождественского бульваров и улицы Неглинки. Мама хотела уже идти домой, но это оказалось невозможным: количество людей увеличивалось, двигаться было невозможно. Нас прижало к круглой рекламной тумбе в самом начале Покровского бульвара. Спасибо, какой-то молодой офицер из толпы увидел нас всех троих плачущих, мобилизовал еще несколько мужчин и забросил меня на верхушку тумбы, а Мишку посадил себе на плечи. Эти мужчины образовали защитную зону, упершись руками в тумбу и запустив маму в эту зону. Они спасли нам жизнь.
Вокруг творилось что-то невообразимое: волнообразное движение спрессованной толпы, крики и стоны людей, треск машин из оцепления. Так мы простояли несколько часов, пока солдаты, стоявшие в оцеплении на грузовиках и за грузовиками, по чьей-то инициативе, стали вытаскивать из спрессованной массы детей. Что было дальше, не помню. Домой мы, замученные, голодные и замерзшие, вернулись только ночью и сразу заснули.
Папа вернулся ещё позже. В итоге, он прорвался в Колонный зал, но пришел домой в порванной шинели, без пуговиц, с разломанным козырьком форменной фуражки и без одной калоши.
На следующий день в школе и везде вокруг только и было разговорах о сотнях, а может быть, и тысячах погибших. Самое гиблое место оказалось в районе Трубной площади. Там погибли дети нашей завучи и еще одной учительницы, а также отец одного из наших одноклассников. Мама еще много лет корила себя за столь опрометчивое решение проститься с Вождем вместе с детьми, а я до сих пор благодарен неизвестным людям, спасшим нас в столь критической ситуации.
В сентябре 1954 года, после слияния мужских и женских школ, меня перевели в другую, которая была значительно ближе к нам – в Октябрьском переулке. Кажется, ее № был 54. В этой школе я проучился всего до апреля и ничем особенным она мне не запомнилась. Единственное – это был одноклассник по фамилии Филатов. Он запомнился тем, что у него были совершенно фиолетовые губы. Когда мы увидели его первый раз, кто-то из ребят спросил его, зачем он намазал губы чернилами. На что он очень обиделся, а учительница позже разъяснила нам, что у него больное сердце. Через несколько месяцев он умер: у него был врожденный порок сердца.
Пока мы жили в гостинице, у меня были постоянные обязанности, которые доставляли мне удовольствие: снабжать семью хлебом и молоком. Хлеб я покупал на обратном пути из школы в булочной, которая находилась на углу Октябрьской улицы сзади театра Красной Армии. В этой булочной, почему-то, верхние полки были заполнены пирамидами из крабовых консервов "Чатка". Продавщицы там меня знали и продавали мои полбуханки, нарезав к ним до нужного веса хорошие довески душистого теплого хлеба, которые я съедал по пути до гостиницы. За молоком приходилось ходить с бидоном на Центральный колхозный рынок, находившийся рядом с цирком. Дорога туда и обратно пешком по бульварам через оживленную Самотечную улицу занимала почти час. Молоко я всегда покупал у одних и тех же теток, которые меня тоже знали и которые меня угощали то ложечкой сметаны, то ложечкой свежайшего творога.
Досуг мы с гостиничной детворой проводили в находившемся рядом парке Центрального Дома Красной Армии (теперь – Екатерининские сады), где зимой на катке тренировалась команда ЦДКА во главе с любимым нами всеми Бобровым. Что он – великий спортсмен, мы вряд ли понимали. Но он, а потом и несколько других хоккеистов, делая вид, что клюшка треснула, "выбрасывали" её за бортик в нашу сторону. Так что у большинства из нас были настоящие клееные клюшки. Как же нам было его не любить!
Помню полуразвалившиеся то ли дома, то ли бараки в Самарском переулке напротив стадиона "Буревестник". До самого переезда из гостиницы я иногда ходил и смотрел на один из них, стены у которого не было, а роль стены исполнял натянутый брезент с проступавшими через щели какими-то старыми одеялами. Как там могли жить люди!? После этого дома наши гостиничные условия казались раем.

1953г. – Душанбе. Баба Феня, дядя Володя Анисимов, тетя Аня,Виталик и Лидочка Фисенко-младшая сестра папы
Летом мы частенько гостили у наших друзей Тарасовых и Седовых в посёлке МВТ во Внуково. Поселок был построен из сборных домов, которые Гитлер направил для проживания высшего офицерского состава после захвата Москвы. Дома очень пригодились, но печные заслонки в них оставались исполненными в виде свастики и тогда, когда в этих домах селили отдельных сотрудников МВТ.Однажды, когда мы гостевали во Внуково, папа сообщил, что прилетает муж его сестры, дядя Володя Анисимов, который был пилотом самолета ИЛ-14, летающего по маршруту Душанбе-Москва. Мы решили пройти пешком до аэропорта. Когда самолет приземлился, мы с мамой и Мишей, которому тогда было 4 года, побежали к самолету (тогда это разрешалось). Дядя Володя, увидев нас, вытащил из самолета гигантский арбуз и покатил его в нашу сторону. Миша попытался его остановить, и был сбит с ног этой огромной ягодой. Расплакавшегося брата решили успокоить, показав ему внутренности самолета. Наибольшее впечатление на него произвел туалет: как же так, через дырку всё падает вниз на землю?


1955г. – с папой, Одесса
Дядя Володя на полном серьёзе посоветовал ему никогда не смотреть на пролетающие вверху самолеты с открытым ртом: мало ли что может оттуда падать.Обратно в посёлок пришлось брать такси, т.к., помимо арбуза, дядя Володя вез и виноград, и … "витамин Ш" (спирт, предназначенный для антиобледенительной системы и сэкономленный в ходе полета).

1953г. – Корсунские (тетя Киля – мамина сестра, её муж – дядя Сёма, сын – Рома), Ирочка Сапожникова, мама с Мишей и со мной
Дядя Володя, боевой летчик, после войны остался в Душанбе, куда была эвакуирована его жена – тетя Аня, с мамой, с сыном – Виталиком, и своей сестрой – Лидочкой.

1956г. – во Внуково
"Полковничьи выселки"
В начале 1955 года родителям предложили переехать из гостиницы на выбор: либо в 2 небольшие комнатки в густонаселенной коммунальной квартире в старом доме на площади Маяковского, либо в одну большую (аж 22,5 кв.м.!) комнату в двухкомнатной квартире в новом доме на 6-ой ул. Октябрьского поля (теперь ул. Маршала Бирюзова) – районе, в основном построенном немецкими военнопленными, и заселенном большей частью военными, многие из которых служили в Генштабе или ГРУ, и который окружающее население называло "полковничьи выселки". Они выбрали второй вариант. Нам с Мишей об этом не говорили до тех пор, пока мама не обставила комнату и места общего пользования мебелью, что в то время было очень нелегко.
И вот настал день переезда! Основной багаж из гостиницы, а также привезенный из Англии и находившийся все это время где-то на складах, включая пианино и книги, перевезли загодя. Мама уехала заранее приготовить праздничный обед, а мы с Мишей и папой поехали сами. Зная номер квартиры, я бегу вперед, тянусь к звонку и … вижу на кнопке звонка какое-то существо. Подошедший папа определяет: клоп!!! Позже выяснилось, что учащиеся какого-то ПТУ, забавы ради, собирали клопов в спичечные коробки и разбрасывали их в новые дома. Слава богу, последствий это не имело, но мы с Мишей впервые увидели эту живность.
Комната, которую мы получили, была как вагон: 7,5 м в длину и 3 м в ширину с одним окном в торце, но квартира… Большая, около 10 м кухня. Прихожая около 14 м. Со всем этим мы получили и прекрасную семью соседей, поселившихся в 16-метровой комнате рядом с нами. Подполковник-артиллерист, Герой Советского Союза, в войну командовавший батареей тяжелых гаубиц и, ввиду окружения КП фашистами, вызвавший огонь батареи на себя, но чудом выживший, с супругой и дочкой – почти моей сверстницей. На общем квартирном совете тут же решили прихожую переоборудовать в коллективную столовую, где вместе ужинали и проводили праздничные обеды в выходные дни. К сожалению, они прожили с нами всего несколько месяцев: артиллериста направили в Париж, откуда он, став военным атташе, и последовательно получив звания полковника и генерала, в нашу квартиру уже не вернулся: получил что-то соответствующее званию. Но уезжая в Париж, они разрешили нам использовать их комнату, за что мы были им очень благодарны, и чем мы пользовались в течение почти трех лет, разместив в ней нашу детскую.
Получив со склада привезенное из Англии пианино мама, сама немного играющая, пригласила нам с Мишей учительницу по музыке. После года занятий эта учительница заявила, что Мишу ещё можно научить, хотя он лентяй и заниматься не хочет – по три раза в час бегая в туалет, но у него есть и слух, и гибкость пальцев. А что касается старшего, т.е. меня, "…посмотрите на его руки: его пальцами только гайки отворачивать". Так из меня, к расстройству родителей, музыкант и не получился.
Учиться я пошел со всеми ребятами из нашего дома и нашего двора в школу № 725 , расположенную напротив, на 5-ой улице Октябрьского поля (теперь – маршала Рыбалко), а уже с сентября 1956 г. нас всех перевели во вновь построенную школу № 738. Моими неразлучными друзьями были соседи по подъезду Женька Титков и Володя Чучукин. Мы вместе заливали и чистили каток во дворе. Вместе помогали дворнику скалывать лед у нашего подъезда и разбивать клумбы во дворе. Вместе собирали металлолом, но и … вместе лазили на крышу дома (наш дом был последним многоэтажным домом от Москвы и далее, включая институт Курчатова, до самого канала и Москвы-реки ничего нам не мешало) смотреть авиационные парады в Тушино, вместе, тайком от родителей бегали купаться на стрелку канала с рекой.
И зимой и летом папа заставлял вначале меня, а потом и Мишу каждое утро бегать в лес Покровское-Стрешнево и делать там зарядку. Вместе с друзьями мы записались и в баскетбольную секцию, но поскольку в школе я всегда был освобожден от физкультуры из-за детского ревмокардита (ни один школьный врач до самого окончания мною школы не решался пересмотреть поставленный когда-то диагноз), первое время я хранил форму у Титкова. Вместе с моим папой мы делали лыжные вылазки через Покровское-Стрешнево до Сходни.
Моя мама, также как и папа, перед войной окончившая Днепропетровский металлургический институт, успела поработать по специальности только во время эвакуации в Казани и, потом, в Москве на заводе "Серп и Молот". Она очень любила учиться: то курсы английского языка, то кройки и шитья, то машинописи, а потом и немецкого языка. Поэтому она очень рано начала учить меня готовке. Уходя на курсы, она стала давать мне задание: – "Игорек, на ужин для мужчин приготовишь…" В жизни это мне весьма пригодилось.
Вот и новый 1957 год! За праздничным семейным столом смотрим по телевизору премьеру – фильм "Карнавальная ночь". После фильма папа спрашивает:
– Игорек, если нам с мамой опять придется на длительный срок уехать куда-либо в командировку, где нет школы, где бы ты хотел на это время остаться? В Душанбе у бабы Фени, тети Ани и дяди Володи вместе с Виталиком и Лидочкой (младшая сестра папы, всего на один год старше своего племянника), в Днепропетровске у тети Сары (сестра мамы) с Мариком и Вадиком (мои двоюродные братья) или в интернате?
Особо не затрудняясь в выборе, я тут же ответил: интернат!
Интернат. Последняя школа
Оказалось, вопрос не праздный: соответствующие решения уже имелись – родители с Мишей вновь уезжали в Англию, где к этому времени при Посольстве имелась только начальная школа. И уже в первых числах февраля из кабинета директора интерната Министерства внешней торговли, куда меня привели родители, моя будущая воспитательница, Елизавета Николаевна Данилова, ведет меня на третий этаж, где размещалось место самоподготовки 6 класса. Во время открытия двери слышу: – "Лети-и-ит!!!" и вижу летящий веник, направленный в голову одного из мальчишек. Оказалось, это обычное развлечение в группе, "проверяющее реакцию" на внешнее воздействие.
После ухода воспитательницы знакомлюсь со своими будущими однокашниками. Среди них оказались мои старые знакомые по посёлку МВТ во Внуково – Толя Богатый и Борис Куликов, тот самый, что являлся метателем веника. Ребята, в дополнение к тому, что говорил директор, рассказали мне о структуре интерната, что образование я буду получать не здесь, а в обычной городской школе № 40 в Теплом переулке (теперь ул. Тимура Гайдара), где обучаются все воспитанники интерната, изучающие немецкий и английский языки.
Интернат находился в 4-этажном старинном здании на Большой Пироговской ул. 9А. Сейчас в нем расположено одно из структурных подразделений медицинского университета. На верху фасада здания выложено мозаичное панно: Георгий Победоносец протыкает змея. В подвале здания находилась столовая, кухня и баня, на первом этаже – большой конференц-зал, бильярдная, где стоял и стол для настольного тенниса, административные помещения и кабинет врача. В обоих торцах здания находились лестницы, которые, вроде бы, должны были соединять между собой все этажи. Но … ближняя к входу, где всегда должен был находиться вахтер, лестница соединяла подвал, 1-ый этаж cо 2-ым женским этажом и 4-ым детским (общий для мальчиков и девочек 1 – 4 классов) этажом, где женская половина могла пройти и в спортзал. На 3-ем, мальчиковом, этаже вход с этой лестницы был закрыт на врезной замок. Дальняя лестница – для мальчиков (нас было значительно больше, чем девочек). Она соединяла 1-ый этаж, часть 2-го, отгороженную от женской "светелки" стеной с запертой дверью, и где было несколько классных комнат, полностью 3-ий этаж со спальнями и классными комнатами и 4-ый со спальнями и классными комнатами для немногочисленных 9 и 10 классов, а также со спортзалом. Наша группа в количестве около 25 человек была самая многочисленная. А всего в интернате в разные времена было от 150 до 250 детей, как работников системы Министерства Внешней Торговли, так и специалистов промышленности.
Нравы в интернате были весьма своеобразны, чем-то напоминающие сегодняшнюю "дедовщину" в армии, о чем я убедился уже в первый день: когда время самоподготовки закончилось, нагрянули человек пять 9-ти- и 10-тиклассников для того, чтобы "прописать" вновьприбывшего. Они запихнули меня в платяной шкаф и начали переворачивать его по горизонтальной оси. После пятиминутной "зарядки", сопровождавшейся песнями и хохотом, они пожелали мне, вывалившемуся из шкафа, приятного пребывания в интернате. Сопроводив это "шмазью великой", как это описывалось в "Очерках бурсы" Помяловского (захватив всё лицо ладонью, зажав при этом нос указательным и средним пальцем), посоветовали также быть послушным мальчиком. На следующий день я стал свидетелем, как эти же великовозрастные балбесы налетели на соседнюю спальню (у нашей группы было 2 спальни: одна на 16-18 человек, где поселили и меня, и вторая на 6-8 человек) и избили Толю Логинова подушками, после чего он до самого сна мучился головной болью.
Тогда я сразу же предложил, пригласив тоже довольно многочисленную группу 5-го класса, "совершить революцию": по одному – по два "перевоспитать" старшеклассников. Поскольку наш длинный коридор был с одной стороны заглушен дверью (к которой у ребят оказались отмычки), а пол был застелен ковровой дорожкой, мы выключили свет в коридоре и, дружно взявшись руками за ковровую дорожку, стали ждать пока появятся старшеклассники, направлявшиеся в туалет (туалеты были соответственно только на 2-м и 3-м этажах). Как только первые два "врага" наступили на ковер, по чьей-то команде дернув дорожку, мы опрокинули их на пол, замотали в дорожку, отмутузили, а сами сбежали через заднюю дверь. На следующий день мы перетянули через коридор веревку, с её помощью опрокинули, связали и избили поочередно еще троих старшеклассников. Чтобы они не рассказали друг другу о происходящем, мы продержали первых связанными, пока не попался третий. Вечером мы направили к ним выбранных парламентариев. Условия были: прекратить "бурсу", запрещался вход на этаж, кроме как в туалет и душ. В противном случае, под страхом нашей коллективной порки, им по нужде надо будет ходить на улицу.
Утром, за завтраком наши парламентарии, подойдя к столу старшеклассников, получили согласие на выдвинутые условия. Весь интернат, уже знавший о происходящем, горячо поддержал завоеванный мир. С тех пор и до окончания школы наша группа была мировым посредником по всем конфликтам, возникающим как между группами, так и отдельными лицами. "Боевая" дружба, возникшая с теми 5-классниками (в последующем в этой группе был и будущий Народный артист СССР Коля Караченцов), продолжалась и в дальнейшем. Подозреваю, что о "революции" знал и воспитательский совет интерната. С тех пор наша группа и, особенно стол, где в столовой сидели инициаторы события, стал любимым для нашего шеф-повара дяди Саши, который в легальные добавки гарнира подбрасывал нам и нелегальные кусочки мяса и котлеты. По имевшейся у нас информации, во время войны дядя Саша был поваром командующего Тихоокеанским флотом, и нам очень повезло, что его сумели заманить в наш интернат.
В школе доля интернатцев составляла не более 10-20 процентов. Как правило, одетые лучше большинства, держащиеся сплоченными группами, мы, первое время, действовали несколько раздражающе для остальных, но при этом лидировали в общественной жизни школы. Нужно отдать должное преподавательскому составу школы и воспитателям интерната, которые много общались между собой, за то, что некоторый антагонизм был погашен в корне, в том числе и в наших 6-ых классах, где доля ребят из интерната была чуть выше. Особая заслуга в этом была директора школы – Виктории Алексеевны Афанасьевой и наших школьных классных руководителей Инны Ивановны Шпагиной (класс "А" – немецкий) и Галины Сергеевны Богуславской (наш класс "Б"– английский).
Инна Ивановна, преподаватель математики, в будущем, когда школа переедет в новое здание и окажется под патронатом Совмина, станет директором школы. Она была невероятно колоритной фигурой: лет сорока, полная, подвижная, завзятая "курилка" (даже на уроках, особенно на контрольных, могла закурить у открытого окна), с хорошим чувства юмора, но и резкая на слово. Её "Будь здоров, целуй лампочку!" на неправильный ответ стало в дальнейшем фирменным выражением нашей компании. В начале восьмидесятых годов мы услышали, что школа, расположенная уже в новом помещении, проводит вечер встречи выпускников. Мы с Ирой решили сходить. В основном там были юные выпускники, но оказались и человек 5 из нашего выпуска и около 10 – из следующего (они в отличие от нас оканчивали уже 11-летку), включая Колю Караченцова. Пошептавшись между собой, мы позвали Инну Ивановну сходить с нами, после официальной части, в кафе. Посиделки оказались веселыми: с воспоминаниями, шутками, анекдотами. Инна Ивановна смеялась, чуть ли не заразнее всех. С той встречи мы с ней не виделись.
Галина Сергеевна, незадолго до этого окончившая институт, у которой наш класс был первым с классным руководством, преподавала английский. Секретарь учительской комсомольской, а потом и партийной организации, у которой мама была освобожденным партийным секретарем на Норильском комбинате, стремилась к совершенству отношений с нами, с родителями. Как я впоследствии узнал, ведшую переписку с моей мамой (думаю, и с родителями других воспитанников интерната, особенно тех, кто ей не безразличен). Не замуж замужняя, она вечно придумывала, чем занять наш досуг: коллективные, в том числе и малыми группами – по интересам, посещения театров, походы в музеи, лыжные и туристские походы по Подмосковью, иногда и с ночлегом. После окончания нами школы, когда и интернат был переведен в Подмосковье – в Красноармейск, она так и не смогла найти нужного ей контакта с последующим классом и ушла преподавать на курсы повышения квалификации. Но до самой своей смерти поддерживала контакты с нами, приглашала на чаепития с собственным вареньем и собственными пирогами, вела дневник класса. В честь 25-летия окончания школы активно помогала провести слет выпускников 1961 года. У нее было больное сердце и нарушен обмен веществ. В 1990 году, когда мы были в Германии, кто-то позвонил нашему сыну и сказал, что Галина Сергеевна умирает и просит нас с Ирой срочно к ней приехать. В отпуске, посетив её квартиру, мы не застали ни её, ни маму, ни мужа с сыном. Там жили посторонние люди.
В марте 1958 года я подал заявление о приеме меня в Комсомол. На том же собрании, где меня приняли, меня избрали секретарем комсомольской организации, что, в принципе, не противоречило Уставу. Когда решение о приеме должен был утвердить Райком Комсомола, на заседании меня представляла моя заместительница.

