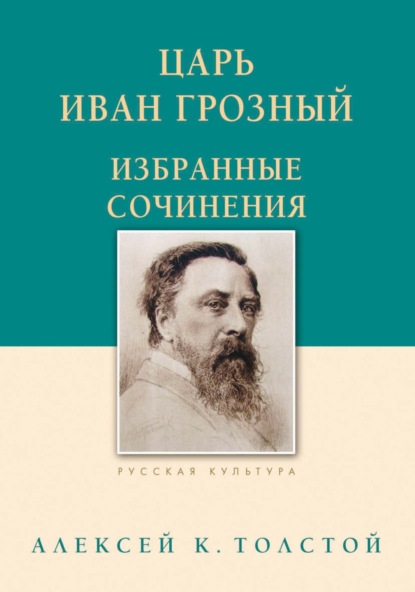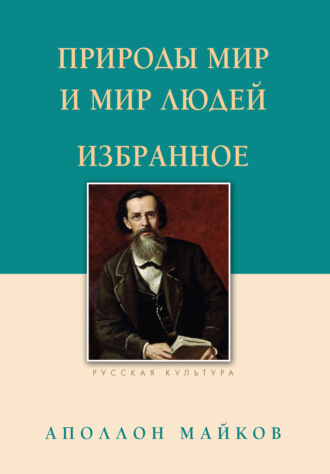
Полная версия
Природы мир и мир людей. Избранное
В 1854–1858 гг. Майков создает цикл стихотворений о русской природе, которые стали хрестоматийными и цитатными: «Весна!
Выставляется первая рама», «Летний дождь» («Золото, золото падает с неба!..»), «Ласточки» («Мой сад с каждым днем увядает…»). Это были совершенно неожиданные для Майкова, не головные впечатления. Лишь в некоторых из них встречались идеологические конструкции (город и деревня, телесное и духовное окормление). Но Майков не пишет нигде, что он уходит в мир природы от социальных проблем и неурядиц. Между тем нельзя не заметить, что весь этот природный цикл появляется у него именно в период Крымской войны. Потом стихи о природе встречаются все реже и приобретают философический характер («Пан», «Денница»). Стихи Майкова о природе хороши. Но певцом русской природы назвать его сложно: этот эпизод в его творчестве был слишком коротким и не развился в определенную тенденцию. Наиболее самобытным стихотворением Майкова на «природную» тему была идиллия «Рыбная ловля» – об одной из популярных досуговых практик тогдашнего дворянства, ориентированного на традиционные формы жизни. Стихотворение посвящено лицам, для которых рыбная ловля была «благородной страстью». Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859), автор книги «Записки об уженье рыбы» (1847), посвятил Майкову стихотворение о рыбной ловле «17 октября» (1857). Об отношении Александра Николаевича Островского (1823–1886) к этому стихотворению говорил брат драматурга М. Н. Островский на юбилейном обеде в честь Майкова 30 апреля 1888 г.: «Я никогда не забуду, с каким восторгом он читал ваше стихотворение "Рыбная ловля", посвященное и ему в числе многих других любителей рыбной ловли, помню, с каким умилением он повторял те места вашей поэмы, где вашею художественною, но трезвою кистью рисуются картины нашей природы»[25].
Достойно также внимания, что два «природных» стихотворения посвящены детям: «Вербная неделя» («Что это сделалось с городом нашим?..»), посвященное «маленькой К-и» и «Весна» («Уходи, зима седая!..»), посвященное Коле Трескину, вероятно, сыну Н. А. Трескина (1838–1894), цензора Московского цензурного комитета, директора учительского института при Московском воспитательном доме, крестному сыну Л. Н. Майкова. Майков таким образом сразу вводил эти произведения в круг детского чтения и в национальный культурный обиход.
Совершенно иной характер имели стихотворения, связанные с Крымской войной 1853–1856 гг.: поднятые в них темы и проблемы оставались актуальными для Майкова до конца его жизни. Вообще Крымская война всколыхнула патриотические чувства во всем русском обществе, вне зависимости от политических убеждений и пристрастий. Но в творчестве Майкова она сыграла совершенно особую роль. В начале 1855 г. он издал небольшую книжку стихов «1854-й год», в рецензии на которую Некрасов и Н. Г. Чернышевский писали: «Майков сознал, что на нем, как на поэте, равного которому в настоящее время едва ли имеет Россия, прямым образом лежит обязанность сделаться органом общего чувства… Книга имеет двойной интерес, как произведение даровитого поэта и как задушевное выражение общего чувства патриотизма»[26]. Имея в виду значение патриотической проблематики и близость Майкова к журналу «Современник», критики не писали о том, что в сборнике ярко выразились те архаические тенденции, которые намечались еще в раннем творчестве. Майков открыл книгу стихотворением «Памяти Державина при получении известия о победах при Синопе и Ахалцихе», которое принадлежит к вроде бы несвойственному ему жанру оды, но мы помним, что он сам считал себя учеником именно Державина. Майков включил в сборник стихи в псевдонародном стиле «О том, как отставной солдат Перфильев пошел во вторичную службу». В стихотворении «Арлекин», выступая против французов, он осудил заодно и демократические идеи Великой французской революции («свобода, равенство, братство»). Во время войны все это воспринималось как патриотический (пускай и неумеренный) порыв. Но в марте 1854 г. Майков написал стихотворение «<Коляска>», в котором выразил свои нижайшие верноподданические чувства. Согласно сообщению Е. А. Штакеншнейдер, Николай I «не принял» это стихотворение[27], оно не попало в сборник. Но это значит, что Майков нашел для себя возможным обратиться к государю с просьбой о такой публикации. Такое литературное поведение оценивалось как сервилизм. «<Коляска>» вскоре стала известна в литературных кругах и вызвала резкий протест. Майкова стали называть Аполлоном Коляскиным. И. С. Тургенев, Некрасов (и, возможно, А. В. Дружинин) в «Послании к Лонгинову» писали:
А Майков Аполлон, поэт с гнилой улыбкой,Вконец оподлился – конечно, не ошибкой.Стихотворение «Послание в лагерь» в 1860 г. Н. А. Добролюбов спародировал в стихотворении «Братьям-воинам». А позднее Д. Д. Минаев в сатире «Литературные ополченцы» высмеял Майкова и других поэтов «майковского периода». Майков в глазах общества оказался главой и символом казенно-патриотического направления, политическим ренегатом; он тяжело переживал это и оправдывался в переписке с близкими людьми. Но ядовитые критики были правы: ксенофобия всегда опирается на патриотизм, а низкопоклонное верноподданничество – на монархизм, хотя сам по себе патриотизм вовсе не предполагает ксенофобии, а монархизм не предполагает низкопоклонного верноподданничества. Так, говоря словами А. В. Дружинина, «дидактика социальная», свойственная Майкову в 1840-е гг., сменилась во время Крымской войны «дидактикой патриотической», но Майков остался тем же рациональным «поэтом мысли», каким он был с самого начала своего творчества[28]. Майков в «крымских» стихах первый раз перегнул палку и в дальнейшем не раз еще допускал эти неверные ноты. Очень ярко это сказалось в стихотворениях, связанных с Польским восстанием 1863 г. («Западная Русь» / «Великолепные костелы…», «Князю Друцкому-Любецкому» / «Литовских смут печальные картины…»).
Эта эволюция закономерно привела Майкова к сближению с журналом «Москвитянин», как он сам писал, «на почве славянофилов, но с твердой идеей государства и с полным признанием послепетровской истории», свойственными Михаилу Петровичу Погодину (1800–1875, историку, журналисту, писателю, издателю «Москвитянина»; Майков посвятил ему стихотворение «Карамзин») и М. Н. Каткову, – «это цельно, это органически разумно, и это меня сблизило с ними»; таким образом, резюмирует Майков свою эволюцию, «завершился период искания правды в философии, религии, политике»[29]. Майков вспоминал: «В одну из самых тяжелых для меня эпох, в Крымскую войну 1853–1855 годов, я бросался из Петербурга в Москву, чтобы почувствовать под собою почву… Я попал в молодую редакцию "Москвитянина". <…> У них я нашел не только оправдание и сочувствие, но и увидел в них совсем моих единомышленников»[30]. В 1853–1855 гг. журнал «Москвитянин» возглавлял Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864), поэт, переводчик комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». После похорон Григорьева Майков писал жене 29 сентября 1864 г.: «Теперь уж в литературе петербургской у меня нет друзей, т. е. душевно меня понимавших, Аполлон Григорьев все собирался разбирать мои стихи – да так и не успел; теперь уж никто не в состоянии написать мой литературный портрет»[31]. Майков не только не чуждался литературно-идеологической борьбы, но и сам активно вступал в нее. В 1857 г. «возникло в кружке Майковых, который принадлежит к "Библиотеке для чтения", редактируемой Дружининым, намерение противодействовать мутному потоку, пробивающемуся, со Щедриным во главе, в литературу, и придать ей, не отступая от действительности, несколько более изящное направление»[32]. В результате этого идеологически ангажированный поэт, который к тому же проявил себя в глазах общества как поэт сервильный, был объявлен в 1858 г., когда вышло в свет его собрание сочинений в двух томах, одним из крупнейших поэтов «чистого искусства» вместе с А. А. Фетом, Я. П. Полонским и графом А. К. Толстым. «Чистое искусство» должно быть свободно от злободневной гражданской и социально-политической тенденции и дидактики. Но Майков в этом смысле свободен не был. Он, конечно, провозглашал в стихах культ природы, любви, красоты и искусства. Но красота природы и красота любовного чувства, как мы уже говорили, мало затрагивали его, о любви и природе он писал очень редко. Остается, очевидно, одна эстетизированная красота наяд и вакханок, которую М. Е. Салтыков зло (но по-своему справедливо) называл клубничной.
Майков упорно продолжал переводить с разных языков, из разных культур: Фирдоуси, древнеиндийский эпос «Рамаяна», Апокалипсис (IV–X главы), античные поэты, Хафиз, Бертран де Борн, Гете, Г. Лонгфелло, А. Мицкевич, сербский народный эпос и сербские профессиональные поэты, Г. Гейне, «Слово о полку Игореве» и многое другое.
Внешняя жизнь его была небогата событиями. В ноябре 1857 г. он был назначен делопроизводителем Временного комитета по пересмотру цензурного устава; в 1858 г. Морское министерство пригласило его принять участие в экспедиции на корвете «Баян» в Грецию, включая Греческий архипелаг. Корвет подолгу останавливался в прибрежных городах Италии, так возник «Неаполитанский альбом (Мисс Мэри)» (1858). Готовясь к плаванию, Майков изучил греческий язык, и хотя в Грецию «Баян» не попал, но Майков написал цикл «Новогреческих песен» (переводы и подражания). В 1860—1870-е гг. он ездил в Германию, Францию, Турцию, где лечился и навещал сыновей.
Написал он в это время драматические поэмы «Странник» (1864) из жизни сектантов бегунов, «Бальдур» (1871), «Песнь о солнце, по сказаниям Скандинавской Эдды», поэму «Брингильда» (1888). В 1870-е гг. он пишет ряд исторических стихотворений, составивших цикл «Отзывы истории», в который включил и стихи о мессианской роли России «Заветы старины» (1878). Время от времени Майков издавал собрания своих сочинений (с 1872 г. в 3-х томах, последнее прижизненное издание, 6-е, в 1893 г.), которые он называл «полными».
В апреле 1888 г. русское общество праздновало 50-летний юбилей литературной деятельности Майкова. В печати были опубликованы стихотворные и прозаические поздравления Гончарова, Фета, К. Р. (великого князя Константина Константиновича), графа А. А. Голенищева-Кутузова, Ф. Н. Берга и других. Александр III произвел Майкова в тайные советники и увеличил пенсию с 1750 до 3500 рублей. Вскоре после юбилея Майков напечатал стихотворение «У гроба Грозного» (1888), где сам Грозный оправдывал свою жестокость и казни бояр интересами государства, православия и народа и называет себя зачинателем тех дел, которые завершили Петр I и Екатерина II. Вполне естественно, что это стихотворение вызвало негативную общественную реакцию. В стихотворении «По поводу стихов Майкова "У гробницы Грозного" и стихов Фофанова на могиле Майкова» (1897) В. С. Соловьев писал, что Майков «лукавыми словами… злую силу воспевал»[33]. Ю. И. Айхенвальд иронически писал: «Во имя обожествленной государственности он берет под свою защиту даже Грозного. Ему не претит "политики полезное коварство". Он показал борьбу между язычеством и христианством, и вот христианство победило; Майков и стал поэтом торжествующего креста. При этом крест у него торжествует именно в государственном смысле; христианская победа, христианское прощение у него или надменны, или неприятно-великодушны. Можно было бы примириться с тем, если бы Майков воздавал кесарю кесарево, – но он делает больше: он воздает кесарю Богово»[34]. И опять приходится признать, что критики правы и что Майков в очередной раз перегнул палку. Позиция государственника и морнархиста вовсе не обязывала защищать тотатилатризм и политическое насилие. Известный герой Достоевского отказывался от Царства Небесного, если в основание его будет положена хоть одна слезинка ребенка. Майков положил в основу царства земного реки народной крови и слез. «Поэт мысли» не заметил сложности и обоюдоострости мысли.
Майков пишет в это время очень много мудрых, старческих стихотворений, подобно как И. С. Тургенев – свои «Senilia. Стихотворения в прозе». Среди них особенно выделяется цикл, который он приписал выдуманному древнегреческому поэту «Из Аполлодора Гностика». Вроде бы наступила пора умиротворенно думать о вечном. Однако в это же время он постоянно сочиняет парадные оды на торжественные дни императорского дома: «На 25-летие царствования государя императора Александра Николаевича 19 февраля 1880 г.», «Кантата, исполнявшаяся на парадном обеде в день венчания на царство е<го> и<мператорского> в<еличества> государя императора Александра Александровича», «В день венчания на царство его императорского величества государя императора Александра Александровича», «На событие 17-го октября» (железнодорожная катастрофа 17 октября 1888 г. у станции Борки под Харьковом, в результате которой едва не погибла семья Александра III), «На спасение государя наследника в Японии» (о покушении на цесаревича Николая Александровича в японском городе Оцу 29 апреля 1891 г.). Таких стихов на такие темы в это время уже никто не писал – во всяком случае никто из именитых поэтов. Называть себя учеником Державина в 1840-е гг. было архаизмом; писать стихи наподобие Державина в 1880—1890-е гг. было немыслимой архаикой.
Но даже на этом фоне выделяется упомянутая выше «Кантата». Это произведение было создано в качестве текста для кантаты «Москва» для солистов, хора и симфонического оркестра, которую П. И. Чайковский написал по заказу в марте 1883 г. на случай коронации Александра III. Чайковский писал Н. Ф. фон Мекк 26 марта (7 апреля) 1883 г.: «Мне очень помогло то обстоятельство, что слова кантаты, написанные Майковым, очень красивы и поэтичны. Есть маленькая патриотическая хвастливость, но вместе с тем вся пьеса глубоко прочувствована и написана оригинально. В ней есть свежесть и искренность тона, давшая и мне возможность не только отделаться от трудной задачи кое-как, лишь бы было соблюдено приличие, но и вложить в мою музыку долю чувства, согретого чудесными стихами Майкова»[35]. Первое исполнение кантаты состоялось в Москве 15 мая 1883 г. в Грановитой палате; солисты Е. А. Лавровская и И. А. Мельников, хор и оркестр под управлением Э. Ф. Направника. В советское время из политических соображений были убраны упоминания о Боге и царе. Для нас важно, что даже заинтересованный и благожелательный Чайковский отмечает «маленькую патриотическую хвастливость» кантаты Майкова. Для современного читателя доля этой «хвастливости» существенно увеличивается.
Для понимания позднего Майкова следует учесть, что младший брат его Леонид Николаевич практически не общался с ним по причине разницы политических взглядов. А младший сын Майкова художник Аполлон Аполлонович (1866 – ок. 1917) был одним из учредителей Союза русского народа. «Карьера и фортуна» (если воспользоваться словом И. А. Гончарова из «Обыкновенной истории») Аполлона Аполлоновича в значительной мере повторяла «карьеру и фортуну» его отца. Он был художником-любителем[36], выполняя завет отца, что обеспечивать себя следует службой, а не искусством. Весьма примечательно, что первые сорок лет его жизни практически неизвестны. И только с 1905 г., когда он стал одним из создателей Союза русского народа, сведений становится значительно больше. С момента основания Союза он принимал активное участие в деятельности монархических организаций, съездов и совещаний, свое кредо он изложил в программной работе «Революционеры и черносотенцы»[37]. Именно он создал проект нагрудного знака Союза русского народа, который и был утвержден в качестве официального и 23 декабря 1905 г. подарен Николаю II и цесаревичу Алексею. Его считают автором картины «Дни отмщения постигоша нас… покаемся да не истребит нас Господь» (между 1905 и 1907; Государственный музей истории религии, Петербург). После раскола Союза русского народа в 1909 г. А. А. Майков отошел от активной деятельности.
Так в деятельности Аполлона Аполлоновича Майкова нашла свое логически завершение деятельность его отца. От античных, антологических тем, от политической незрелости, вследствие которой монархизм подменялся деспотией, а патриотизм – личной преданностью государю, под прикрытием «чистого искусства» Майков-поэт шел к прославлению царского трона, а Майков-сын стал одним из основателей Союза русского народа.
27 февраля 1897 г. Аполлон Николаевич Майков вышел из дома слишком легко одетый, заболел воспалением легких и вскоре умер.
Литературная судьба Майкова очень интересна и поучительна. Современники ставили его в один ряд с Тютчевым, Некрасовым и Фетом. Сейчас он кажется гораздо менее интересным. Причина же такого перепада в восприятии, как можно думать, в том, что Майков прятался от правды. Хотел быть политическим поэтом – и надо было последовательно быть политическим поэтом. Но архаическое воспитание с ориентацией на культурные ценности XVIII в. повели Майкова в архаическую же тенденциозность, которая не содержательно, а поведенчески не отвечала требованиям времени. Поэтому для современников он казался фигурой значительной, а с течением времени отошел на второй план. Кто, впрочем, знает, как сложится его судьба в дальнейшем.
В настоящем издании в условиях ограниченного объема мы решили представить только небольшие стихотворные произведения Майкова, даже стихотворные рассказы – но не поэмы и не драмы. А из небольших стихотворных произведений мы выбрали только те, которые посвящены русской природе, русской общественной и политической жизни, русской культуре. Мы понимаем, что это в известной мере ограничивает общую картину литературной деятельности Майкова. Но зато такое представление поэта помогает понять главные силовые линии его творчества. Внутри разделов стихотворения расположены в хронологическом порядке.
Комментарии к сочинениям Майкова мы дали под строкой, кроме тех имен и фактов, которые объяснены во вступительной статье. Исторические лица, устаревшие слова не объясняются. Примечания самого Майкова помечены словами Прим. автора.
М. В. Строганов
Неизвестный художник (предположительно А. А. Майков, сын поэта) «Дни отмщения постигоша нас… покаемся да не истребит нас Господь». Между 1905 и 1907
Природа и люди

И. Крамской. Поэт Аполлон Николаевич Майков. 1883
Лунная ночь
Тихий вечер мирно над полянамиСумрак синий в небе расстилал,Главы гор оделися туманами,Огонек в прибрежье засверкал,И сошло молчанье благодатное.Дремлет, нежась, зеркало зыбей:Лишь в поморье эхо перекатноеВторит глухо песням рыбарей.Чудный миг! Вечерние моленияС фимиамом скошенных луговДень увлек к престолу Провидения,Будто дань земных его сынов.Ангел мира крыльями звездистымиНавевает сон и тишинуИ зажег над долами росистымиСтражу ночи – звезды и луну.Вот пора святая, безмятежная!Взор, блуждая, тонет в небесах…Эта глубь лазурная, безбрежнаяГоворит о лучших берегах.Что же там, за гранию конечного?Что вдали сиянье звезд златых?То не окна ль храма вековечного?То не очи ль ангелов святых?Не живая ль летопись вселенныя,Где начертан тайный смысл чудес?..Кто постигнет руны довременныеЭтой звездной хартии небес?Слышу, грудь восторг колеблет сладостный,Веет на душу безвестный страх,Будто зов знакомый ей и радостныйЕй звучит в таинственных словах…То не глас ли от глубокой вечности,Голос Божий? то не он ли нас,Пред лицом туманной бесконечности,Поражает в полунощный час?Дух наш жаждет в этот миг молчанияВ сонм святых архангелов взлететьИ в венце из звезд Отцу созданияС ними песнь хвалебную воспеть.1838ОраниенбаумПризыв
Уж утра свежее дыханьеВ окно прохладой веет мне.На озаренное созданьеСмотрю в волшебной тишине:На главах смоляного бора,Вдали лежащего венцом,Восток пурпуровым ковромЗажгла стыдливая Аврора;И с блеском алым на водахМежду рядами черных елейЗалив почиет в берегах,Как спит младенец в колыбели;А там, вкруг хо́лма, где шумитПо ветру мельница крылами,Ручей алмазными водамиВкруг яркой озими бежит…Как темен свод дерев ветвистых!Как зелен бархат луговой!Как сладок дух от сосн смолистыхИ от черемухи младой!О други! в поле! Силой дивнойМне утро грудь животворит…Чу! в роще голос заунывныйВесенней иволги гремит!1838ОраниенбаумКартина вечера
Люблю я берег сей пустынный,Когда с зарею лоно водЕго, ласкаясь, обойметДугой излучистой и длинной.Там в мелководье, по песку,Стада спустилися лениво;Там темные сады в рекуГлядятся зеленью стыдливой;Там ива на воды легла,На вервях мачта там уснула,И в глади водного стеклаИх отраженье потонуло.1838Санкт-ПетербургСон
Когда ложится тень прозрачными клубамиНа нивы желтые, покрытые скирдами.На синие леса, на влажный злак лугов;Когда над озером белеет столп паровИ в редком тростнике, медлительно качаясь,Сном чутким лебедь спит, на влаге отражаясь, —Иду я под родной соломенный свой кров,Раскинутый в тени акаций и дубов;И там в урочный час с улыбкой уст приветныхВ венце дрожащих звезд и маков темноцветныхС таинственных высот воздушною стезейБогиня мирная, являясь предо мной,Сияньем палевым главу мне обливаетИ очи тихою рукою закрывает,И, кудри подобрав, главой склонясь ко мне,Лобзает мне уста и очи в тишине.1839Зимнее утро
Морозит. Снег хрустит. Туманы над полями.Из хижин ранний дым разносится клубамиВ янтарном зареве пылающих небес.В раздумии глядит на обнаженный лес,На домы, крытые ковром младого снега,На зеркало реки, застынувшей у брега,Светила дневного кровавое ядро.Отливом пурпурным блестит снегов сребро;Иглистым инеем, как будто пухом белым,Унизана кора по ветвям помертвелым.Люблю я сквозь стекла блистательный узорКартиной новою увеселять свой взор;Люблю в тиши смотреть, как раннею пороюДеревня весело встречается с зимою:Там по льду гладкому и скользкому рекиСвистят и искрятся визгливые коньки;На лыжах зверолов спешит к лесам дремучим;Там в хижине рыбак пред пламенем трескучимСухого хвороста худую сеть чинит,И сладостно ему воспомнить прежний быт,Взирая на стекло окованной пучины, —Про зори утренни и клики лебедины,Про бури ярые и волн мятежный взрыв,И свой хранительный под ивами залив,И про счастливый лов в часы безмолвной ночи,Когда лишь месяца задумчивые очиПроглянут, озлатят пучины спящей гладьИ светят рыбаку свой невод подымать.1839, Санкт-ПетербургРаздумье
Блажен, кто под крылом своих домашних ларВедет спокойно век! Ему обильный дарПрольют все боги: луг его заблещет; нивыЦерера озлатит; акации, оливыВетвями дом его обнимут; над прудомПирамидальные, стоящие венцом,Густые тополи взойдут и засребрятся,И лозы каждый год под осень отягчатсяКистями сочными: их Вакх благословит…Не грозен для него светильник эвменид:Без страха будет ждать он ужасов эреба;А здесь рука его на жертвенники небаПовергнет не дрожа плоды, янтарный мед,Их роз гирляндами и миртом обовьет…Но я бы не желал сей жизни без волненья:Мне тягостно ее размерное теченье.Я втайне бы страдал и жаждал бы поройИ бури, и тревог, и воли дорогой,Чтоб дух мой крепнуть мог в борении мятежномИ, крылья распустив, орлом широкобежным,При общем ужасе, над льдами гор витать,На бездну упадать и в небе утопать.1841Прощание с деревней
О други! прежде чем покинем мирный кров,Где тихо протекли дни нашего бездельяВдали от шумного движенья городов,Их скуки злой, их ложного веселья,Последний кинем взгляд с прощальною слезойНа бывший наш эдем!.. Вот домик наш укромной:Пусть век благой пенат хранит его покойИ грустная сосна объемлет ветвью темной!Вот лес, где часто мы внимали шум листов,Когда сквозит меж них луч солнца раскаленной…Склонитесь надо мной с любовью вожделенной,О ветви мирные таинственных дубров!Шуми, мой светлый ключ, из урны подземельнойШуми, напомни мне игривою струейМечты, настроены под сладкий говор твой,Унывно-сладкие, как песни колыбельны!..А там – там, на конце аллеи лип и ив,Колодезь меж дерев, где часто, ночью звездной,Звенящий свой кувшин глубоко опустив,Дочь поля и лесов, склонясь над темной бездной,С улыбкой образ свой встречала на водахИ любовалась им, и тайно помышлялаО стройном юноше, – а небо обвивалоЗвездами лик ее на зыблемых струях.1841«Для чего, природа…»
Для чего, природа,Ты мне шепчешь тайны?Им в душе так тесно,И душе неловко,Тяжело ей с ними!Хочется иль словом,Иль покорной кистьюСнова в мир их кинуть,С той же чудной силой,С тем же чудным блеском,Ничего не скрывши,И отдать их миру,Как от мира принял!<1845>
К. Богаевский. Пустыня. Сказка. 1903
Весенний бред
М.П. З<аблоцкому-Десятовском>уЗдорово, милый друг! Я прямо из деревни!Был три дня на коне, две ночи спал в харчевне,Устал, измучился, но как я счастлив был,И как на счет костей я душу освежил!Уж в почках яблони; жужжат и вьются пчелы;Уж свежей травкою подернулась земля…Вчера Егорьев день – какой гурьбой веселойДеревня выгнала стада свои в поля!Священник с причетом, крестом и образамиМолебен отслужил пред пестрыми толпамиИ, окропив водой, благословил стада —Основу счастия и сельского труда.И к морю я забрел: что плещутся уклейки!В бору застиг меня весенний первый гром,И первым дождиком облитый, как из лейки,Продрогши, ввечеру согрелся я чайкомВ трактире с чухнами среди большой дороги.Но сколько испытал я в сердце новых чувств!Продумал сколько дум о мире и о Боге,Проверил наши все теории искусств,Все перебрал, о чем с тобой мы толковали,Искали истины – и беспощадно врали!Поверишь ли, мой друг, что на коне верхом,Или ворочаясь в ночи на сеновале,Меж тем как вкруг шумел весь постоялый дом,Проезжие коней впрягали, отпрягали,И подле же меня до утренних лучейЯ слышал чавканье коров и лошадей, —Я, друг мой, нашу всю науку пересоздал!Ученым и тебе – всем по заслугам воздал!Я думал: Боже мой! Ну вот, меж тем как яС душою, раннею весною обновленной,Так ясно вижу все, и разум просветленныйОтвагой дышит, полн сердечного огня, —Ты, в душной комнате, боясь сквозного ветру,О мире, может быть, систему сочинил…О, вандал! Ты весну не сердцем ощутил —Прочел в календаре, узнал по бароме́тру!Ведь так и с истиной в науке-то у вас!Вы томы пишете, начнете свой рассказС ассириян, мидян и кончите Россией, —И что ж? Толкуя нам, как думали другие,Сказали ли хоть раз, как думаете вы?Ну что бы подойти к предмету просто, прямо,Чем споры древних лет поддерживать упрямоС надменной важностью бессмысленной совы?О, эрудиция! О, школьные вериги!Да что за польза нам, что поняли вы книги!Нет, дайте истины живое слово нам,Как виделась она старинным мудрецамЕще блестящая восторгом вдохновеньяИ окропленная слезами умиленья!Она – дитя любви и жизни, – не труда!Ученость ведь еще не мудрость, господа!Системы, сшитые логически и строго, —Хитро созданный храм, в котором нет лишь – бога!Но, впрочем, вы враги восторга и мечты!Вы – положительны! Для вас в науках точностьРучательство за их достоинство и прочность,И, изучая жизнь, что вам до красоты!«Все бред, что пальцами ощупать невозможно!Нам греки не пример: они учились житьИ мир невидимый старались объяснить;Мы ценим только то, что твердо, непреложно», —И в цифрах выразить готовы вы весь мир!..Что я пойму, когда, описывая пир,Ты скажешь – столько-то бутылок осушили?Нет, было ль весело, скажи, и как вы пили?И в грязном кабаке бутылкам тот же счет,Что у дворецкого в Перикловом чертоге,Где пировал Сократ и поучал народО благе, красоте и о едином боге.И много стоит вам и муки и трудов,Найти у греков счет их сел и городовИли республик их определить доходы…О, близкие еще к младенчеству народы!Ведь о грамматике не думали они,А пели уж стихи великой Илиады,И эта песнь жива еще по наши дниИ служит нам еще, как ключ в степи, отрадой…Я каюсь, милый мой, брани меня, ругай,Иль действием весны на разум объясняй,Но мысли странные в уме моем рождались,Представил живо я наш непонятный век,Все, что мы видели, чем жили, вдохновлялисьИ, как игрушкою наскучив, в быстрый бегОт старого вперед все дале устремлялись;Припомнил лица я, и страсти, и слова,И вопль падения, и клики торжества,Что вырывалося внезапно, вдохновенно,Что было жизнию, казалось, всей вселенной,В чем каждому из нас была и роль, и честь, —И вдруг подумал я – пройдет столетий шесть,И кинется на нас ученых вереница!..Я думал – Боже! как их вытянутся лица,Когда в громаде книг, что наш оставит век,Ища с трудом у нас Сократов и Сенек,Найдут какие-то печальные заметки —Сухого дерева раскрошенные ветки!Увидят кипы книг, истлевшие в пыли,Где правила ремесл в науки возвели;Там сочинение, под коим гнется полка, —«О ценности вещей в правленье Святополка».Увидят, что у нас равно оцененыЗа остроту ума и реалист, и мистик;Там цифры мертвые безжизненных статистик,Романы самые статистикой полны…Найдут, как тщилися тугие корнесловыЯзык наш подвести под чуждые оковы;Откроют критиков и важных, и смешных;Грамматиков – и, ах! несходство между них!Историков идей, историков событий,Историков монет, историков открытий…Но, исчисляя тут познаний наших круг,Одну припомнил я науку, милый друг,И так захохотал среди ночного мрака,Что спавшая в сенях залаяла собака.Ведь мало нам наук и сложных, и простых!Нам мало даже книг, хоть перечесть их мука!Для нас нужна еще особая наука —История… чего?.. Да этих самых книг!..Но мой шутливый смех и грустию сменялся,И с горем пополам, ей-богу, я смеялся,Покуда крепкий сон меня не уломал.Когда ж проснулся я, восток зарей сиял,Летели облака с зардевшими краями,Как полчища, пройти пред царскими очамиГотовые на смотр; и несся пар седойНад сталью озера; земля ночным морозомБыла окреплена с подмерзнувшей травой,И тонкий лед звенел, дробяся под ногой.Пора уж двигаться ночевщикам-обозам!Взъерошенный мужик уж вылез на крыльцоРасправить холодком горячее лицоИ мрачно чешется… Там мальчуган пузатыйВпросонках поднялся и выскочил из хаты,И стал, как Купидон известный у ключа…Весь дом задвигался, зевая и ворча.Пора на рынок в путь ленивому чухонцу…Телеги тронулись… И мне коня! И в путь!Куда?.. Куда-нибудь! Да хоть навстречу солнцу!О, радостная мощь мою подъемлет грудь!Дыханье так свежо и вылетает паром!И мысль во мне кипит, светлея и горя,Как будто глянула и на нее заря,Пылающая там, по небесам, пожаром!Как будто кто-то мне таинственно шептал,Когда вчерашний бред я свой припоминал,И – «радуйся! вещал, что ты рожден поэтом!Пускай ученые трудятся над скелетом,Пусть строят, плотники, науки прочный храм!Мысль зданья им чужда, – но каждый пусть келейникНесет соломинку на общий муравейник!Ты ж избран говорить грядущим племенамЗа век, за родину! Тебе пред светом целымГлаголом праведным и вдохновенно смелымИх душу возвестить потомству суждено!Ученым – скорлупа! Тебе, певец, зерно!В тебе бьет светлый ключ науки вечно новой!В тебе живая мысль выковывает слово —Пусть ловят на лету грамматики его:Оно лишь колыбель созданья твоего!Пускай родной язык непризванные мучат,На чуждый образец его ломаться учат,Клеймят чужим клеймом и гнут в свое ярмо:Ты видишь, точно конь он дикий не даетсяИ в пене ярости и бесится, и бьется,И силится слизать кровавое клеймо.Но как он вдруг дохнет родных степей разгуломПод ловким всадником! Как мчится по полям!Ведь только пыль змеей виется по следам,И только полнится окрестность звонким гулом!»1853