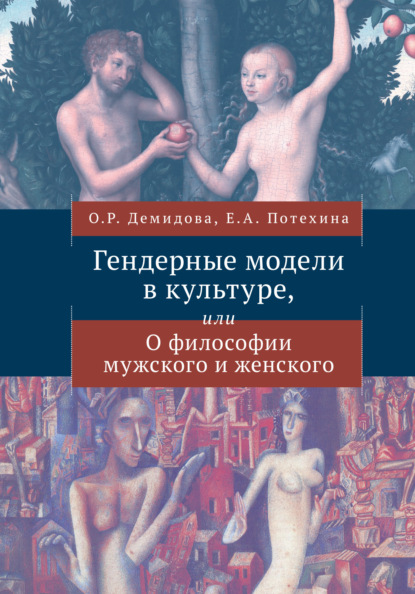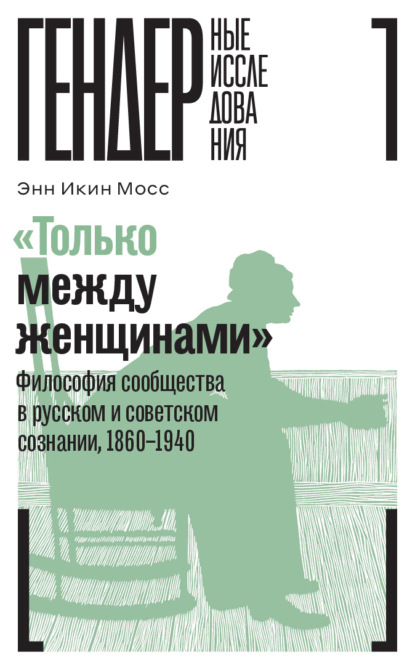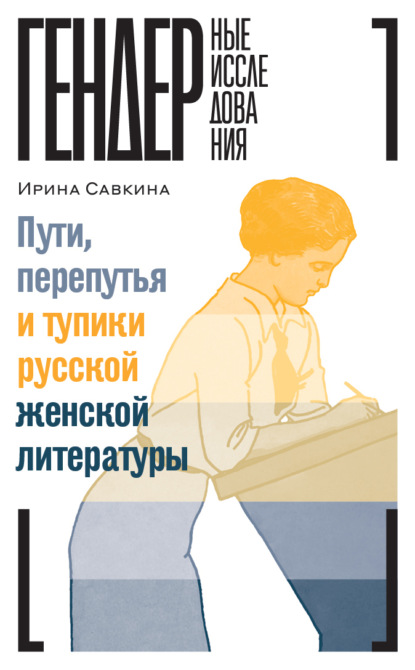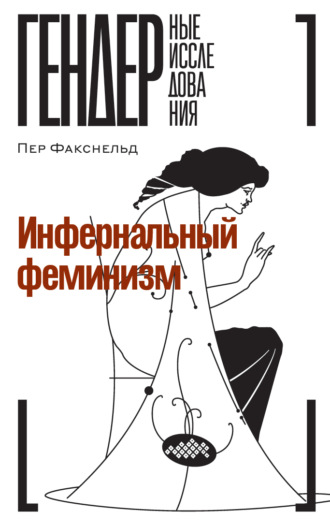
Полная версия
Инфернальный феминизм
Самоуверенная и предприимчивая Консуэло мучится столь же бунтарскими желаниями, что и ее автор: разрывается между любовью и жизнью ради искусства (она фантастически талантливая певица), хотя в своей идеализированной добродетельности она порой и смотрится пародией. Интересно, что эта независимая и влюбленная в искусство молодая женщина, испытывающая теплые чувства к Сатане, и сама не раз сравнивается с дьяволом. Когда она исполнила арию из оперы Галуппи «Дьяволица» (1755), ее учитель восхищенно восклицает: «Да ты сама воплощенный дьявол!»432 После того как Консуэло помогла ему пропеть фразу в музыкальном сочинении, над которым он бился, тот замечает: «Ты дьявол! Я всегда говорил, что ты дьявол!» На что она отвечает: «Добрый дьявол, поверьте мне, маэстро!»433 Когда же она отвергает ухаживанья безнравственного барона, он спрашивает самого себя: «Что это еще за чертовка?»434 Итак, «чертовкой» оказывается самоуверенная женщина, отказывающая мужчине, но и женщина, наделенная таким музыкальным талантом, что помогает своему учителю в сочинении музыки, тоже удостаивается дьявольского прозвания.
Во Франции прославление Сатаны как противника Бога по-настоящему стало заметным лишь после того, как Шарль Бодлер опубликовал свои «Цветы зла» (1857). Сатана присутствует в нескольких стихотворениях этого сборника, но из них наиболее сатанинской является «Литания Сатане», где дьявол изображается (отчасти иронично) спасителем – особенно же целителем и утешителем всех униженных и оскорбленных. Впрочем, приверженность самого поэта идеям социальной справедливости можно назвать в лучшем случае мимолетной и непостоянной. Во время революции 1848 года Бодлер был захвачен происходящим и даже ненадолго сам оказался на баррикадах, с револьвером в руке, но всерьез и подолгу он политической деятельностью никогда не занимался435. Если английские романтики изредка делали из Люцифера праведного бунтаря, то у Бодлера это всегда более сложный образ – между политизированным романтическим сатанизмом и его позднейшей декадентской разновидностью. Декаденты порой (часто полушутя) поклонялись Сатане как воплощению зла, покровителю жестокости и плотских грехов (на этой тенденции мы подробнее остановимся в главе 6), но уже не собирались возносить его на горние высоты и выставлять неким благородным космическим и политическим освободителем436. В поэзии Бодлера Сатана в некотором смысле предстает в двух этих обличьях.
Известного французского историка, республиканца и общественного агитатора Жюля Мишле (1798–1874) можно отнести к той же традиции, что и Жорж Санд: для него сатанизм служил символом бунта против угнетения. В его книге «Ведьма» (1862) излагается теория, согласно которой те, кого в Средние века обвиняли в колдовстве, действительно практиковали сатанизм, только он являлся своеобразным выражением праведной классовой ненависти со стороны обездоленной части феодального общества. Поскольку Бог и церковь были на стороне знати, отчаявшемуся средневековому крестьянству приходилось обращаться за помощью к великому противнику Бога – Сатане. В глазах Мишле последний – отнюдь не коварный искуситель, а воплощение науки, разума и природных стихий. Особенно в этой своей работе Мишле выступает в роли скорее романтика, нежели историка. Поэтому в «Ведьме» существенно больше ярких готических зарисовок и размышлений, приближающихся к стихотворениям в прозе, чем научных исторических материалов, опирающихся на архивные источники (подробнее об этом авторитетном тексте еще пойдет речь в главе 5).
«Ведьма» была написана на основе университетских лекций, прочитанных автором. Среди молодых студентов, учившихся у Мишле в конце 1830‐х – начале 1840‐х годов, был Пьер-Жозеф Прудон (1809–1865), который позднее стал одним из наиболее влиятельных теоретиков анархизма437. Поскольку Мишле как преподаватель изо всех сил старался вложить в умы учеников собственные идеи, вполне возможно, что, наслушавшись речей этого харизматического лектора, Прудон подхватил от него идеи сатанизма, и это сказалось позже, когда он сам взялся за написание анархических трактатов. Мишле и Прудон продолжали общение и в более поздние годы, уже в частном порядке, хотя учитель скептически относился к некоторым идеям бывшего ученика – например, к его ставшему афоризмом (и часто неверно понимаемому) высказыванию «собственность – это кража»438. Возможно, меньше возражений вызывали у него восклицания из книги «О справедливости в революции и в церкви» (1858) вроде следующих, которые Прудон адресует ненавистнику свободы:
Свобода, о которой иносказательно рассказано в сюжете об искушении, – ваш Антихрист; свобода в ваших глазах – Дьявол. Приди же, Сатана, приди, оклеветанный попами и королями, приди, и я обниму тебя, я прижму тебя к груди! Я ведь давно знаю тебя, и ты меня знаешь. Твои деяния, о свет моих очей, не всегда так уж хороши и красивы; но лишь они делают мир разумным и не дают ему стать бессмысленным… Надейся же еще, изгой! Я могу служить тебе лишь пером, но оно стоит миллионов бюллетеней…439
Другие мысли, высказанные Прудоном в той же главе, ясно дают понять, что он поет дифирамбы Сатане прежде всего для того, чтобы изобличить консервативные силы, считавшие свободу чем-то сатанинским. Однако Прудон уже не в первый раз восхвалял Сатану. В первом томе своей «Системы экономических противоречий» (1846) он писал о «духе анализа, этом неутомимом Сатане, который беспрестанно допрашивает и противоречит»440. А в «Общей идее революции в XIX веке» (1851) он восклицал: «Ко мне, Люцифер, Сатана, как бы ни звали тебя, о демон, которого вера моих отцов сделала противником Бога и Церкви! Я буду разносить слово твое, и я ни о чем тебя не прошу»441. И все равно нам не следует превратно толковать эти бурные выражения любви к Сатане, которыми изредка разражался Прудон. В целом его произведения носят скорее антиклерикальный, нежели антихристианский характер, и он никогда не прекращал превозносить добродетели раннего христианства442. Собственно, его идея о собственности как о краже и родилась из попыток исправить существующие переводы Библии. Пусть Прудон всегда был настроен критически по отношению к церкви, в его жизни случались периоды, когда он ударялся в католичество, жадно читал Библию и даже изучал древнееврейский язык, чтобы лучше понимать Священное Писание. По мнению Прудона, в Евангелии неравенство сурово осуждалось, а позже церковь отошла от исходных позиций христианства443.
Не исключено, что Прудон мог повлиять на увлечение Бодлера сатанизмом, так как поэт с воодушевлением относился к работам анархиста и даже несколько раз лично встречался с ним после 1848 года. Поэтому за такими стихотворениями, как «Литания Сатане», вполне мог скрываться политический подтекст444. Прудон встречался не только с непризнанными поэтами, но и с несколькими влиятельными социалистами. Среди них был русский революционер Михаил Бакунин (1814–1876), который до некоторой степени позволял себе вдохновляться идеями французского анархиста. Однако в итоге он отверг мирное и умозрительное учение Прудона и разработал собственный вариант анархизма – с уклоном в насилие. Некоторое время Бакунин оставался главным действующим лицом в международном революционном социалистическом движении, но, в отличие от своего главного соперника Маркса, так и не стал великим теоретиком. Прежде всего Бакунин прославился отважными поступками революционера-практика. С его точки зрения, бунтарство – врожденный инстинкт, присущий всем людям, а не что-то такое, к чему нужно приходить путем сложных рассуждений. Этот взгляд на тягу к восстанию как на основное человеческое побуждение был изложен в виде сатанистской концепции в самой знаменитой брошюре Бакунина – «Бог и государство», которая была написана в 1871 году как часть задуманной более обширной работы, а опубликована в 1882 году, через шесть лет после смерти автора. Поскольку это произведение написано по-французски, я рассматриваю его здесь, в разделе, посвященном французскому литературному и социалистическому сатанизму, хотя Бакунин был русским по рождению и значительную часть жизни оставался космополитическим деятелем.
«Бог и государство» – лобовая атака на христианство. Бакунин замечает, что «Библия – очень интересная и местами очень глубокая книга», но тут же добавляет, что описанный в ней Бог – «самый завистливый, самый тщеславный, самый свирепый, самый несправедливый, самый кровожадный, самый деспотичный и самый враждебный человеческому достоинству и свободе» из всех богов, каким когда-либо поклонялись люди445. По мнению Бакунина, Бог запретил Адаму и Еве вкушать плоды с древа познания, потому что хотел, чтобы человек «вечно оставался животным, вечно лазил на четвереньках перед Богом „живым“, своим творцом и господином»446. Согласно сатанистскому контрпрочтению, предлагаемому анархистом, на помощь человечеству поспешил Люцифер:
Но тут вступается Сатана, вечный мятежник, первый свободный мыслитель и эмансипатор миров. Он заставляет человека устыдиться своего животного невежества и своей покорности; он эмансипирует человека, побуждая его ослушаться и вкусить плода познания447.
По словам Бакунина,
Милосердный Бог, всеведение которого, составляющее одно из божественных свойств, должно было предупредить его о том, что совершилось, впал в страшную и смешную ярость; он проклял Сатану, человека и созданный им самим мир448.
Итак, развитие человечества начинается с акта неповиновения, который ведет к свободе мысли. Вдохновитель этого развития – Сатана, который в глазах Бакунина олицетворяет бунт и разум. Учитывая бескомпромиссный атеизм Бакунина, немного странно, что он решил использовать мифологического персонажа таким образом. В этом же тексте, дальше, он сам предостерегает читателя: «Мы будем всегда в опасности рано или поздно, тем или другим путем, снова впасть в бездну религиозного абсурда»449. По мнению Бакунина, вера в Бога – одно из самых опасных препятствий, стоящих на пути к человеческому освобождению, – по той простой причине, что «рабы Бога, люди должны также быть рабами церкви и государства, поскольку государство освящено церковью»450.
И все равно образ Сатаны оказывается слишком притягательным, трудно противиться соблазну не использовать его. Установить точные причины этого притяжения сложно. Возможно, христианская культурная традиция настолько глубоко въелась в сознание Бакунина, что (символический) Сатана просто виделся ему логической диаметральной противоположностью Бога и Церкви. А может быть, ему хотелось подразнить читателей, или, допустим, сатанистское контрпрочтение Библии казалось ему эффективным способом оспорить притязания Священного Писания на истину и подорвать его авторитет. В конце концов, образ Сатаны мог оказаться просто удобным риторическим приемом, помогавшим немного оживить изложение отвлеченных политических идей.
«Динамит, кинжал и царство террора»: сатанинские мотивы у социал-демократовНемного погодя красный дьявол поднял голову и на периферии Европы. В конце XIX века в Швеции среди социал-демократов Сатана – как героическая политическая фигура – вошел в большую моду. Это может послужить частным примером того, как в некоторых подрывных дискурсах образ Сатаны-освободителя занял видное место. Наверняка нечто подобное можно обнаружить и в других национальных контекстах, если только поискать в архивах местных рабочих движений разных стран (намеком на это служат два американских примера, которые будут разобраны ближе к концу настоящей главы)451. Распространение этого образа Люцифера в Швеции, возможно, объяснялось популярностью английского романтизма среди наиболее образованных местных социалистов. Мы не обнаружили прямых отсылок к Прудону или Бакунину в шведских политических прославлениях Сатаны, но это, конечно же, не исключает того, что в некоторых случаях их влияние тоже имело место. Если же говорить о местных течениях эзотерического и литературного сатанизма, то в ту пору в Швеции и вообще в Скандинавии их практически не было, так что отечественной почвы подобного типа у рассматриваемого мотива не было452.
По-видимому, на рубеже веков в Швеции уже прочно укоренилось представление о Люцифере как об особой ипостаси Сатаны, которая выступает прежде всего символом освобождения. Однако Люцифер, чей образ обрел такое значение, не был полностью отделен от дьявола453. Оба они остаются составляющими одного и того же персонажа. С подобными представлениями можно познакомиться на примере идей видной феминистки и социального реформатора Эллен Кей (1849–1926), в 1905 году писавшей о поверхностной любви у людей, которые, по ее убеждению, «любят только дьявола, мир и собственное тело – дьявола, нисколько не похожего на Люцифера, и даже на Мефисто: это всего лишь Вельзевул, жужжащий повелитель пустяков»454. Как мы видим, атеистка Кей рассуждает о Люцифере как о некоем положительном символе, подразумевая, что такое понятие о нем разделяют с нею многие, и вместе с тем рассматривает его как одну из ипостасей Сатаны. В соответствии с давней христианской традицией социалисты, как мы еще увидим, периодически употребляли имена Люцифера и Сатаны как взаимозаменяемые синонимы.
Чтобы понять, как же использовали образ Сатаны шведские социал-демократы, нужно вспомнить о том, что в XIX веке это было радикальное и представлявшее угрозу движение – совсем не похожее на тех благодушных социал-демократов, которые позднее почивали на лаврах, заняв после Второй мировой войны прочное и устойчивое место гегемона в политике. Почти невозможно представить себе, что хоть кому-нибудь из нынешних социал-демократов пришло бы в голову называть олицетворением своих идеалов дьявола, однако именно так поступали их воинственно настроенные предшественники. Об этом говорит уже выбор ими названия для журнала, который они начали выпускать в 1891 году: «Люцифер». Хотя в редакционной статье первого номера и оговаривалось, что имя «Люцифер» используется здесь лишь в исконном значении слова («светоносец»), нет оснований сомневаться в том, что, выбирая такое название, редакторы журнала хорошо сознавали мрачные ассоциации, связанные с этим именем в христианской традиции, и намеренно провоцировали церковь и консервативную буржуазию. А еще этому журналу предшествовали два любительских издания под тем же названием: каждого из них вышло всего по одному номеру – на Рождество 1893‐го и в апреле 1887‐го соответственно, – и обоим был присущ самый отъявленный сатанизм.
История социал-демократического движения в Швеции начинается приблизительно с 1881 года, когда Август Палм (1849–1922) опубликовал свою брошюру «Чего хотят социал-демократы?», но как о полноценной политической партии оно заявило о себе только в 1889‐м. В рыхлые 1880‐е к этому движению прибились социалисты самых разных толков. Однако еще до конца того десятилетия меньшинство революционно настроенных социалистов, которых часто называли (более или менее верно) анархистами, сделалось столь громогласным и неуправляемым, что умеренным реформаторам потребовалось решительно отмежеваться от таких экстремистов. Это и было сделано на учредительном съезде партии в Норрчёпинге в 1889 году, хотя в партийной программе все же оговаривалась возможность насильственных методов в классовой борьбе – в крайних обстоятельствах455. Хинке Бергегрен (1861–1936), главный представитель радикального крыла на этом съезде, по-видимому, выступал за совершение политических убийств с целью устрашения правящих сословий и, если верить одному газетному репортажу, называл полезными средствами «динамит, кинжал и царство террора»456. Приверженцев вот таких мер политической борьбы, главным образом, и привлекала фигура Люцифера.
В 1890‐е годы фаланга этих деятелей, продолжая прикрываться именем социал-демократов, создала множество молодежных клубов и других мелких политических организаций. В программе партии религия провозглашалась личным делом каждого человека, однако радикалы явно задались целью искоренить христианство или, в крайнем случае, начисто подорвать влияние консервативного духовенства457. После чисток 1889 года социал-демократы основного направления все больше сосредоточивались в своих политических сочинениях на натуралистичных описаниях тяжкого быта рабочих, и их все меньше интересовали кровавые образы грядущей революции или какие-то мифологические аллегории. Однако из этого общего правила было и много исключений, потому и в довольно поздние годы даже в произведениях деятелей основного русла попадаются упоминания Сатаны как бича капитализма. Еще практически повсюду легко обнаружить и выражения антиклерикальных или антихристианских настроений, а в вышедшем в 1902 году полном варианте шведского перевода песни Эжена Потье «Интернационал», которая пользовалась большой популярностью у шведских социалистов всех мастей, во втором куплете говорилось: «Не ждем спасителя мы свыше, / В богах, в князьях опоры нет»458. Конечно же, есть существенная разница между открытым признанием в безбожии и (символическим) прославлением Сатаны, но и последнее можно расценить просто как особенно радикальную стратегию критики христианства. В следующей главе мы взглянем на теософский журнал под названием «Люцифер» (издававшийся с 1887 по 1897 год) и поговорим об использовании этого персонажа вообще у Блаватской и других теософов. Впрочем, теософские публикации вряд ли успели оказать какое-либо влияние на шведских социалистов – ведь они уже в 1886 году выпускали собственный журнал под таким же названием. Более вероятным источником вдохновения могла послужить индивидуалистско-анархистская еженедельная газета Lucifer the Light-bearer («Люцифер-Светоносец»), выходившая в Канзасе (а позднее в Чикаго) с 1883 года (об этой газете еще пойдет речь в конце настоящей главы). Шведские социалисты поддерживали связь со своими единомышленниками в США и вполне могли знать о существовании этого издания.
А теперь давайте рассмотрим некоторые явные образцы шведского социалистического сатанизма. В двух ранних выпусках «Люцифера», вышедших в Швеции, тема Сатаны-освободителя нашла выражение в ряде стихотворений и полемических текстов Аттердага Вермелина (1861–1904), подражавшего лорду Байрону сына священника Церкви Швеции. В отличие от большинства поэтов, принадлежавших к рабочему движению, Вермелин получил хорошее образование и учился в Уппсальском университете. Он сыграл, пожалуй, главную роль в ранней истории шведского социалистического движения, и именно он познакомил Швецию с экономическими теориями марксизма. Со временем он оказался вытеснен на обочину, бедствовал и иногда даже бродяжничал. В 1887 году Вермелин эмигрировал в США, но, убедившись в том, что жизнь там такая же трудная, как на родине, покончил с собой459.
В первом выпуске «Люцифера» (1886) Вермелин обнародовал «Десять заповедей Люцифера». Десятая заповедь гласила: «Не желай жены ближнего твоего, если только она не желает тебя одного, но вола его и осла его, что у ближнего твоего, отбери у него и сделай собственностью братьев твоих»460. Как мы видим, социалистически-сатанинские заповеди Вермелина в основном являются перевертышами христианских заповедей. Например, первая из них в его формулировке гласит: «Да не будет у тебя других богов, кроме меня, Светоносца»461. Подобного рода пародии на изречения из Библии или их искажения были широко распространены в антиклерикальных или атеистических сочинениях той поры. Типичный несатанинский шведский пример можно найти у Эллен Кей в «Спасательных тросах II» (Lifslinjer II, 1905), где она провоцирует читателя, предлагая ему перевернутые вверх дном Заповеди блаженства, например, утверждая: «Блаженны дерущиеся, ибо через них кроткие смогут наконец жить на земле»462.
Во втором выпуске «Люцифера» Вермелин опубликовал пропитанное явным байронизмом стихотворение, где описывалось, как Светоносец лежит прикованный к скале, терзаемый ястребом, но, несмотря на эти муки, восклицает: «В обличье Сатаны, в обличье Прометея / Я прежним остаюсь – неукротимым!»463 Подобный сатанизм появляется и в позднейших, более изощренных публикациях «Люцифера». Выпуск 1891 года открывается стихотворением «Люцифер» за подписью «Спартак» (Карл Натанаэль Карлесон, 1865–1929), из которого явствует, что призываемое существо – не просто «светоносец» в некоем отвлеченном смысле, а самый что ни на есть Сатана:
Есть существо, что бродит по землеИ сеет только беды и несчастья,А раньше, говорят, парил он в небе,И Божьим ангелам был ровня 464.Этот-то смутьян, заявляет Спартак, – герой в глазах социалистов: «Несет рабам он свет, а палачам – погибель»465. Когда Аксель Улен в своем обширном исследовании поэзии шведских социалистов пишет о «революционной романтике», он имеет в виду прежде всего романтизацию Французской революции (из‐за которой многие шведские социалисты брали себе в качестве литературных псевдонимов имена ее деятелей)466. Этот термин вполне подошел бы и для той особой разновидности революционного социализма, которую проповедовали люди, симпатизировавшие дьяволу: это было направление политической поэтики, испытавшее сильное влияние романтизма, особенно английского, но в некоторых случаях и немецких текстов вроде уже упоминавшегося выше «Прометея» Гёте и «Разбойников» Шиллера.
Множество примеров социалистического сатанизма подобного рода можно найти в различных публикациях шведских социалистов вплоть до 1907 года467. Когда же социал-демократы серьезно решили занять место в парламенте и по этой причине очистили свои ряды от деятелей чересчур крайних взглядов, Сатана быстро отправился на свалку отбракованных риторических приемов. Собственно, та же участь постигла этого персонажа и в большинстве других ветвей шведского социалистического движения. Его первые представители любили прибегать к аллегориям и нагонять мистический туман, и потому у них на сцену часто выходили мифологические герои, божества и отвлеченные символы. Как уже отмечалось, со временем такой подход уступил место более натуралистичному и социально-реалистическому, хотя гегемония последнего все равно нарушалась множеством исключений.
Пламенные прославления Сатаны в духе прогресса особенно часто встречаются в нескольких номерах журнала Brand («Огонь»), выпускавшегося молодежной организацией социалистов. В седьмом выпуске за 1907 год опубликован подписанный буквой n «Гимн Сатане» – произведение, обнаруживающее явное сходство с одноименным итальянским стихотворением (написанным в 1863 году и опубликованным в 1865‐м) нобелевского лауреата Джозуэ Кардуччи. Сходство настолько явное, что речь идет, скорее, о вольном переложении (или, если выражаться грубее, о чистом плагиате) стихотворения Кардуччи, переведенного на шведский Алиной Пиппинг в 1894 году468. В очередной раз обращаясь к третьей главе Книги Бытия, подобно, например, Бакунину, n кощунственно восклицает:
Привет тебе, о Сатана,Кто убедилпервую женщинусорватьплод познанья!Что было до того,как свет познанья в мир вошел? 469Далее n пишет:
Но Ты, ВеликийСвятой Сатана,Человеколюбец,Богоненавистник,умнее был,чем старый Бог,который дал намзаповеди, полные благодарностей 470.Мотив Сатаны как бога разума и просвещения, противостоящего Богу-поработителю, имплицитно присутствует и в саркастическом стихотворении Эрика Линдорма «Рай» из его сборника социалистических стихов «Пузыри со дна», заканчивающемся такими словами: «Нам следовало быть послушными, моя госпожа, / Тогда бы мы в Раю, / Как прежде, блаженные и глупые, гуляли»471. Еще одно просатанинское контрпрочтение третьей главы Книги Бытия обнаруживается в 9‐м выпуске журнала Brand (1905). В нем приводится фрагмент из сочинения профессора литературы Уппсальского университета Хенрика Шюка, где говорится о том, что змей не соврал, когда объявил Еве, что, вопреки угрозам Бога, она не умрет, съев запретный плод. Таким образом, Бог оказывается лжецом, а змей – правдивым помощником. По словам Шюка, Всевышний не хотел, чтобы люди сравнялись с ним, и поэтому пугал их якобы смертельными плодами472.
В глазах современников стихи вроде процитированных выше, которых на самом деле гораздо больше, не выглядели такими уж забавными, какими кажутся сейчас. В Швеции всерьез боялись анархистов, поскольку в те годы было совершено несколько кровавых террористических актов. Например, в июле 1908‐го в гавани Мальмё взорвалась бомба, привязанная к корпусу корабля, где находились английские штрейкбрехеры, в результате чего один человек погиб и многие пострадали. В 1909 году анархист (в кармане которого потом обнаружили номер журнала «Огонь»!) застрелил в стокгольмском парке командующего шведской береговой артиллерией, причем его настоящей мишенью был царь Николай II, находившийся с визитом в Швеции473. Анархисты хотели, чтобы их боялись, и сатанизм, естественно, представлялся им полезным дополнительным средством достижения этой цели.
«Сатана на стороне свободы»: восставшие ангелы, анархо-феминизм и Генри М. ТиченорМожно сказать, что последнее слово о европейском сатанинском социализме было произнесено в марте 1914 года, за несколько месяцев до начала Первой мировой войны, когда Анатоль Франс опубликовал свой сатирический роман «Восстание ангелов». Издание имело огромный успех – 60-тысячный тираж разлетелся всего за шесть недель – и оказался последним большим произведением писателя474. Действие разворачивается во Франции в «прекрасную эпоху», где ангел по имени Аркадий замышляет новый бунт против Бога и набирает в свое воинство других недовольных ангелов, набравшихся на земле идей от анархистов и радикалов. Заметим здесь, что сам автор называл себя социалистом, но придерживался несколько необычных взглядов, которые не завоевали ему большой симпатии среди левых в его родной стране. Зато репутация Франса в литературных кругах была превосходной. С 1896 года он состоял во Французской академии, а в 1921‐м получил Нобелевскую премию475.