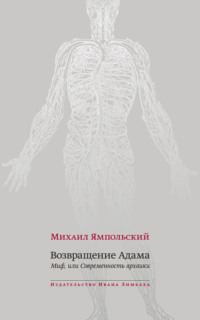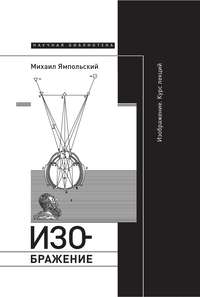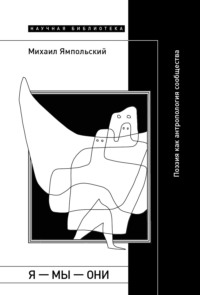Полная версия
Формы реальности. Очерки теоретической антропологии
Третий модус – l’ existence sollicitudinaire, в приблизительном переводе – существование озабоченности. Эта «реальность» населена призраками, фантомами, персонажами художественных произведений – всевозможными химерами нашего воображения. Вещь зависит от нашего сознания в той мере, в какой она возникает как результат непротиворечивой связности. Но это странное, безличное сознание. В вещном существовании не задействована субъективность. Это сознание как бы вне субъекта. Зато существование озабоченности связано с субъективной точкой зрения, которую Сурио обозначает термином Августа Шмарсова Ichpunkt. При этом не следует считать эти призраки чистыми конструктами мысли, несмотря на то что их реальность и укоренена в «позитивность» психологии. И хотя они не соотносятся с вещами и телами, они заимствуют в мире феноменов феноменальные черты. Воображаемая собака, как говорит Сурио, «участвует в онтическом собаки». Эти воображаемые реалии могут иметь различную степень интенсивности, определяемую тем эмоциональным качеством, той озабоченностью, которая их порождает. Их подобие феноменам ограничено тем, что они не детерминированы ситуацией и никак не связаны с материальной актуальностью. Этот отрыв и есть основополагающая черта их особого модуса существования.
Затем следуют реалии, чье существование виртуально. Эти вещи существуют, хотя их нет. Сурио приводит в пример обрушившуюся архитектурную арку, которая легко материализуется из своего небытия, может быть нарисована и/или восстановлена на основании той руины, которая осталась после катастрофы. Философ пишет об этом модусе, что он «особенно богат множественностью присутствий, которые отсутствуют»17. Этот модус существования особенно экономичен. По когтю он позволяет восстановить целую фигуру льва. Этот модус всегда требует основания в вещи.
И последний описываемый модус – синаптический. Этот странный переходный модус позволяет переходить от одного космоса существования к другому. Так, когда скульптор лепит из глины, он переходит от модуса неоформленной глины к модусу фигуры, к которому подключен модус воображаемых реалий, и т. д. Каждый модус отделен от другого разной аксиоматикой и составляет свой автономный космос, но эти типы существования могут входить в сложные мультимодусные конфигурации. Примером такого модуса он называет Бога, который, хотя и принадлежит трансценденции и не имеет материального самообнаружения, постоянно манифестируется в мире и может проникать во все модусы существования.
Я достаточно подробно остановился на философии Сурио не потому, что моя книга пронизана его парадигмами и соотносится с его мирами. Я пытаюсь описать разные формы, которые социальная, психологическая и материальная сферы принимают в работах мыслителей, постоянно сосредоточенных на описании общих конфигураций разных человеческих миров. И Сурио дает хороший подход к пониманию статуса этих миров. Я не рискую соотнести их ни с одним модусом существования по Сурио. Для меня в его размышлениях важно не столько описание этих модусов, сколько представление о реальности как результате конституирования некими формами, чей статус крайне трудно определить. И хотя их описывают антропологи, социологи или психологи, они ни в коей мере не являются их субъективными конструктами и даже не генерируются их методологиями.
Леонард Лоулор заметил прямую связь установления модусов существования у Сурио с описанным Делёзом и Гваттари процессом конструирования философии18. В книге «Что такое философия?» Делёз и Гваттари (скупо ссылающиеся на Сурио в одной из сносок) начинают с концепта как главного компонента философского поля. Концепт неоднороден, он состоит из нескольких компонентов, которые составляют его модус существования: «Всякий концепт является как минимум двойственным, тройственным и т. д. <…> Он представляет собой целое, так как тотализирует свои составляющие, однако это фрагментарное целое»19. Эта разнородность важна, так как она позволяет концепту выделяться из некоего однородного поля, вносить в него турбулентность, которая ведет к обновлению. Философы объясняют изобретение концепта на примере понятия Другого. Для меня это особенно важно, так как именно становлению этого концепта посвящена первая часть моей книги. Авторы задают вопрос: «Например, обязательно ли Другой вторичен по отношению к „я“?»20 Другой не может быть неким автономным целым, но всегда в качестве концепта должен содержать в себе собственную полярность, которая не дает ему замкнуться в инертной беспроблемности. Он не может быть лишен второй составляющей, иначе Другой «оказывается всего лишь другим субъектом, который предстает мне; если же отождествить его с другим субъектом, то тогда я сам есть Другой, который предстоит ему»21. В первой части книги я описываю, каким образом идентичное самоотражение в Другом постепенно уступает место Чужому, с которым эта зеркальная идентичность оказывается невозможной. Я описываю эту подмену в категориях дистанцирования от Другого. Но это дистанцирование и есть, в контексте рассуждений Делёза – Гваттари, разрушение однородного поля опыта концептом, внутреннее противоречие которого (между Я и не‐Я) не может быть снято и преодолено.
Зеркальное сходство двух субъектов делает концепт Другого «беспроблемным» и лишает его статуса концепта. Это вечная судьба всякого рода удвоений, которые не в состоянии предложить никакого решения проблем. Я возвращаюсь к этому в конце книги, там, где речь идет о воображаемом Лакана и удвоении себя в imago. Делёз и Гваттари так мотивируют необходимость противоречивой двойственности и проблемности концепта:
Грубо говоря, мы рассматриваем некоторое поле опыта, взятое как реальный мир, не по отношению к некоторому Я, а по отношению к простому «наличествованию». В некоторый момент наличествует тихо и спокойно пребывающий мир. И вдруг возникает испуганное лицо, которое смотрит куда-то наружу, за пределы этого поля. Здесь Другой предстает не как субъект или объект, а совсем иначе – как возможный мир, как возможность некоего пугающего мира. Этот возможный мир не реален или еще не реален, однако же он существует – это то выражаемое, что существует лишь в своем выражении, в чьем-то лице или эквиваленте лица. Другой – это и есть прежде всего такое существование возможного мира22.
«Поле» (о понятии поля в книге подробнее говорится в связи с использованием этого термина Бурдье) тут похоже на установленный модус существования у Сурио. Противоречивость концепта взрывает однородную самодостаточность этого «поля» и являет лицо Другого, которое отсылает к еще не существующему, но возможному миру. Концепт тут открывает перспективу коммуникации между разными реальностями, он берет на себя функции синаптических реалий Сурио. Но он же способен содействовать установлению новой формы существования. Другой – это обещание возможного мира. И это хорошо видно в контексте антропологии, где Чужой позволяет надеяться на открытие радикально иной культуры (то есть иного «поля»). Концепты возникают в однородном поле, размечая его на зоны, которые начинают обнаруживать признаки разнородности:
…каждый концепт осуществляет новое членение, принимает новые очертания, должен быть заново активирован или заново выкроен. <…> Действительно, любой концепт с конечным числом составляющих разветвляется на другие концепты, иначе составленные, но образующие разные зоны одного и того же плана, отвечающие на взаимно совместимые проблемы, участвующие в сотворчестве23.
Это зонирование «поля» создает напряжение и динамику. Концепт – это именно тот модус существования, который динамизирует поле. Делёз и Гваттари любили в связи с этим говорить о территориализации и детерриториализации и разметке поверхностей значением.
То, что Делёз и Гваттари обозначили как относительно однородное «поле опыта», получило у них и специальную разработку, которая для меня особенно важна, так как именно в области таких полей прежде всего и реализуют себя формы реальности. Они писали:
Философские концепты – это фрагментарные единства, не пригнанные друг к другу, так как их края не сходятся. Они скорее возникают из бросаемых костей, чем складываются в мозаику. Тем не менее они перекликаются, и творящая их философия всегда представляет собой могучее Единство – нефрагментированное, хотя и открытое; это беспредельная Всецелость [Un-Tout illimité], Omnitudo, вбирающая их все в одном и том же плане. Это как бы стол, поднос, чаша. Это и есть план консистенции или, точнее, план имманенции концептов, планомен [le planomène]24.
Концепты разрушают «всецелость» этого «планомена», но без него они бы не могли сложиться в систему, так и оставшись «фрагментарными единствами». Концепт и план имманенции взаимозависимы.
Почему Делёз и Гваттари называют это поле планом имманенции? Что собой представляет этот план? Речь идет о некоем сознании, которое носит дорефлективный характер, то есть сознании, которое парадоксально лежит вне субъекта. Делёз, используя терминологию Канта, называет его трансцендентальным полем, то есть неким полем, предшествующим сознанию и делающим последнее возможным:
Оно [трансцендентальное поле] может быть отличным от опыта в том, что оно не отсылает к объекту и не принадлежит субъекту (эмпирической репрезентации). Таким образом, оно являет себя как чистый не-субъективный поток сознания, качественная длительность сознания, лишенного себя. Может показаться странным, что трансцендентальное определяется таким непосредственно данным: по контрасту со всем тем, что составляет мир субъекта и объекта, мы будем говорить о трансцендентальном эмпиризме25.
Это то поле, внутри которого и происходит различение, позволяющее ощущать, воспринимать и мыслить. Само наличие этого дорефлексивного сознания становится различимым только тогда, когда в нем образуется различение субъекта и объекта.
Говоря об институции философии, Делёз и Гваттари описывают ее как необходимую комбинацию концептов, которые изобретаются, придумываются, и плана имманенции, который устанавливается (création de concept et instauration du plan). Философы тут заимствуют любимый термин Сурио:
Философия – это одновременно творчество концепта и установление плана. Концепт есть начало философии, план же – ее учреждение. Разумеется, план состоит не в какой-либо программе, чертеже, цели или средстве; это план имманенции, образующий абсолютную почву философии, ее Землю или же детерриториализацию, ее фундамент, на которых она творит свои концепты. Требуется и то и другое – создать концепты и учредить план, так же как птице нужны два крыла, а рыбе два плавника26.
Поскольку план имманенции предшествует становлению субъекта, он не может быть изобретен, он может быть только дан без всякого участия Я, то есть без всякой точки зрения.
Но если он не может быть придуман, он не может и иметь начала, он всегда предшествует. Сурио подчеркивал, что установление (instauration) происходит от латинского restoration – обновление, восстановление. План имманенции невозможен «первый раз», он всегда требует предшествования. Он возникает как повторение того, что мы не можем помыслить. Латур и Стенгерс говорят об установлении как «движении анафорического опыта»27. Делёз и Гваттари так формулируют саму суть связанной с этим опытом проблемы:
Можно сказать, что «настоящий» План имманенции – это нечто такое, что должно быть мыслимо и не может быть мыслимо. Очевидно, это и есть немыслимое в мысли. Это основа всех планов, имманентная каждому мыслимому плану, которому не дано самому ее помыслить. Это самое сокровенное в мысли, и в то же время абсолютно внешнее. Будучи внешним, он отдаленнее любого внешнего мира, потому что он еще и внутреннее, которое глубже любого внутреннего мира; такова имманентность, «сокровенность как Внешнее, внешнее, ставшее удушающим вторжением внутрь, и взаимопревращение одного и другого»28.
Сама идея трансцендентально-имманентного отсылает к этой немыслимости одновременно внешнего и внутреннего. Но она же отражает и двойственность реальности, о которой идет речь, – сотворенной и одновременно предшествующей творению, придуманной и наличной без участия творца.
План имманенции может быть сравнен с фоном, необходимым для образования из него фигуры. Но при этом этот план может парадоксально пониматься и как форма, потому что он задает горизонт определенного модуса существования, внутри которого возможны зонирование, сближение и разделение фрагментов, хотя и разнородных, но сопоставимых именно как элементы единой формы. Это формальное единство и задается самим процессом установления, который делает поле «консистентным».
В книге, которую держит в руках читатель, обсуждаются такие планы консистентности и установление форм, позволяющих сопрягать человека и Другого или Чужого, человека и окружающую среду и описывать морфологию «внутреннего мира» как результат проекции мира внешнего. Герои этой книги пытаются очертить эти формы, которые в моем представлении не имеют исключительно философского характера (как у Делёза и Гваттари), но относятся к сфере антропологии, то есть самосознания человека и сообщества. Конечно, антропология не может быть отделена от философии. Но ее отличие от философского подхода связано с постоянным интересом к эмпирическому, которое уже у Канта призвано дополнять в антропологии трансцендентальное.
Рассмотрение форм реальности, лежащих в основе антропологии (но часто и социологии, и психологии), обнаруживает неожиданную их способность переходить из внешнего во внутреннее. Показательно, например, до какой степени психоанализ Лакана, обращенный к внутреннему устройству психики, заимствует элементы формы реальности из антропологии Леви-Стросса или структурной лингвистики. Происходят постоянное синаптическое (по Сурио) движение из одного модуса существования в другой и постоянные метаморфозы внешнего во внутреннее, и наоборот, совершенно в соответствии с описанием плана имманенции, данным в «Что такое философия?» Форма внешнего мира погружается внутрь, поверхность, покрытая знаками – сфера письма, – вдруг обнаруживает себя «внутри», но поверхность эта всегда готова провалиться в бездонную глубину.
***Противоречивая связь внутреннего и внешнего издавна связана с образом зеркала – speculum. Зеркало, с одной стороны, всегда понималось как прибор, позволяющий увидеть себя, а с другой – как метафора мира и Бога, которого, по выражению апостола Павла из Первого послания к Коринфянам, «теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (13: 12). Николай Кузанский подробно развил эту метафору. Сияние, в котором является Бог, он называет «прямейшим, бесконечным, совершеннейшим зеркалом истины», а все творения – «разнообразно искривленными зеркалами»29. Среди разнообразных «природ» – искривляющих зеркал – наиболее близки к первоначальной ясности божественной геометрии «интеллектуальные природы». Однако, как пишет Кузанец, несмотря на расхождение между искажающими зеркалами, искривленными природой нашей субъективности, и зеркалом истины, может возникнуть схождение и адекватность взаимного отражения:
Если теперь какое-то разумное живое зеркало перенесется к первому зеркалу истины, в котором все без ущерба светится истинно как есть, то зеркало истины вместе со всеми принятыми им в себя зеркалами перельется в разумное живое зеркало и такое разумное зеркало примет в себя зеркальный луч зеркала истины, несущего в себе истину всех зеркал, – конечно, примет в своей мере, но в тот момент вечности это живое зеркало, как бы живой глаз, вместе с принятием лучей сияния от первого зеркала в нем же, зеркале истины, увидит само себя, как оно есть, и в себе – опять-таки по-своему – увидит все другие зеркала30.
Этот момент как раз и есть момент совпадения трансцендентального (и трансцендентного) и имманентного, внешнего и внутреннего, снимающий различие между «вовне» и «внутри».
Наука оптика, восходящая еще к античности, изучала распространение световых лучей, их преломление в разных средах и, в частности, отражение в зеркалах. В средневековой Европе, однако, оптика стала приспосабливаться к теологической проблеме прямого и неискаженного видения божественной истины. Так, например, доминиканский теолог из Флоренции Антонино Пьероцци (1389–1459) в своей «Сумме теологии» рассуждал о возможности достижения правильного геометрического «истинного» (с точки зрения средневекового платонизма) зрения при переносе геометрии оптики в живопись. По мнению Сэмюэля Эджертона, такого рода теологические спекуляции лежат в основе изобретения во Флоренции линейной перспективы, которая была открыта Филиппо Брунеллески с помощью изображения, соединенного с зеркалом. Тот же Эджертон утверждает, что переход от зеркальной перспективы (perspectiva naturalis, или communis) к живописной перспективе, известной как perspectiva artificialis, был переходом от теологического понимания адекватности зрения истине к живописному реализму31. Этот переход, который он относит примерно к 1480 году, был кодифицирован Альберти, как известно, заменившим метафору зеркала на метафору окна. Эйлин Ривс показала, что даже изобретение телескопа Галилеем прошло через метафору зеркала, восходившую к истории «звездного зерцала» (speculum constellatum), придуманную исповедником Генриха IV Пьером Котоном32. Речь и тут, вероятно, шла о переходе от теологической метафоры к оптике в современном ее понимании. Джеймс Елкинс идет еще дальше и утверждает, что Вазари и даже Дюрер понимали альбертиевскую «фигуру окна» в контексте средневековой традиции оптических приборов perspectiva naturalis, а не геометрии перспективных конструкций на холсте33.
Между зеркалом и «оптическим прибором» вроде окна, однако, есть существенная разница. Окно не отражает смотрящего, оно открывается вовне и предполагает продолжение внешнего пространства в той комнате, в которой находится наблюдатель или художник. При этом внешнее и внутреннее тут разнородны. Как замечает Ханс Белтинг, в голландской живописи эпохи Возрождения «в окне известное нам пространство эмпирического мира отделяется от неизвестного пространства, в которое мы можем заглянуть, но которое мы не в состоянии постигнуть. Это другое пространство позволяло символизировать другой мир»34. Действительно, окно (в отличие от двери) отделено от внешнего мира непроходимой стеной, что позволяет символизировать внешнее как онтологически другое. Неслучайно на классических обманках речь идет о создании иллюзии выбухания детали из границы, отделяющей внешний мир (окно, рама), в пространство, где находится зритель. Тем самым подчеркивается однородность, но и онтологическая разнородность внешнего и внутреннего одновременно. Кроме того, живопись, понимаемая как окно, всегда репрезентирует невидимое, в данный момент отсутствующее. Эта живопись поэтому может быть отнесена к категории знаков. Зеркало же повторяет то, что перед ним, и не имеет продолжения в чужеродном для него пространстве. Живописная иллюзия позволяет создать эффект продолжения внешнего во внутреннем, проекции извне внутрь. В зеркале мы отражаем (глаз как зеркало) и отражаемся вместе с миром, проецируем себя вовне и вбираем внешнее в себя.
В одной из своих рабочих тетрадей Эдгар Дега оставил важную запись:
Изучать фигуру или какой-нибудь предмет со всех точек зрения. Для этого можно воспользоваться зеркалом; тогда сам не будешь менять место, а будешь опускать, наклонять или передвигать зеркало. <…> Построить в зале ступени амфитеатром, чтобы приучиться изображать предметы и сверху и снизу; писать только отражение предметов в зеркале, чтобы возненавидеть иллюзорность35.
Слово «иллюзорность» не очень точно передает смысл сказанного художником. В оригинале употреблено trompe l’ œil, то есть именно «обманка», создающая эффект разрыва с репрезентацией и одновременно продолжения репрезентированного пространства в том пространстве, где размещается художник или зритель.
Эти записи интересны желанием художника вернуться к модели зеркала и отказаться от модели окна. Прежде всего, в зеркале исчезает точка зрения. Оно движется, опускается и поднимается. Художник стремится утратить точку зрения, которая позволяет создать внутри репрезентации иллюзию реальности, обещанную perspectiva artificialis. Дега хочет вернуться к размытой адекватности зеркального зрения истине, которая проявляется в некоем интеллектуальном синтезе, создающем возможность постепенного прояснения. Неслучайно он записывает: «…научиться запоминать формы и выражение и никогда не рисовать и не писать непосредственно с натуры»36. Фигура должна стать результатом интеллектуального синтеза, в котором сквозь множественность аспектов проступает ее истинность. Нечто сходное говорил и Николай Кузанский: «Чем оно [внутреннее зеркало] само будет проще, свободнее, яснее, чище, прямее, правильнее и истиннее, тем чище, радостнее и истиннее оно будет созерцать в себе божественную славу и всю Вселенную»37. Происходит расширение горизонта, в котором художник распластывается на необъятности видимого. Именно в таком распластывании точка зрения, идентифицируемая с Я, исчезает в проекции на внешнее. Тут в каком-то смысле восстанавливается неотличимость внутреннего от внешнего, о которой говорил Кузанец.
Отражение в зеркале не может пониматься как знак, отсылающий к чему-то отсутствующему, знак, заменяющий невидимый референт. Как заметил Умберто Эко, отражение не может пониматься и как картинка, так как не имеет никакой материальности: «…оно не заменяет чего-то, наоборот, оно располагается перед чем-то, оно существует не вместо, но благодаря присутствию чего-то; когда это что-то исчезает, псевдоизображение в зеркале исчезает тоже»38. Зеркало есть продолжение наличной материальности в нематериальном мире без того разрыва, который предполагает окно.
Хорошей аллегорией такого странного раскачивающегося зеркала, превращающего видимое в живопись, можно найти в картине Каспара Давида Фридриха, известной в российской литературе как «Большое болото под Дрезденом» (Das Große Gehege bei Dresden, 1832). Я бы назвал его иначе (и, на мой взгляд, точнее) – «Большой предел».
В высказываниях самого Фридриха часто повторяется тот же, что и у Дега, мотив неприязни к живописному иллюзионизму:
Как ни старайся человек передать действительность как можно натуральнее (чего при больших усилиях и исключительном прилежании можно и достичь), все равно результат никогда не оправдает надежд, более того, конечное впечатление будет не только не радостное, а, скорее, отталкивающее. Всякий обман производит такое же мерзкое впечатление, как и мошенничество39.

Каспар Давид Фридрих. Большое болото под Дрезденом. 1832. Государственные художественные собрания Дрездена / Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Вместо обманок и иллюзий художник должен искать истину, которая дается ему только при подавлении раздутой субъективности, когда он превращает себя в чистое и незамутненное зеркало:
Непосредственное впечатление никогда не противоречит природе, оно всегда находится с ней в соответствии. <…> Но подобно тому, как только чистое, ничем не запятнанное зеркало может отразить невинно-чистый образ, так подлинное произведение искусства может зародиться в одной только чистой душе40.
И хотя Фридрих как будто стоит на антиинтеллектуальных позициях, в сущности он близок Дега, так как и у него чистота и ясность впечатления всегда укоренена в память и синтез.
Открытость истине предполагает размывание точки зрения и предельное расширение горизонта. В картине Фридриха отмели Эльбы представлены как зеркальное отражение облаков. Облака в небе над Эльбой как бы слегка выгнуты дугой, а отмели Эльбы также прорисовывают явный сферообразный изгиб. Картина напоминает два полусферических зеркала, обращенных друг к другу подобно двум глазам, отражающим мир и друг друга. Но это взаимное отражение вовсе не отсылает к зрению41.
Вспоминается «Слепой» Ходасевича:
А на бельмах у слепогоЦелый мир отображен:Дом, лужок, забор, корова,Клочья неба голубого —Всё, чего не видит он.Ричард Вольхайм, отмечая, что точка зрения картины оторвана от земли и помещена в неопределенном пространстве, пишет, что Фридрих «заходит так далеко, что умудряется феноменально представить закругление Земли»42. Речь тут действительно идет о погружении мира – предельно внешней сферы существования – внутрь неопределенного поля зрения. И это погружение обеспечивается взаимным отражением небесного и земного «зеркал». Различие между внутренним и внешним тут почти стирается. Неопределенность локализации точки зрения, отмеченная Вольхаймом, связана с тем, что точка схода перспективы «Большого предела» находится там, где горизонт заслонен деревьями. А геометрия представленного пространства не позволяет точно определить место этой точки, так как прямолинейные сходящиеся воедино линии тут уступают место кривым, на основе которых perspectiva artificialis плохо прорисовывается. К тому же все представлено так, как если бы точка зрения художника была расположена не против деревьев на горизонте, но поднята в небо, обеспечивая обзор с большой высоты. Полуприкрытая линия горизонта, отделяющая реку от неба, также лишена геометрической определенности.