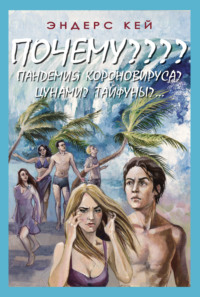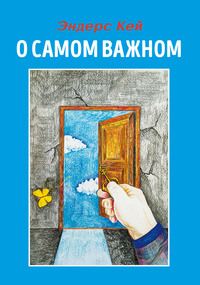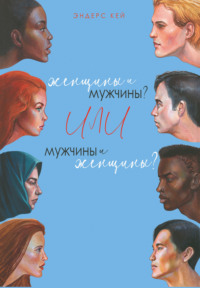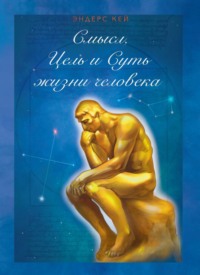полная версия
полная версияВсё может только любовь!
Так же, как и освоение устной речи, обучение эмоциям происходит имплицитно. Даже с опорой на хороший задел в обучении, которое началось ещё во внутриутробном периоде, ребёнку требуется много месяцев, чтобы начать понимать полноценные предложения, и немного больше, чтобы начать их воспроизводить. Мимика лица, тон голоса и прикосновения несут в себе понятные млекопитающим эмоциональные сообщения; как мы рассматривали в главе 3, ребёнок уже при рождении прекрасно ориентируется в этой системе сигналов. Имплицитная память – это единственный инструмент обучения, которым мозг оперирует в первые годы жизни, когда между матерью и ребёнком существует прочная лимбическая связь.
Невероятное количество установок в мозгу – это одновременно преимущество и недостаток. Имплицитная память выявляет принцип по той же причине, по которой Мэллори взобрался на Эверест – «потому что он существует». Встречаясь в раннем возрасте с рядом согласованных друг с другом примеров, ребёнок может вывести из них ошибочный общий вывод. Этот механизм в мозге перерабатывает информацию, но не оценивает её критически; он не в состоянии определить, живёт ли большой мир по тем же правилам, что он вывел из анализа эмоционального микрокосма семьи. Точно так же, как наш рот автоматически воспроизводит грамматически правильный родной язык, каждый из нас демонстрирует определённые структурные шаблоны эмоциональной привязанности.
Мы используем свои подсознательные знания в любом бездумном действии, совершаемом в любви. Если у ребёнка нормальные родители, то он запоминает правильные принципы – что любовь означает защиту, заботу, верность, самопожертвование. Он приходит к этому знанию не потому, что его специально этому учат, а потому, что его мозг автоматически извлекает из массива беспорядочной информации несколько закономерностей. Если его родители эмоционально нездоровы, ребёнок невольно извлекает чёткие уроки из своих проблемных взаимоотношений с ними: что любовь душит, что гнев пугает, что зависимость унизительна, или бесчисленное множество других калечащих психику вариантов. Лев Толстой был прав – счастливые семьи скучно похожи (примерно так же, как и здоровые тела), а несчастные – уникальны в разнообразных вариациях своих патологий.
Рассмотрим пример молодого человека, который несчастен оттого, что одинок, и на то есть веская причина. Все его романтические истории развиваются по одному и тому же сценарию. Сначала яркая влюблённость с кружащими голову порывами и бабочками в животе. Безумная любовь и страсть на протяжении нескольких недель. Затем первый звоночек – небольшое критическое замечание со стороны партнёра. По мере того, как отношения укрепляются, тоненький ручеёк замечаний превращается в бурный поток, а затем в настоящий водопад. Он ленивый, легкомысленный, его выбор в ресторанах банален, а его бытовые привычки – это какой-то кошмар. Когда он уже больше не может терпеть, он разрывает эти отношения, после чего наступает долгожданная тишина и облегчение. Проходят недели, а затем и месяцы, и его новообретенная лёгкость превращается в одиночество. У него завязывается роман с другой женщиной, которая оказывается (через очень непродолжительное время) точной копией его бывшей. Без женщины его жизнь пуста, а с женщиной он несчастен.
Эти бесконечно повторяющиеся циклы представляют собой отголосок первоначального дуэта, который давным-давно записан в его имплицитной памяти. Все его девушки вместе взятые являются приблизительным отражением его матери – умной и творческой женщины, но вспыльчивой и склонной винить во всех бедах окружающих. Его юный мозг впитал эту установку; и он ожидает найти именно этот типаж в любви.
Бегство от реальности
Имплицитная память формирует наше видение мира – это один из многих отвечающих за это механизмов психики. Мозг никогда не позволяет неприкрытой реальности вторгаться в наше сознание; все поступающие в наш разум сенсорные впечатления подвергаются процессу сглаживания шероховатостей неприветливого и сложного окружающего мира. Чтобы понять, как это происходит, закройте один глаз и мягко надавите на уголок другого, и мир вокруг вас опустится или накренится на несколько градусов, словно это не ваш собственный палец сместился на миллиметр, а рука БОГА сотрясает планету. Мозг не определяет положение глаза, а лишь отслеживает его движение, которым он управляет. Если мозг не приказывал глазу двигаться, он исходит из того, что такого движения не было – что верно в любой ситуации, за исключением одной. При изменении положения глаза вручную свет начинает по-другому падать на сетчатку. Мозгу кажется, что раз глаза неподвижны, значит, мир изменил своё положение. Аналогичным образом любой опыт приходит к нам покрытый наслоениями невидимых и порой сомнительных выводов.
Однако, как и волшебник Изумрудного города, мозг побуждает вас не обращать внимания на человека за занавеской. Сетчатка распознаёт цвет лишь в пределах центральных тридцати градусов поля зрения. С другой стороны, визуальная виртуальная реальность разворачивает перед нами всеобъемлющую красочную картинку со многими оттенками, придуманными и изображёнными для услаждения нашего взора. Полагать, что мир действительно таков, каким он выглядит в наших глазах – это значит поддаться порождённому нашей нервной системой наивному реализму, что невольно делает большинство из нас. Как пишет Умберто Эко, среди многих определённых вещей в жизни, одна является самой главной: «Все вещи такие, какими они нам представляются, и они не могут казаться другими».
Наше внутреннее представление о реальности – это необычайно убедительная подделка. В конце концов, то же переплетение нейронов, которое формирует человеческую личность, создаёт несовпадение между реальностью и её восприятием. Конечно, случаются и сбои. Если воображаемая реальность лишь слегка искажает окружающий мир, мы называем это иллюзией, если расхождение слишком велико – то галлюцинацией. Психоз – это значительный катастрофический разрыв между внутренним воображаемым миром конкретного индивидуума и ясной и беспощадной настоящей реальностью. Даже ощущения, возникающие в процессе пищеварения, находят своё отражение в мозге, что делает возможным возникновение необычных заболеваний – таких как, например, случай женщины, которой после перенесённого инсульта начало казаться, что проглоченная ей пища проходит через горло и спускается в несуществующую полость в её левой руке. Это пример тревожного сбоя в нашем внутреннем ощущении реальности. Лимбический мозг тоже моделирует мир, превращая нашу эмоциональную реальность в набор созданных нервной системой фантомов, свободно разгуливающих в нашем сознании.
Таким образом, реальность – это нечто более личное, чем кажется в ходе повседневной жизни. Эмоциональный мир каждого человека индивидуален. Некоторые люди живут в настолько уникальном мире, что то, что они видят, открывая глаза по утрам, может быть недоступно для восприятия всего остального человечества. Когда одна женщина смотрит на привлекательного мужчину, она видит того, кто хочет контролировать её и помешать её самореализации; другая же увидит в нём одинокую душу, которая нуждается в материнской заботе и взывает к ней об этом; третья видит перед собой плейбоя, которого нужно соблазнить и увести от желанной, но недостойной его партнёрши. Каждая из них знает, что она видит, и никогда не сомневается в личности человека, который находится перед не лгущими ей глазами и строящим фантастические конструкции мозгом. Поскольку люди доверяют собственным ощущениям, каждая из этих женщин слепо и фанатично верит в свою собственную воображаемую реальность.
Редко случается, чтобы человеку хотя бы немного приоткрылся масштаб собственной субъективности, чтобы
Приложение 2
Парадокс всемогущества
Семейство парадоксов, связанных с различными интерпретациями понятия всемогущества. Так, парадокс возникает из представления о всемогущем существе, способном ставить перед собой невыполнимые задачи или воплощать в объективной реальности логически противоречивые словесные конструкции («квадратный круг»). Такое понимание всемогущества отвергается большинством представителей западной религиозно-философской традиции – от Фомы Аквинского до Алвина Плантинги. Комплекс логических проблем, связанных с парадоксом всемогущества, иногда рассматривается как доказательство невозможности существования БОГА, хотя по утверждению многих христианских теологов и философов (Норман Гайслер, Уильям Лейн Крейг) представление о беспредельном всемогуществе, пренебрегающем законами логики, чуждо ортодоксальному христианскому богословию. Другие попытки решения парадокса сводятся к уточнению содержания понятий «всемогущество» и «БОГ», а также выяснению вопроса о том, является ли сам БОГ объектом приложения своего всемогущества.
Парадокс всемогущества упоминается в работах средневековых теологов по меньшей мере с XII века; к нему обращались Ибн Рушд (1126–1198) и Фома Аквинский
(ок. 1225–1274). У Псевдо-Дионисия Ареопагита (до 532) встречается одна из ранних версий парадокса – вопрос о том, может ли БОГ «отрицать самого себя».
Наиболее известной версией парадокса всемогущества является так называемый «парадокс камня»: «Может ли БОГ создать камень, который он сам не сможет поднять?». Такая формулировка парадокса уязвима для критики ввиду неточности терминов, отсылающих к физической природе гравитации: так, вес предмета определяется силой воздействия на него местного гравитационного поля. Существуют альтернативные формулировки парадокса, свободные от указанного недостатка: «Может ли всемогущее существо, действуя в рамках аксиом геометрии Римана, создать треугольник, сумма углов которого меньше 180 градусов?» и «Может ли БОГ создать настолько надёжную тюрьму, что сам не сможет из неё вырваться?».
Парадокс всемогущества является частным случаем парадокса Рассела.
Обычно парадокс формулируют в виде вопроса: «Может ли БОГ создать камень, который он сам не сможет поднять?». Парадоксальность заключается в том, что если ЕМУ это удастся, значит, ЕГО всемогущество утратило силу, а если нет, то ОН и не был всемогущ. Здесь неявно подразумевается неотъемлемость Божественного всемогущества, но встречаются формулировки, в которых это предположение не требуется («создать сферический куб», «создать треугольник с суммой углов больше 180°» и т. п.).
На практике подобная проблема возникает, когда определённое политическое учреждение получает всю полноту законодательной власти и становится всемогущим в юридической власти и особенно в отношении способности такого учреждения регулировать себя. Некоторые философы, например Дж. Л. Коуэн, рассматривали этот парадокс как достаточное основание, чтобы отвергнуть возможность существования любого абсолютно всемогущего существа. Другие, как Фома Аквинский, утверждали, что парадокс является результатом неправильного понимания всемогущества. В самом деле, парадокс является формой парадокса импликации, включающего в себя самоотносимость в незамкнутом определении универсалии «всё» в составе слова «всемогущий»: включает ли она в себя всё возможное или к тому же всё невозможное – в первом случае парадокса нет, во втором ставится вопрос о действительности или недействительности «невозможного», что представляет собой задачу онтологии.
Были и такие философы, как Рене Декарт, утверждавшие, что БОГ является абсолютно всемогущим, несмотря на очевидную проблему. Кроме того, некоторые философы рассматривали предположение, что деление существ на всемогущие и невсемогущие является ложной дилеммой, и отрицали возможность существования переменного могущества. Некоторые современные подходы к проблеме привели к семантическим спорам, может ли язык – а значит и философия – обоснованно обратиться к понятию всемогущества непосредственно.
Этот парадокс схож с другой классической неразрешимой задачей – парадоксом неудержимой силы: «Что произойдёт, если неудержимая сила встретит камень, который невозможно сдвинуть?».
Один из ответов на этот парадокс состоит в том, что если существует неудержимая сила, тогда по определению не существует объекта, который не может быть сдвинут; и наоборот, если существует объект, который невозможно сдвинуть, то никакая сила не может быть признана неудержимой. Но такие рассуждения не подходят к случаю всемогущества, поскольку парадокс состоит в том, чтобы потребовать у всемогущего сделать всемогущество невозможным. В юридическом контексте, парадокс всемогущества иногда выражается в терминах законодательного всемогущества: власть может создать любой закон в любое время.
К. С. Льюис в своей книге «Проблема боли» (Problem of Pain) утверждает, что природа парадокса внутренняя по отношению к утверждению:
Нет предела Его власти. Вы, например, заявите: «БОГ может дать существу свободную волю и в то же время БОГ может отнять у него свободную волю», но этим вам вообще ничего не удастся сказать о БОГЕ. Бессмысленное сочетание слов не приобретёт вдруг значения лишь от того, что мы добавим в него пару «БОГ может». <…> Предпринять два взаимоисключающих действия для БОГА не проще, чем для слабейшего из его творений; но не потому, что его власть наталкивается на препятствие, а потому, что чепуха остаётся чепухой, даже когда мы говорим её о БОГЕ.
Типы всемогущества
Для скрупулёзного анализа парадокса всемогуществ должно быть использовано одно из нескольких определений всемогущества. Например, Питер Гич (англ.) описывает четыре различных вида всемогущества и отличает их от понятия «быть всесильным».
Абсолютное всемогущество А значит, что А «может сделать абсолютно всё, что может быть выражено словами, даже если это кажется внутренне противоречивым».
А «не ограничен действием, как мы в мыслях, законами логики». Это положение развито Декартом. С точки зрения богословия оно выгодно тем, что постулируется, что БОГ существует прежде законов логики. Некоторые утверждают, что это положение, кроме того, создаёт богословские неудобства, делая обетования БОГА подозрительными. С этой точки зрения парадокс всемогущества является подлинным парадоксом.
Всемогущество А значит, что утверждение «А может Б» истинно тогда и только тогда, когда Б – логически последовательное описание конъюнктуры. Это положение было когда-то защищено Фомой Аквинским. Это определение всемогущества решает некоторые из парадоксов, связанных со всемогуществом, но некоторые современные формулировки парадокса всё ещё работают против этого определения. Пусть Б это «сделать кое-что, что его создатель не может поднять». В этом действии нет ничего логически противоречащего, человек может, например, сделать лодку, которую он не может поднять. Было бы странно, если бы люди могли совершить этот подвиг, но всемогущее существо не могло бы. К тому же, это определение имеет проблемы, когда Б нравственно или физически ненадёжно для такого существа, как БОГ
Всемогущество А значит, что утверждение «А может Б» истинно тогда и только тогда, когда это действие логически последовательно для самого А. Здесь идея исключить действия, которые были бы непоследовательными для А, но могли бы быть последовательны для других. Это похоже на позицию Фомы Аквинского. Здесь учтён случай, когда Б это «сделать кое-что, что его создатель не может поднять», потому что «БОГ делает Б» не последовательно логически. Однако этот случай может всё ещё иметь моральные проблемы, если Б это «говорить неправду», или временные проблемы, если Б это «сделать так, чтобы Рим не был никогда основан».
Всемогущество А значит, что если «А вызовет Б» является логически возможным, тогда «А может вызвать Б» является верным. Это определение также не создаёт парадокс всемогущества и в отличие от третьего определения позволяет избежать проблем, связанных с изменением прошлого. Однако Гич критикует даже этот смысл всемогущества как неправильное понимание природы обещаний БОГА.
Всесилие А означает, что А превосходит любое другое существо по силе; никакое существо не может конкурировать с А во власти, даже неудачно. В этом случае не возникает парадокс всемогущества, но возможно это потому, что БОГ не взят ни в одном из смыслов всемогущества. С другой стороны, Ансельм Кентерберийский считает что всесильность – одна из вещей, которая делает БОГА всемогущим.
Понятие всемогущества может также быть применено к существу по-разному. «Чрезвычайно всемогущее» существо – существо, которое является обязательно всемогущим. Напротив, «случайно всемогущее» существо – существо, которое может быть всемогущим для некоторого промежутка времени, и затем становится невсемогущим. Парадокс всемогущества может быть иначе применён в каждом отдельном случае.
Философские ответы
Можно попытаться решить парадокс, утверждая своего рода всемогущество, которое не требует, чтобы существо было в состоянии сделать все вещи всегда. Согласно этой цепи рассуждений, существо может создать камень, который оно не может поднять в момент создания. Будучи всемогущим, однако, существо может всегда изменить камень позже так, чтобы оно могло его поднять. Поэтому существо всё ещё остаётся в некотором смысле всемогущим.
Это примерная идея, поддерживаемая Мэтью Харрисоном Брэди, персонажем пьесы «Наследуй ветер» (Inherit the Wind), прототипом для которого послужил американский политик и государственный деятель Уильям Дженнингс Брайан. В кульминационной сцене киноверсии 1960-х годов Брэди утверждает, что «Естественный закон родился в сознании СОЗДАТЕЛЯ. Он может изменить его – отменить его – использовать его как ему угодно!».
Можно спросить, в силах ли всемогущее существо создать камень, настолько неизменный, что само существо не может позже изменить его. Но подобный ответ можно предложить, чтобы ответить на это и на любые дальнейшие шаги.
В 1955 году в статье, опубликованной в философском журнале «Сознание» (Mind), Джон Макки[еп] попытался решить парадокс, различив всемогущество первого порядка (неограниченная власть действовать) и всемогущество второго порядка (неограниченная власть управлять властью). Всемогущее существо, обладающее всемогуществом обоих порядков, могло бы в какой-то момент ограничить собственную власть действовать и впредь прекратило бы быть всемогущим в любом смысле. Начиная с Макки продолжается философский спор относительно того, как лучше сформулировать парадокс всемогущества в формальной логике.
Другой общий ответ на парадокс всемогущества – это попытка определить всемогущество как кое-что более слабое, чем абсолютное всемогущество, как в определениях 3 или 4 выше. Парадокс может быть решён с оговоркой, что всемогущество не требует, чтобы существо имело способности, которые являются логически невозможными, но чтобы было в состоянии сделать что-нибудь, что соответствует законам логики. Хороший пример современного защитника этой цепи рассуждений – Джордж Мавроудс. Его точка зрения сводится к тому, что неспособность всемогущего существа создать круглый квадрат вовсе не свидетельствует об ограниченном всемогуществе этого существа. Подобную «задачу» Мавроудс называет «псевдозадачей», поскольку она внутренне противоречива и изначально бессмысленна.
Если существо является «случайно всемогущим», то это может решить парадокс. Создавая камень, который не может поднять, существо таким образом становится невсемогущим. Однако это поднимает вопрос, действительно ли существо было когда-либо всемогущим или только способным к большой власти. С другой стороны, о способности добровольно бросать большую власть часто думают как о ведущей к понятию Божественного Воплощения.
Если существо является «чрезвычайно всемогущим», то это может также решить парадокс (пока мы берём всемогущество, не требующее абсолютного всемогущества). Существо является чрезвычайно всемогущим, и поэтому для него невозможно быть невсемогущим. Далее, всемогущее существо не может сделать то, что логически невозможно. Создание камня, который не может поднять всемогущее существо, было бы невозможностью, и поэтому всемогущее существо не обязано мочь делать такую вещь. Всемогущее существо не может создать такой камень, но однако сохраняет своё всемогущество. Это решение работает даже с определением 2, пока мы также знаем, что существо является чрезвычайно всемогущим.
По существу это была точка зрения, принятая Августином Блаженным в его «Граде Божьем»:
Из-за того, что Его называют всемогущим, потому что он может делать всё, что желает, вовсе не значит, что он может пострадать от себя; потому что если бы это случилось с Ним, Он ни в коем случае не был бы всемогущим. Поэтому Он не может сделать некоторых вещей по самой причине, что Он является всемогущим.
Таким образом Августин утверждал, что БОГ не может сделать ничего или создать любую ситуацию, которая в действительности сделает БОГА не-Богом.
Есть и аллегорические ответы на вопрос о всемогуществе и о камне. В первом случае неподъёмными камнями можно считать созданных БОГОМ свободных людей, которых БОГ не может спасти без воли каждого человека. Во втором случае можно привести христианское учение о БОГЕ – Троице, в которой БОГ Отец всегда рождает бога Сына и всегда изводит из себя БОГА Духа Святого, но не может Их изменить, иначе, «поднять» эти «камни».
Некоторые философы утверждают, что парадокс может быть решён, если определение всемогущества включает взгляд Декарта, что всемогущее существо может сделать логически невозможное. По этому сценарию всемогущее существо может создать камень, который оно не может поднять, но также может поднять камень в любом случае. По-видимому, такое существо может также сделать сумму 2 + 2 = 5 математически возможной или создать квадратный треугольник. Эта попытка решить парадокс проблематична в том, что само определение лишено логической непротиворечивости. Парадокс может быть решён, но только при парапосле-довательной логике. Это не выглядит как проблема для последователей диалетеизма или другой формы логического трансцендентализма. Гарри Франкфурт, развивая позицию Декарта, ответил на это собственным рассуждением: БОГ может создать камень, который невозможно поднять, но может и поднять этот камень.
И что же помешает БОГУ выполнитьуказанную задачу? Разумеется, сама формулировка задачи – поднять неподъёмный камень – выглядит внутренне противоречивой. Но если предполагается, что БОГ может выполнить одну противоречиво сформулированную задачу – а именно, создать, для начала, тот самый проблематический камень – почему бы не предположить, что Он может выполнить и другую: поднять этот камень? В конце концов, разве фокус с выполнением двух логически невозможных задач так уж труднее, чем с выполнением одной?
Философское противоречие
С точки зрения понятия «Абсолют» парадокс всемогущества решается тем, что его нельзя сформулировать без логического противоречия: либо подчинения БОГА миру, либо выноса явления, присущего нашему миру за его пределы, либо отсутствия БОГА. Например, парадокс с неподъёмным камнем – здесь логическое противоречие заключается в том, что термин «поднять» и «камень»-внутримирные, а БОГ может создать камень, который никто в этом мире поднять не сможет, но сам БОГ его «поднять» может – так как миру не подчинён и «поднять» – лишь внутримирное наблюдение процесса.
Язык и всемогущество
Австрийский философ Людвиг Витгенштейн часто интерпретируется как человек, утверждающий, что язык не подходит для задачи описания вида власти, которую всемогущее существо имело бы. В своём «Логико-философском трактате» в основном он остаётся в сфере логического позитивизма, но в части 6.41 и в последующих суждениях утверждает, что этика и некоторые другие проблемы – «трансцендентальные» предметы, которые невозможно исследовать при помощи языка. Витгенштейн также упоминает волю, жизнь после смерти и БОГА, аргументируя это тем, что «Для ответа, который не может быть выражен словами, не может быть высказан вопрос».
Работа Витгенштейна делает парадокс всемогущества одной из проблем семантики – науки о том, как символы получают смысл. (Возражение «Это только семантика», является способом сказать, что утверждение касается только определений слов, вместо чего-нибудь важного в физическом мире). Согласно Трактату, даже пытаться сформулировать парадокс всемогущества бесполезно, так как язык не может обратиться к объектам, которые парадокс рассматривает. Заканчивает «Трактат» изречение Витгенштейна по этому поводу: «О чём невозможно говорить, о том следует молчать». Подход Витгенштейна к этим проблемам повлиял на религиозного мыслителя XX века Дьюи Филипса. Но в более поздние годы Витгенштейн написал работы, которые часто считают конфликтующими с его положениями в «Трактате».
Другие версии парадокса
В 1 веке Дионисий Ареопагит упомянул о версии парадокса всемогущества, родившейся в споре между апостолом Павлом и Элимой-магом, звучавшей как «может ли Бог отрицать себя». В XI веке Ансельм Кентерберийский утверждал, что есть много вещей, которые не может сделать Бог, но тем не менее он считается всемогущим.