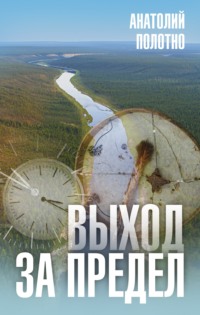Полная версия
Выход за предел
– А че так тихо-то у тебя, Иван?.
– Так ведь хорошо это, когда тихо да мирно, – ответил Брагин.
– Хорошо, хорошо, Ваня. У тебя что, телефона нет? – опять спросил Шукшин.
– Есть, Василий Макарович, поставили не так давно. Сафрон Евдокимович постарался, – ответил Иван.
– А че никто не звонит? Ну-ка, тащи его сюда, Ваня, – потребовал Василий Макарович.
Иван принес телефон цвета слоновой кости на длинном проводе – тоже Сафрон постарался. Шукшин стал крутить диск, набирая какие-то номера. И через час привезли в мастерскую разную еду из ресторана, спиртные и прохладительные напитки, а заодно и раскладные столы со свежими скатертями, и стулья. А еще через час на этих стульях сидели цыганки в разноцветных платках с бубнами и цыгане в атласных рубахах с гитарами из театра «Ромэн» во главе с худруком Николаем Сличенко и пели задушевные цыганские песни. А на соседних стульях появились, украшая стол, молодые актрисы каких-то театров и кино – симпатичные, озорные, с точеными фигурками под кримпленовыми платьями. А еще через час приехал Андрей Тарковский с двумя очень красивыми девушками, по-видимому, тоже мечтающими стать актрисами. Василий Макарович уже в качестве экскурсовода демонстрировал им картины Ивана, а Брагин без тени смущения сопровождал гостей и толково объяснял, если спрашивали. Атмосфера была праздничная, но не шумная, как отметил про себя Сафрон, наблюдавший за происходящим. В два часа ночи он с Тарковским и барышнями засобирался восвояси, позвав и Шукшина. Но тот отказался.
– Езжайте, ребятки, а мне и здесь хорошо, – ответил он, поглядывая на актрис в кримпленовых платьях.
Они и уехали, а за ними и цыгане со своим предводителем. К утру угомонились, улеглись где попало, а в двенадцатом часу дня Василий Макарович с Иваном уже топали в соседний магазин-гастроном, по выражению Шукшина, за лечебными снадобьями. Проходя мимо большого общего стола во дворе дома, за которым соседские мужики уже играли в домино, освежившись, Иван поздоровался с ними. И Шукшин – тоже. А тех будто зацементировали при виде Василия Макаровича, они не могли даже «мама» сказать, не то что здороваться.
Примерно такая же картина наблюдалась и в магазине-гастрономе. Все: и продавцы, и посетители – словно окаменели. Такая тишина наступила. Слышно было только негромкий разговор Шукшина с Брагиным.
– Василий Макарович, давайте «Старочку» возьмем, – говорил ласково Иван.
– Да нет, Ваня, это не интеллигентно – с утра «Старочка». Будем реанимироваться «Рябиной на коньяке» – это вещь! – отвечал Шукшин.
– Ну, как скажете, Василий Макарович, – так же ласково вещал Иван, и, уже обращаясь к продавцу, продолжал: – Нам бы две «Рябины на коньяке», ну и две «Старки».
Когда они возвращались из магазина-гастронома с полной сумкой снадобья и провизии, соседские мужики так и сидели без движения, зацементированные, с костяшками в руках. И после того случая во дворе Брагина Ивана стали величать не иначе как по имени-отчеству: Иван Тимофеевич.
Когда во второй половине дня приехал Сафрон, за столом, кроме Шукшина, Ивана и молодых актрис в кримплене, сидели Георгий Бурков и Георгий Данелия, а грузинский мужской вокальный ансамбль пел а капелла на голоса очень мелодичную народную песню про маленькую девочку: «Патара, чемо патара гогона, чемо патара имедо, чемо патара…» На столе дымился аппетитный шашлык. Горячий лаваш дарил хлебный запах, а сыры, помидоры и зелень свежая радовали взгляд. А уже следом за Сафроном на пороге появился Вахтанг Кикабидзе, будущая суперзвезда советского кинематографа, а пока просто барабанщик ансамбля «Орэра». Он появился с огромным букетом роз, непонятно кому предназначенных, и с большим чемоданом чачи и прекрасных грузинских вин из Тбилиси. Сафрон Евдокимович понял, что надо спасать Шукшина и Ваню Брагина.
Взял телефон на длинном шнуре и вышел с ним в соседний отсек мастерской. Позвонил Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной, переговорил с ней о чем-то и вернулся обратно. Василий Макарович опять в качестве экскурсовода демонстрировал картины Ивана молодому красавцу Бубе Кикабидзе – так его называл Данелия. Иван, как и прежде, сопровождал Шукшина и гостей без тени смущения и весело комментировал свои картины, когда экскурсовод давал ему слово. Потом продолжилось застолье с длинными, витиеватыми грузинскими тостами и застольными песнями. Потом приехала по указанному адресу и русская красавица Лидия Николаевна – жена Василия Макаровича. Ее усадили в центре стола рядом с мужем, и букет роз Бубы Кикабидзе нашел свою обладательницу. Шукшин будто бы и не удивился появлению жены, а просто спросил:
– Лидка, как ты меня нашла, где адрес раздобыла?
– Сорока на хвосте принесла, поехали домой, Васенька, – ответила она.
– Не хочу домой, мне здесь нравится. Смотри, какие дивные картины, Лидка, это же чудо какое, – проговорил Шукшин и повел ее к картинам.
Георгий Бурков, молчаливо сидевший рядом, поднялся следом.
– А откуда вы родом, Иван? – спросил он стоявшего рядом Брагина.
– Из Усолья Пермской области, мы с вами земляки, Георгий Иванович, – ответил Иван и чуть улыбнулся.
– Усолье… Недалеко от Березников, что ли? Я же там работал в драмтеатре, – оживился Бурков.
– Я знаю это, Георгий Иванович, я и на спектакле был с вашим участием. Нас, школьников, возили на автобусе в Березники, – глядя внимательно на Буркова, ответил Иван.
– Забавно. Вот же дороги судьбы! – сказал Бурков, а потом, повернувшись к Шукшину, проговорил: – Вася, поехали домой, завтра съемки.
– Какие съемки, Жора? Завтра мы с Иваном уезжаем на Алтай, я уже билеты заказал, скоро привезут, – провозгласил Шукшин.
– Как на Алтай, Васенька, а съемки? – удивленно спросила Лидия Николаевна.
– Так на Алтай. Давно дома не был, на Родине. Будем там с Иваном картины рисовать, спать на сеновале и бражку попивать медовую. Отоспаться мне надо, Лида, понимаешь, отоспаться хочу – так заебало тут все! Морды эти отвратительные, вечно недовольные. Бляди эти бездушные, резиновые. Начальники хуевы – домой хочу, в чистоту, в природу, в детство хочу, в юность. К мамке хочу прижаться, молока хочу с пирогами картофельными, как у Ваньки на картинах, полной грудью дышать хочу. Завтра, Иван, мы с тобой улетаем отсюда к едрене фене и больше не вернемся назад, нечего тут смрадом этим дышать!
Многоголосое пение стихло, и все примолкли. Шукшин стоял в центре зала, подбоченившись и, недобро насупившись, поглядывал на присутствующих. И тут в дверь постучали. Иван пошел на стук и вернулся с Зельцманом, администратором Мосфильма.
– Здравствуйте, товарищи, – притворно радостно произнес он, – Василий Макарович, ваше поручение выполнено, вот билеты.
Шукшин подошел к нему вразвалочку, взял билеты и поднял их над головой.
– Вот, все видите, мы завтра с Ваней улетаем на Алтай! – произнес он уже весело. – И больше сюда не вернемся никогда. А сейчас наливай, Георгий, своей чачи на посошок.
Отдал Ивану авиабилеты и подошел к столу, где сидели Данелия с Кикабидзе. Выпил налитый стакан чачи не чокаясь и ушел не прощаясь. Лидия Николаевна и Георгий Бурков второпях попрощались со всеми, извинились и побежали за ним.
Вскоре и гости засобирались. Ушел и Сафрон с кримпленовыми актрисами театра и кино. Иван проводил всех, убрал со стола, открыл окна настежь и улегся спать. Разбудил его ранний телефонный звонок.
– Алле, Иван, это Шукшин, – услышал он в трубку, – не получится у нас на Алтай, съемки у меня. Вот закончу картину, тогда и поедем. Хорошо у тебя, Иван, тихо, и картины хорошие. Ты билеты сдай, а деньги себе оставь, небось, безденежьем хвораешь? Я тоже хворал по первости-то сильно. Ну, бывай, душа-человек. Извиняй, если что не так.
Иван тоже положил трубку. Взял пакет с собранным со столов хлебом и полез по лесенке на крышу через специальный люк. Сел на шиферный конек и стал крошить и раскидывать хлеб птицам, думая про себя: «Как же тяжело-то ему, Василию Макаровичу. Книжки надо писать, и сценарии, и режиссировать надо, и снимать, а еще и самому играть надо. И все надо понимать, знать, чувствовать, видеть. Сколько же ему Бог дал, – и ведь не откажешься! Тащить надо это все, все выполнить надо, оправдать, надо донести – не растрясти. Спросят ведь потом – и за душу бессмертную, дарованную, чистую, которую при рождении обрел, ответ надо держать: в каком виде возвращаешь? И за дар, большой и тяжкий, ответить надо жизнью. Такой дар кому попало не дают. Держись, Василий Макарыч, держись – раз тебе доверили».
Спустился обратно в мастерскую Иван и принялся с пылом за работу – погулял – и будет.
Задумал он новый цикл картин под названием «Лукоморье».
Целый месяц работал неистово, с азартом и интересом великим. Сходит в магазин-гастроном за хлебом да за колбаской, и опять работает. А мужики соседские окликнут его из-за стола:
– Что, Иван Тимофеевич, за хлебушком пошел?
– Да, вот за хлебушком, да чай кончился с сахаром, – ответит Иван и идет себе дальше, думает. А мужики продолжают стучать доминошками своими. Раз в неделю к нему Сафрон Евдокимович приезжал, смотрел работы с интересом, не хвалил, не ругал, а просто смотрел и уезжал. Правда, раз поговорили они.
– Импрессарио тебе нужен, Ваня. Промоутер, как на Западе, продюсер, что ли, – сказал Сафрон Евдокимович. – Человек, который договаривается с галереями, организует выставки твои, продвигает работы, раскручивает имя и продает картины.
– Наверное, нужен, Сафрон Евдокимович, сам-то я ничего не знаю, да и, по правде, не умею ничего, кроме, как рисовать. А где их искать, продюсеров-то этих? – спросил Иван в ответ.
– Я подумаю, Ваня, присмотрю, может, кого, а когда сам могу попробовать этим позаниматься, если ты не против, – задумчиво произнес Сафрон.
– Да я даже и мечтать не мог о лучшем кандидате. Если только вы возьметесь, Сафрон Евдокимович, – я буду вам так признателен, благодарен и счастлив, – пылко произнес Брагин, нервно вытирая руки о фартук и не зная, что сказать еще.
– Тогда по рукам? – спокойно спросил Сафрон.
– Конечно, по рукам, Сафрон Евдокимович, – радостно произнес Иван, еще раз вытер от краски руки о фартук и пожал протянутую. Так у Ивана Брагина появился продюсер-импрессарио, а у Сафрона Опетова – подопечный художник-самородок. Иван чуть не пошел гулять с радости по такому поводу, но посмотрел на новые работы и принялся с удвоенной силой писать, писать, и писать дальше.
Второго октября, уже под вечер, без звонка приехал Сафрон. Поздоровался и молча прошел в мастерскую. Сел напротив новой картины и проговорил: «Шукшин умер, Ваня. На съемках умер. Бурков его в каюте нашел».
Иван замер. Потом молча вымыл кисти, палитру, убрал краски с мольберта и опустился рядом с Сафроном на стул. Они сидели и молчали. Потом Иван проговорил:
– А он ведь мой земляк.
– Кто, Ваня? Василий Макарыч? – спросил Сафрон.
– Нет, Георгий Иваныч Бурков – он из Перми, – ответил Иван, и они снова замолчали надолго.
Сафрон встал и сказал:
– Ну, я поеду, Ваня. Не хотел по телефону сообщать, вот и заехал.
– Я провожу вас, Сафрон Евдокимович, – сказал Иван, снял фартук, накинул плащ и двинулся за Сафроном. Когда его машина скрылась за поворотом, Брагин направился в магазин-гастроном, купил там четыре бутылки «Перцовки» и бутылку «Рябины на коньяке». Вернулся в мастерскую, зажег свечу на столе, поставил рядом два стакана. В один до краев налил «Рябины на коньяке», в другой – «Перцовки» и начал пить.
Пил он долго, до похорон. А как похоронили Василия Макаровича на Новодевичьем, бросил. Отошел немного от пьянки и стал писать с неведомой ему до этого страстью – до самоистребления. Закончил Иван свой цикл «Лукоморский» под Новый год. Исхудал весь, а глаза горят. И опять гулять наладился, в народ собрался. А Сафрон еще раз внимательно посмотрел на картины, расставленные да развешанные.
– Подожди, Ваня, гулять. Презентацию «Лукоморья» устроим. Многих людей интересных соберем, вместе с ними и гулять пойдем. И, знаешь, еще что, Ваня… Ты бы звал меня просто Сафрон. Не такая уже большая и разница в возрасте у нас.
Брагин посмотрел на Сафрона своими горящими глазами.
– Мужики мои соседские из-за стола доминошного величают меня Иваном Тимофеевичем, хоть и младше я их вон насколько. Не в возрасте тут дело. Зауважали они меня, как с Шукшиным увидели. Все потому, что шибко уж Василия Макарыча любили и уважали. Вот и мне одолжили уважение-то от него: на, Ванька, да смотри не посрами. Так что возраст здесь ни при чем, Сафрон Евдокимович. Такие уже традиции на Руси наши.
Презентация началась в 20-х числах декабря и закончилась 15 января – уже нового года. По сути, она не отличалась от «персональных выставок» Ивана в кировской общаге. Но по составу посетителей отличалась и очень даже разительно. Сафрон сумел заинтересовать работами Брагина, да и им самим, всю так называемую культурную Москву. А поскольку в те времена знаменитости и знать состоятельная не могли ездить за границу в роскошные фешенебельные отели на теплых морях, большинство из них и проводили новогодние праздники, включая Рождество и старый Новый год, в Москве или в Подмосковье. И только самые незанятые богатеи летали в Крым и в Сочи. Да к тому же официально отмечали только Новый год, а все остальные праздники праздновали, так сказать, без отрыва от производства.
Под вечер у Ивана в мастерской собиралось и правда очень много интересного народа, который прознал, что хозяин чем-то обворожил недавно ушедшего Шукшина, да так, что тот напоследок и мастерскую ему выбил в центре, а не в спальном районе. Приходило много знаменитостей вселенского масштаба. И Сафрон только удивлялся, глядя на Ивана, его учтивости без раболепства, гостеприимству без пристрастности, радушию и простоте общения с ними. И «великие» становились с Иваном немного другими, чем обычно. Видимо, соскучились по простоте и искренности. Особенно Сафрона удивлял Андрей Тарковский – бычно нелюдимый, весь в себе. Нельзя сказать, что совсем закрытый, но все же… Андрей не любил тусоваться, а в мастерскую Брагина приходил через день да каждый день. Иван встречал его с ковшом шипучей медовой бражки, а Тарковский пил ее, жмурился да передавал ковш веселым подругам своим.
В один из таких вечеров Сафрон отозвал Брагина и произнес:
– Ваня, я очень рад, что Андрей Тарковский, кажется, полюбил твои картины – смотри, ведь каждый вечер у тебя.
– Так, Сафрон Евдокимович, он у меня и днем бывает частенько. Позвонил однажды, спросил: «Можно, я у тебя поработаю?» и стал приезжать.
– Очень интересно, Ваня. И о чем же вы говорите? – удивленно спросил Сафрон.
– Да ни о чем. Я рисую, он что-то пишет в уголке, шуршит бумагами. Никто никому не мешает. Как-то раз спросил меня Андрей Арсеньевич: как бы я в одном образе жизнь отобразил? Я и ответил, что в виде обнаженной женщины. Он хмыкнул и опять давай бумагами шуршать… Часа три что-то писал, а, прощаясь, сказал «Спасибо» и попросился еще прийти. Вот и приходит, когда время есть. Я ведь, Сафрон Евдокимович, Андрея-то Арсеньевича тоже сильно уважаю. Как увидел «Иваново детство»… А уж когда «Андрей Рублев» вышел, так я совсем и не знал, что делать с собой. А тут такое счастье – созерцать самого.
– Молодец ты, Ваня. И говоришь правильно, и ведешь себя со всеми одинаково, – проговорил Сафрон.
– А я ведь не змея, Сафрон Евдокимович, у меня ведь не два языка. Со всеми и говорю одним, – ответил Брагин.
– Он, Ваня, сейчас над «Зеркалом» работает, Андрей-то наш. Места себе не находит. Ты помоги ему, Ваня, – сказал Сафрон, глядя на Тарковского из-за шторки.
– Да как же ему помочь-то? – спросил Брагин.
– Молча, Ваня, молча, как и прежде. Пойдем-ка к гостям, – ответил Сафрон, и они пошли.
Сафрон все последнее время без суеты устраивал отдельные произведения Ивана на проходящих в Москве выставках. Некоторые картины определил недорого – в запасники провинциальных галерей. А главные, наиболее удачные полотна, попали в частные коллекции знатоков за очень приличные деньги. Вот Иван и перестал «хворать безденежьем». Он вообще любил тратить деньги, а они, видимо, любили его – молодого парня, художника с Урала, Ивана Тимофеевича Кошурникова-Брагина. Столы во время презентации «Лукоморья» ломились от яств, «Старки» с «Рябиной на коньяке», а поскольку были новогодние гуляния – то и от «Советского шампанского».
Наступил Новый год. Приближалось Рождество, которое тогда усиленно замалчивали в Союзе, борясь с религией вообще и с православием, прежде всего. Гостей в мастерской сильно прибавилось, и Сафрон стал переживать, что все не поместятся, подумывая, куда бы перенести следующую презентацию Ивана. А Брагин был очень благодушно настроен и ничуть не переживал. Напротив, днями, когда никого не было, он смастерил небольшую сцену, обтянул ее бархатной материей темно-синего цвета и установил в центре зала, напротив витринных окон своих. По краям поставил две нарядные елочки в гирляндах, а на стене, за «сценой», разместил очень живописную картину «Рожество Христово» – именно так называли староверы этот светлый праздник. Картина была очень масштабной, выполненной в русской стилистике. Ели с шишками на ветках и снегири на них, сугробы в синих тонах, замерзшая речка с переходами и перилами в инее, а за ними гора сказочная с пещеркой. В пещере-хлеву Иисус-младенец в яслях – кормушке для животных. Тут же изображены овцы, ослики и корова, Богом посланные. Родители Христовы Мария и Иосиф, волхвы с дарами, ангелы сверху. А на все это благолепие льется свет Вифлеемской звезды. Несмотря на размеры, картина не разрушала экспозицию «Лукоморья» и не довлела. А подсвеченный храм за окном, в сугробах и уже настоящих сверкающих крестах, лишь объединял все в единое целое: величественное, торжественное, праздничное.
Седьмого января Сафрон приехал пораньше – встречать гостей и был так удивлен увиденным, обрадован и растроган.
– Ваня, да как же тебе удалось все так устроить-то красиво? – спросил он, пораженный.
– Так праздник большой, Сафрон Евдокимович, вот и украсил немного, – ответил Брагин, радуясь реакции Сафрона.
Гости собирались к семи вечера. Первым пришел Андрей Тарковский с подругами, подарками и привел с собой Иннокентия Смоктуновского, который не был задействован в вечернем спектакле. Они приехали с Мосфильма, где Смоктуновский озвучивал новую картину Тарковского «Зеркало». Познакомили его с Иваном, осмотрели экспозицию «Лукоморье», и Иннокентию она понравилась, даже очень.
– Знай наших, сибирских, – произнес он и заулыбался.
Потом приехали Андрей Миронов и Юрий Никулин с женой. Остальные именитые гости чуть задержались. У всех было приподнятое, праздничное настроение и желание общаться. Осматривали выставленные картины, обсуждали увиденное, поздравляли автора, а потом уселись за стол. И тут Сафрон опять был удивлен не меньше прежнего. На импровизированную сцену поднялись церковные певчие в рясах и, перекрестившись на храм в окне, запели «Рождество Христово – ангел прилетел». Да так ладно запели, искренне, от души, не показушно. Когда песня закончилась, гости, не зная, что делать, зааплодировали. А певчие, нисколько не обращая внимания на аплодисменты, продолжали исполнять Рождественские песнопения. Отпели свое, опять перекрестились на храм и тихо покинули сцену.
Началось застолье. Праздничные тосты, поздравления, веселые разговоры и шутки. Часов в десять на сцене появились два мужичка – один высокий, лысенький, другой низенький, с густой рыжей шевелюрой, и стали меж собой разговаривать о чем-то так же, как и певчие, нисколько не обращая внимания на именитых гостей. Зато гости обратили на них внимание и стали прислушиваться, притихнув. Мужички на сцене будто о чем-то спорили.
– Кто это такие? – спросил Сафрон у сидящего рядом Ивана Брагина.
– Это наши усольские врали, – ответил Иван и опять заулыбался, довольный, а Сафрон поднялся и пошел к выходу.
– Да не мог ты Гитлера украсть, – возмущался низенький мужичок в пиджаке, надетом на видавший виды свитер, в серых брюках, заправленных в сапоги, – ты был на Украинском фронте, а ставка Гитлера в Белоруссии находилась.
– А я говорю, что украл и тащил его, супостата, через болота тамошние, – невозмутимо отвечал высокий в короткой душегрейке поверх рубахи.
– Хорошо, и сколько же он весил? – снова спросил низенький.
– Да как баран твой Борька, я его через Камушку с пастбища тащил, – проговорил длинный невозмутимо и отвернулся.
Низкий оббежал его, замахал руками и опять:
– Когда это ты Борьку мово таскал через Каму? Да даже тебе, долговязому, не перейти через Каму вброд.
– А я говорю, что переходил и Борьку твоего тощего, как Гитлера, в репьях волок на хребтине, – пробасил высокий и опять отвернулся.
– Чего это мой Борька тощий, как Гитлер? Это ты тощий и долговязый пустобрех, а мой-то Борька упитанный, толстый! Во какой!
Низенький развел руки в стороны.
– Во какой, говорю, мой Борька! Как жинка твоя толстенная Варька. Как ты ее прокормить-то умудряешься своим пустобрехством? Только врать и можешь да хари гнуть.
– Да моя жинка тяжелее твоего Борьки и Гитлера вместе взятых. Я ее тоже таскал через Каму один раз, устал да и бросил насередине. Так она до Каспия доплыла на спинке, как русалка. А там ее рыбаки в сеть взяли и отправили обратно в Усолье посылкой, – отозвался высокий.
– Посылкой отправили. Да где они такой большой ящик-то нашли? – возмутился низенький.
– А они ее в гробу прислали, в стандартном. Положили и прислали наложенным платежом, – невозмутимо проговорил длинный и опять отвернулся.
Именитый народ уже не просто улыбался, как вначале, вежливо, а хохотал от души. Брагин тоже смеялся со всеми, пока не заметил, что многие стали оборачиваться к выходу.
Он тоже обернулся и увидел, как Сафрон усаживает за край стола Владимира Высоцкого с Мариной Влади и Валерия Золотухина с какой-то симпатичной девушкой. Больше Иван уже не слышал вралей. Он был шокирован – сам Высоцкий садился за его стол. В мастерской Ивана не звучала никакая музыка, кроме песен Высоцкого и хорового пения, которое тоже он почему-то очень любил. Он любовался песнями Владимира Высоцкого, как прекрасными картинами, мудростью их, простотой и гениальностью одновременно. Он любовался его диковинными словами и рифмой. Он удивлялся правде этих слов, истине, заложенной в них. Он поражался точности интонаций его удивительно выразительного голоса, не актерского – голоса улицы, голоса народа, голоса жизни. Он цитировал его часто про себя: «На полу лежали люди и шкуры, пели песни, пили меды и тут…»
И тут он, Высоцкий, сам лично сидит за столом, в черной водолазке и в красивом пуловере из верблюжьей шерсти, улыбающийся, и наливает шампанское в бокалы своей рукой, которой пишет такие замечательные песни. Высоцкий наполнил бокалы и с любопытством поглядывал на вралей, вещающих со сцены, тихо что-то объясняя Марине.
Отдельные гости с неудовольствием поглядывали в их сторону, другие радостно кивали и приветствовали вновь прибывших. Лишь врали, не обращая внимания ни на кого, продолжали спорить меж собою. Когда они закончили выступление, их проводили бурными аплодисментами, и к притихшему Ивану подошел Сафрон с гостями.
– Вот он, автор наш, виновник торжества. Познакомьтесь, Иван Кошурников, он же Брагин, – представил Сафрон несчастного, съежившегося Ивана Высоцкому, Влади, Золотухину и его подруге.
Иван поднялся и пожал протянутую руку Высоцкого, а потом Золотухина.
– Брагин – это псевдоним, что ли? – спросил Высоцкий.
– Нет, это побрякуха, прозвище, то бишь. Так у нас в Усолье говорят, – ответил негромко и сдержанно Иван.
– Надо же, как точно – побрякуха – приладили. А эти двое кто, молодцы такие? – опять спросил Высоцкий.
– Эти двое – врали. Я их от себя из Усолья выписал. Обещал сводить в мавзолей Ленина, вот они и согласились приехать, да, как сами говорят, хари погнуть перед честным народом, – уже с легкой улыбкой проговорил Брагин.
– Хари погнуть? – засмеялся Высоцкий. – Это ж надо, Марина. Есть у вас такие мастера хари погнуть в Парижах-то?
Он перевел на нее взгляд.
– Нет, нет, Володя. Такие мастера только у вас в России возможны, – с умной улыбкой и легким акцентом ответила Марина.
– То-то же! – произнес Высоцкий, – ну, веди, показывай свои шедевры, Иван. Тут вся Москва уже гудит о самородке русском с Урала.
И все направились к картинам. Показывая экспозицию, Иван опять коротко комментировал, если спрашивали его, но, в основном, говорил грамотно и красиво Сафрон Евдокимович. Который с Высоцким, оказывается, был коротко знаком, как и с Влади, и с Золотухиным, и со всеми именитыми гостями мастерской. И они, похоже, сильно уважали Сафрона за какой-то неведомый Ивану талант – за деньги уважают по-другому. Высоцкий задержался у крайней картины, потом подошел к компании и произнес: «Да, похоже, крепко я ошибался, когда писал, что Лукоморья больше нет и все, о чем писал поэт, просто бред. Вот оно, Лукоморье-то, живое-живехонькое, никуда не делось. Просто не видим мы его за суетой на земле нашей прекрасной, сказочной. И хоть я немного и понимаю в живописи, хочу сказать тебе, Иван – ты мастер большой руки. Да и чудак большой руки. На тебя скоро пойдет и Москва наша, и вся Россия-матушка повалит, и заграница их заглядываться будет, никуда не денется».