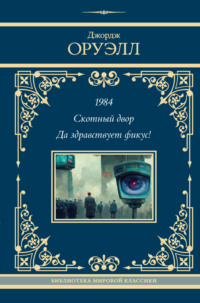Полная версия
Дочь священника
Пастор стоял перед пустым камином, греясь у воображаемого огня, и читал письмо из длинного синего конверта. На нем все ещё была ряса из чёрного переливающегося шелка, которая идеально подчеркивала его густые седые волосы и бледное, благородное, не очень-то дружелюбное лицо. Когда Дороти вошла, он отложил письмо, вытащил свои золотые часы, и стал рассматривать их с многозначительным видом.
– Боюсь, я немного опоздала, отец.
– Да, Дороти, ты немного опоздала, – сказал Пастор, повторяя ее слова и мягко, но заметно их подчеркивая, – на двадцать минут, если быть точным. Не думаешь ли ты, Дороти, что когда мне надо вставать в шесть пятнадцать, чтобы провести обряд Святого причастия, и когда я возвращаюсь очень уставший и голодный, было бы лучше, если бы ты могла прийти на завтрак, немного не опоздав?
Было очевидно, что Пастор пребывает в «неудобном настроении», как иронично называла это Дороти. У него был усталый, деланный тон, который не был однозначно злым, но притом никак не походил на добродушный. Казалось, что он всё время повторяет: «Просто не понимаю, почему ты из всего делаешь проблему!» Создавалось впечатление, что он постоянно страдает из-за глупости и ограниченности других людей.
– Извините, отец. Просто я должна была справиться о здоровье миссис Тоуни (миссис Тоуни была в «памятном списке» под буквой Т.). Вчера ночью у неё родился ребёнок, и, как вы знаете, она обещала прийти после этого для воцерковления. Но, конечно, она не придёт, если подумает, что мы не проявляем к ней никакого интереса. Вы знаете этих женщин – можно подумать, они ненавидят воцерковление. Они ни за что не приходят, если я их не уговорю.
Пастор не стал ворчать, но издал выражавший некоторое неодобрение звук и направился к столу с завтраком. Звуком этим он намеревался выразить, во-первых, что обязанность прийти для воцерковления лежала на миссис Тоуни без каких-либо уговоров со стороны Дороти, и, во-вторых, что это не дело – тратить понапрасну время на посещение всякой шелупони в городе, особенно перед завтраком. Миссис Тоуни была женой рабочего и жила в partibus infidelium[6] в северной части Хай-стрит. Пастор положил руку на спинку стула и, ничего не сказав, бросил на Дороти взгляд, означавший: «Ну теперь ты готова? Или сегодня будут еще какие-то проволочки?».
– Думаю, что всё готово, отец, – сказала Дороти. – Может быть, если вы прочтёте молитву…
– Benedictus benedicat,[7] – сказал Пастор, поднимая отслужившую своё серебристую салфетку с блюда для завтрака. Серебристая салфетка, как и серебряная с позолотой ложка для мармелада, были семейными реликвиями, тогда как ножи, вилки и большая часть посуды были из сетевых супермаркетов Вулворта.
– Как я вижу, снова бекон, – добавил пастор, взглянув на три свёрнутых тонюсеньких ломтика бекона, лежавших на квадратиках поджаренного хлеба.
– Боюсь, это всё, что есть у нас дома, – сказала Дороти.
Пастор взял вилку двумя пальцами и, очень деликатными движениями, будто он играет в бирюльки, перевернул один из ломтиков.
– Конечно я понимаю, – сказал он, – что бекон на завтрак – непременный атрибут английского образа жизни, такой же старый, как парламентское правительство. И всё-таки, не считаешь ли ты, что мы могли бы время от времени что-то менять, Дороти?
– Бекон сейчас такой дешёвый, – сказала Дороти с сожалением. – Просто грех его не покупать. Вот этот – всего по пять пенсов за фунт. А я видела бекон, довольно приличного вида, за три пенса.
– Полагаю, датский? В какой только форме датчане не проникли в эту страну! Сначала с огнём и мечом, а теперь с их неудобоваримым дешёвым беконом. Хотелось бы мне знать, что привело к большему количеству смертей!
Почувствовав себя немного лучше от такой остроты, Пастор уселся на свой стул и замечательно позавтракал презренным беконом, тогда как Дороти (которая в это утро оставила себя без бекона: наказание, установленное для себя из-за сказанного вчера слова «чёрт» и получасового бездельничанья после ланча) тем временем обдумывала, как лучше начать разговор.
Перед ней стояла настолько ненавистная задача, что и словами не выразить: просить денег. Даже в самые лучшие времена получить деньги от отца было делом почти невыполнимым. Было очевидно, что сегодня утром он будет ещё более «несговорчивым», чем обычно. Слово «несговорчивый» было ещё одним эвфемизмом Дороти. Наверно, он получил плохие известия, подумала Дороти, глядя на синий конверт.
Вероятно, не было человека, который, поговорив с Пастором минут десять, стал бы отрицать, что последний был человеком «несговорчивым». Секрет его неизменно мрачного юмора скрывался за тем фактом, что Пастор был анахронизмом. Ему ни в коем случае нельзя было рождаться в современном мире; сама атмосфера современности вызывала в Пасторе отвращение и гнев. Каких-нибудь пару веков назад счастливый священник, владеющий несколькими бенефициями, пописывающий стишки и собирающий окаменелости (в то время как викарии за сорок фунтов в год управляли его приходами), он был бы в своей стихии. Даже сейчас, будь он побогаче, он мог бы утешиться, выбросив из головы двадцатый век. Но жить в последнее время стало очень дорого; для этого нужно иметь не менее двух тысяч в год. Пастор, со своей бедностью привязанный к веку Ленина и «Дейли Мэйл», пребывал в состоянии постоянного раздражения, которое, что вполне естественно, он выливал на человека, который был к нему ближе всего, – то есть, как правило, на Дороти.
Пастор родился в 1871, младший сын младшего сына баронета, и направил свои стопы в Церковь по старомодной причине: профессия, традиционная для младших сыновей.[8] Первый его приход был в восточной части Лондона, в большом округе, среди трущоб и хулиганов, – в ужасном месте, которое он вспоминал с отвращением. Даже в те дни «низшие классы» (как он взял себе в обыкновение их называть) определённо становились неуправляемыми. Дела пошли немного лучше, когда он возглавил приход в одном отдалённом местечке в Кенте (Дороти родилась в Кенте), где порядком забитые деревенские жители всё ещё снимали перед «пастором» шляпу. Но к этому времени он женился, а женитьба его была дьявольски несчастливой. Да ещё, по причине того, что священники не имеют права ссориться со своими жёнами, его несчастье держалось в секрете, что во сто раз хуже. В Найп-Хилле он появился в 1908, в возрасте тридцати семи лет, с характером неисправимо испорченным, с характером, который привёл к тому, что всякий мужчина, всякая женщина, всякий ребёнок в приходе от него отвернулись.
Нельзя сказать, что он был плохим священником непосредственно как священник. В своих чисто священнических обязанностях он был скрупулёзно правилен, возможно, слишком уж правилен для прихода Низкой Церкви Восточной Англии.[9] Он проводил службу с большим вкусом, читал восхитительные проповеди и вставал в неудобные ранние часы каждое утро в среду и в пятницу, чтобы проводить Святое причастие. Но он никогда всерьёз не задумывался о том, что у священника есть обязанности и за четырьмя стенами церкви. За неимением возможности завести себе помощника, Пастор всю грязную работу в приходе оставлял для своей жены, а после её смерти (она умерла в 1921) – для Дороти. Частенько народ, злобно и не взаправду, поговаривал, что он бы и проповеди читать поручил Дороти, будь у него такая возможность. «Низшие классы» сразу же поняли, как он к ним относится, и, будь он человеком богатым, вероятно, бросились бы, как у них повелось, лизать его ботинки. А поскольку дело обстояло иначе – они его просто ненавидели. Нельзя сказать, что его волновало, ненавидят они его или нет, – он, по большей части, не задумывался об их существовании. Да и с высшими классами он ладил не лучше. Он перессорился с одним за другим, со всем населением графства. Как представитель городского дворянства, как внук баронета, он их презирал, и скрывать этого не собирался. В результате его успешной двадцатитрехлетней деятельности количество прихожан в церкви Св. Этельстана сократилось с шестисот до двухсот, а то и больше.
Произошло это не единственно по причине его личных качеств. Причина крылась также в старомодном англиканизме, которого Пастор был упрямым приверженцем, что раздражало в равной степени все партии в округе. В наше время для священника, который хочет сохранить свой приход, открыты только два пути. Либо это должен быть Англиканский католицизм, чистый и простой, вернее, чистый, но отнюдь не простой. Либо он должен быть дерзко современен и либерален и читать успокоительные проповеди, доказывая, что ада нет и хорошие религии все едины. Пастор не сделал ни того, ни другого. С одной стороны, он глубоко презирал англо-католическое движение. Оно прошло мимо его сознания, не оставив никакого следа; «Римская лихорадка» – так он его называл. С другой стороны, он был слишком «Высоким» для старых членов его конгрегации. Время от времени он до смерти пугал их, употребляя фатальное слово «католик» не только в священных местах Писания, но и с кафедры. Естественно, конгрегация уменьшалась год от года, и первыми уходили «лучшие люди». Лорд Покторн из Покторн-корта, владевший пятой частью всех владений графства, мистер Левис, удалившийся от дел торговец кожей, сэр Эдвард Хьюсон из Крабтри-холла и владельцы автомобилей, такие милые, почти дворяне, – все покинули Св. Этельстан. Большинство из них утром по воскресеньям уезжало в Миллборо, что в пяти милях. Миллборо, городок с пятитысячным населением, где можно было выбирать из двух церквей: Св. Эдмунда и Св. Видекинда. Церковь Св. Эдмунда была местом модернистским: текст блейковского «Иерусалима» провозглашали там с алтаря, а вино для причастия пили из бокалов для ликёра.[10] А церковь Св. Видекинда была местом англокатолическим и находилась в состоянии непрекращающейся партизанской войны с епископом. К тому же мистер Камерон, секретарь Клуба консерваторов Найп-Хилла, был новообращённым римским католиком, а его дети – в гуще Римско-католического литературного движения. Поговаривали даже, что у них есть попугай, которого они учат повторять “Extra ecclesiam nulla salus.”[11] В итоге, ни один из стоящих людей не остался верен Св. Этельстану за исключением мисс Мэйфилл из Дэ-Грандж. Большую часть своих денег мисс Мэйфилл завещала Церкви, – так она говорила. Между тем, как было известно, она никогда не клала больше шести пенсов в мешочек для пожертвований, а жить она, похоже, собиралась вечно.
Первые десять минут завтрака прошли в полной тишине. Дороти пыталась собраться с духом, чтобы заговорить; ясное дело, прежде чем поднимать вопрос о деньгах, нужно было начать хоть какой-то разговор. Но отец её был не из тех людей, с кем легко заговорить о мелочах. Временами на него нападали такие приступы рассеянности, что заставить его тебя слушать было почти невозможно. В другое время он был весь внимание, даже чрезмерно, внимательно выслушивал, что ты говоришь, а потом замечал, довольно устало, что говорить этого не стоило. На вежливые банальности – о погоде и всём прочем – он обычно реагировал саркастически. Тем не менее Дороти решила попробовать начать с погоды.
– Странный сегодня день, правда? – заметила она, хотя, уже произнося это, осознавала бессмысленность такого замечания.
– И что же в нём странного? – поинтересовался Пастор.
– Ну, я имела в виду, что утром было холодно и туманно, а теперь вышло солнце, и всё изменилось; довольно приятно.
– И что же в этом такого странного?
Ясно, ничего хорошего не получилось. Должно быть, он получил какие-то неприятные известия, подумала Дороти. Она попробовала снова.
– Как хотела бы я, чтобы вы, отец, как-нибудь вышли в наш садик на заднем дворе. Стручковая фасоль пошла так замечательно! Стручки будут более фута длиной. Конечно же, я хочу оставить те, что получше к Празднику урожая. Думаю, будет очень красиво, если мы украсим кафедру гирляндами стручковой фасоли, да ещё повесим среди них несколько помидорок.
Это был faux pas.[12] Пастор поднял глаза от своей тарелки с выражением глубокого отвращения.
– Моя дорогая Дороти, – сказал он резко, – неужели так необходимо уже сейчас беспокоить меня по поводу этого Праздника урожая?
– Извините, отец, – сказала Дороти смутившись. – Я не хотела вас беспокоить. Я просто подумала…
– Ты полагаешь, что для меня большое удовольствие читать проповедь среди гирлянд стручковой фасоли? Я не зеленщик. От одной мысли об этом мне даже завтракать расхотелось. Когда это отвратительное мероприятие должно проводиться?
– В сентябре, шестнадцатого, отец.
– Впереди ещё почти месяц. Ради всего святого, позволь мне об этом пока не думать! Полагаю, мы должны устраивать это смехотворное мероприятие раз в год – пощекотать тщеславие садовников-любителей из прихода. Но не будем раздумывать об этом больше, чем требуется.
Дороти не следовало забывать, что Пастор питает глубокое отвращение к Празднику урожая. Он даже потерял ценного прихожанина, некоего мистера Тоагиса, угрюмого огородника-пенсионера, из-за того, что выразил недовольство, увидев церковь, украшенную наподобие лавки зеленщика. Мистера Тоагиса, anima naturaliter Nonconformistica, удерживала в «Церкви» исключительно привилегия украшать на Праздник урожая боковой алтарь, создавая в некотором роде Стоунхендж, составленный из гигантских кабачков.[13] В предыдущее лето ему удалось вырастить из тыквы настоящего левиафана: огненно-красное диво было столь огромно, что понадобились двое мужчин, чтобы его поднять. Этот монстрообразный предмет разместили в алтарной части, из-за чего сам алтарь стал казаться карликовым. К тому же он затмил все краски восточного окна. Неважно, в каком месте в церкви ты стоял, тыква, как говорится, бросалась тебе в глаза. Мистер Тоагис был в полном восторге. Он крутился около церкви дни напролёт, не в силах оторвать взгляд от столь обожаемой им тыквы, и даже приводил поочерёдно группы своих приятелей насладиться зрелищем. По выражению его лица можно было подумать, что он цитирует Водсвотра на Вестминстерском мосту:
Нет зрелища пленительней! И в комНе дрогнет дух бесчувственно-упрямыйПри виде величавой панорамы…[14]После этого у Дороти появились большие надежды заполучить его даже на Святое причастие. Но Пастор, увидев тыкву, по-настоящему разозлился и приказал немедленно убрать «эту отвратительную вещь». Мистер Тоагис в тот же миг «оставил часовню», таким образом он и его наследники были потеряны для Церкви навеки.
Дороти решилась предпринять ещё одну, финальную попытку начать разговор.
– Дела с костюмами для «Карла I» продвигаются, – сказала она. (Дети из школы при церкви репетировали пьесу под названием «Карл I» в помощь фонду органистов.) – Но я, право, жалею, что мы не выбрали что-то попроще. Делать доспехи – ужасная работа, и я боюсь, что с ботфортами будет ещё сложнее. Думаю, в следующий раз нам нужно будет взять римскую или греческую пьесу. Что-нибудь такое, где носят только тоги.
Это вызвало лишь еще одно приглушённое ворчание Пастора. Конкурсы, базары, распродажи и благотворительные концерты в глазах Пастора не были столь плохи, как праздники урожая, но он не притворялся, будто они ему интересны. Без этой напасти не обойтись, говорил он. В этот момент Эллен, служанка, распахнула дверь и неловко вошла в комнату, прижимая большой рукой с шелушащейся кожей к животу свой фартук из мешковины. Высокая сутулая девушка с мышиного цвета волосами, заунывным голосом и плохим цветом лица, она страдала от хронической экземы. Эллен с опаской покосилась на Пастора, однако обратилась к Дороти – очень уж она боялась Пастора, чтобы заговорить с ним напрямую.
– Пожалуйста, мисс… – начала она.
– Да, Эллен?
– Пожалуйста, мисс, – заунывно продолжила Эллен, – у нас на кухне мистер Портер, и он говорит, что, мол, пожалуйста, не может ли Пастор зайти и покрестить ребёночка мистера Портера. Потому как они не думают, что он и день протянет, а он ещё не крещённый, мисс.
Дороти поднялась.
– Садись! – поспешно, с полным ртом, проговорил Пастор.
– Как ты думаешь, что с ребёнком? – спросила Дороти.
– Да, мисс, он весь почернел. И диарея у него, очень уж сильная.
Пастор, не без усилия, проглотил содержимое.
– Нельзя ли избавить меня от этих отвратительных подробностей, когда я завтракаю? – воскликнул он. Затем повернулся к Эллен:
– Пусть Портер отправляется восвояси, и скажи ему, что я зайду к ним домой в двенадцать часов. Я, право, не могу понять, почему это низшие классы так и норовят выбрать время трапезы, чтобы прийти и надоедать, – добавил он, бросив ещё один раздражённый взгляд на Дороти, пока та садилась.
Мистер Портер был человек рабочий, а точнее – каменщик. Взгляды Пастора на крещение были абсолютно здравыми. В случае острой необходимости он мог пройти двадцать миль по снегу, чтобы покрестить умирающее дитя. Но ему не понравилась готовность Дороти вскочить из-за стола во время завтрака из-за прихода самого обычного каменщика.
Дальнейшее продолжение разговора во время завтрака не состоялось. На душе у Дороти становилось всё тяжелее и тяжелее. Необходимо было попросить деньги, и при этом было абсолютно очевидно, что любая попытка обречена на провал. Завтрак Пастора закончился, он поднялся из-за стола и начал набивать трубку из табакерки на камине. Чтобы собраться с духом, Дороти произнесла коротенькую молитву, а затем ущипнула себя. Давай же, Дороти! Начинай! Не ломайся, ну, пожалуйста! Не без усилия, она овладела голосом и произнесла:
– Отец…
– Что такое? – сказал Пастор, остановившись со спичкой в руке.
– Отец, я кое о чём хочу вас попросить. О чём-то важном.
У Пастора изменилось выражение лица. Он моментально угадал, что она хочет сказать, и, что любопытно, теперь он выглядел менее раздражённым, чем раньше. Каменное спокойствие воцарилось на его лице. Он похож был сейчас на исключительно отчуждённого и бесполезного сфинкса.
– Сейчас, дорогая моя Дороти, я очень хорошо знаю, что ты хочешь сказать. Полагаю, ты опять хочешь попросить у меня денег. Так ведь?
– Да, отец. Потому что…
– Ну да, я могу облегчить твою задачу. У меня абсолютно нет денег. Абсолютно нет денег до следующего квартала. Ты же получила сумму для ведения хозяйства, и больше я не могу дать тебе ни пол пенни. И беспокоить меня сейчас по этому поводу абсолютно бесполезно.
– Но, отец…!
На душе у Дороти стало ещё тяжелее. Хуже всего, когда она приходила к нему за деньгами, было вот это его ужасное, безразлично-спокойное отношение. Ни к чему не оставался он столь равнодушен, как к напоминанию о том, что он по уши в долгах. Очевидно, он не мог понять, что торговцы время от времени хотели, чтобы им платили, и вести домашнее хозяйство без соответствующих денежных затрат невозможно. Он выдавал Дороти восемнадцать фунтов в месяц на всё, включая зарплату Эллен, а в то же время в еде он был «привереда», и любое снижение её качества определял мгновенно. Результатом этого, конечно, стали постоянные долги. Однако Пастор не обращал на долги ни малейшего внимания; вообще-то он едва ли о них знал. Потеряв деньги из-за инвестиций, он был глубоко взволнован, а что до долгов простому торговцу – так это такое пустяковое дело, что он даже не хотел забивать этим себе голову.
Мирный шлейф дыма поплыл вверх из трубки Пастора. Задумчивым взглядом он пристально рассматривал стальную гравюру Карла I и, вероятно, уже забыл о том, что Дороти просила денег. Увидев такую беспечность, Дороти испытала приступ отчаяния, и это вернуло ей мужество. Она заговорила более резко, чем раньше:
– Отец, пожалуйста, выслушайте меня! Мне необходимы деньги и в ближайшее время. Просто необходимы! Дальше так не может продолжаться. Мы задолжали почти каждому торговцу в городе. Получается так, что иногда утром для меня это просто невыносимо – идти по улице и думать о счетах, которые мы должны оплатить. Знаете ли вы, что мы должны Каргиллу почти двадцать два фунта?
– Что из того? – сказал Пастор, выпуская клубы дыма.
– Но этот счёт растёт вот уже семь месяцев! Он присылает его снова и снова. Мы должны его оплатить! Это так несправедливо по отношению к нему: заставлять его ждать его же деньги!
– Ерунда, дитя моё! Так положено, чтобы эти люди ждали своих денег. Им так нравится. В конце – они получают больше. Одному Богу известно, сколько я задолжал «Кэткин энд Палм». Да я и выяснять не собираюсь. Я получаю от них угрозы с каждой почтой. Но разве ты слышала, чтобы я когда-нибудь жаловался?
– Но отец, я не могу на всё это смотреть, как вы. Не могу! Постоянные долги – это так ужасно! Даже если в них нет ничего плохого, это всё равно отвратительно! Мне из-за этого так стыдно! Когда я прихожу в магазин Каргилла сделать заказ, он говорит со мной так резко, и заставляет ждать, пока не обслужит всех посетителей, а всё потому, что наш долг всё время растёт. Но я боюсь перестать заказывать именно у него. Думаю, он заявит на нас в полицию, если я перестану.
Пастор нахмурился:
– Что? Уж не хочешь ли ты сказать, что этот парень обнаглел?
– Я не говорила, что он обнаглел, отец. Но если он злится из-за неоплаченных счетов, то его нельзя в этом винить.
– Очень даже можно его винить – и я в этом уверен! Просто отвратительно, как эти люди в наши дни позволяют себе вести себя! Отвратительно! Ну вот, приехали, как видишь! Вот с такого рода вещами мы должны существовать в этом замечательном веке. Демократия – прогресс, как они любят это называть. Не заказывай ничего больше у этого парня. Сразу же скажи ему, что твой счёт будет теперь в каком-нибудь другом месте. С этими людьми можно только так обращаться.
– Отец, но это ничего не решает. Говоря начистоту, вы же понимаете, что мы должны ему заплатить? Мы непременно должны как-то найти денег. Не могли бы вы продать какие-то акции, или что-нибудь ещё?
– Деточка моя дорогая, только не говори мне про акции! Я только что получил пренеприятнейшие новости от моего брокера. Он утверждает, что мои акции в «Суматра Тин» упали от семи и четырех пенсов до шести и одного пенни. Это означает потерю почти шестидесяти фунтов. Я велю ему всё сразу же продать, пока акции не упали ещё больше.
– Значит, если вы продадите, у вас будут какие-то деньги на руках. Ведь так? Не считаете ли вы, что лучше покончить с долгами, раз и навсегда?
– Глупости, это всё глупости, – сказал Пастор более спокойно, опять беря в рот трубку. Ты в этих делах ничего не понимаешь. Я должен буду сразу же реинвестировать, во что-то более обнадёживающее. Это единственный способ вернуть мои деньги.
Заложив большой палец за пояс рясы, он с рассеянным видом хмурился, глядя на стальную гравюру. Его брокер рекомендовал «Юнайтед Силаниз». Здесь, в «Суматре Тин», в «Юнайтед Силаниз» и в неисчислимом количестве прочих далёких компаний, о которых Пастор имел весьма смутное представление, находилась главная причина его денежных проблем. Он был заядлым игроком. Нет, конечно же, он не думал об этом как об игре – это просто был поиск «хороших инвестиций», растянувшийся на всю жизнь. По достижении совершеннолетия он унаследовал четыре тысячи фунтов, которые, благодаря его инвестициям, постепенно сократились до двенадцати сотен. Хуже того, каждый год ему удавалось наскрести из его несчастного дохода ещё пятьдесят фунтов, которые исчезали тем же путем. Любопытный факт состоял в том, что соблазн «хорошей инвестиции», похоже, преследует священнослужителя более настойчиво, чем представителя любого другого класса. Возможно, это современный эквивалент демонов в женском обличьи, которые обычно преследовали отшельников в Тёмные века.
– Я куплю пятьсот акций «Юнайтед Силаниз», – сказал Пастор в конце концов.
Дороти начала терять надежду. Теперь отец думает о своих «инвестициях» (она в этих «инвестициях» ничего не понимала, за исключением того, что они проваливались с феноменальной регулярностью), и не пройдёт и минуты, как вопрос о долгах в магазинах попросту вылетит у него из головы. Она сделала последнее усилие.
– Отец, пожалуйста, давайте решим этот вопрос. Сможете ли вы мне выделить ещё немного денег в ближайшее время? Как вы думаете? Не прямо сейчас, а, может быть, через месяц или два?
– Нет, моя дорогая. Нет. Где-то к Рождеству – возможно. Хотя и это тоже маловероятно. Но в настоящее время – определённо не могу. У меня и полпенни нет на расходы.
– Но, отец, это так ужасно! Чувствовать, что мы не можем расплатиться с долгами. Это так унизительно! В прошлый раз, когда мистер Велвин-Фостер был здесь (мистер Велвин-Фостер был благочинным, то есть священником, наблюдающим за духовенством нескольких приходов), миссис Велвин-Фостер обходила весь город и расспрашивала про нас, задавала вопросы очень личного характера: интересовалась, как мы проводим время, сколько у нас денег, сколько тонн угля мы используем за год и про всё остальное. Она всегда лезет в наши дела. А вдруг она выяснит, что мы погрязли в долгах?!