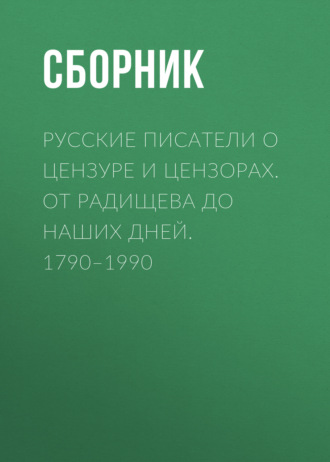
Полная версия
Русские писатели о цензуре и цензорах. От Радищева до наших дней. 1790–1990
Некоторое смягчение полицейского надзора все же позволило деятелям радикальной и либеральной печати весьма остро критиковать существующие порядки. Объявленную – как всегда сверху – «гласность» общество воспринимало с оглядкой, что позволило Салтыкову-Щедрину весьма скептически оценить это явление, заметив в «Сатирах в прозе»: «Гласность в настоящее время составляет ту милую болячку сердца, о которой все говорят дрожащим от волнения голосом, но вместе с тем заметно перекосивши рыло в сторону».
Цензура стала либеральней, хотя и по-прежнему непредсказуемой. Все же писателям и журналистам впервые дозволялось, хотя и в скромных пределах, обсуждать проблемы, связанные со свободой слова и печати. В 1862 г. наблюдение за печатью передается в ведение Министерства внутренних дел, создается особая комиссия под председательством Д. А. Оболенского для пересмотра и разработки нового устава.
6 апреля 1865 г. вышел высочайший именной указ «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати»; тогда же утверждены «Временные правила о цензуре и печати», которые, время от времени дополняемые, тем не менее, просуществовали 40 лет – до 1906 г. Тогда же при Министерстве внутренних дел создается верховное цензурное ведомство – Главное управление по делам печати, действовавшее до марта 1917 г. По новым правилам впервые освобождалась от предварительной цензуры некоторая часть печатной продукции в зависимости от ее, так сказать, физического веса: оригинальные сочинения объемом свыше 10 печатных листов и переводные – свыше 20-ти. Для отдельных изданий, освобожденных от превентивного контроля, предусматривалось, «в случае нарушения в книге законов», преследование исключительно по суду. Однако после ряда оправдательных приговоров правительство взяло обратно эту уступку – в 1872 г. появился закон, по которому судьба «особенно вредных книг» решалась уже не судом, а в чисто административном порядке – «Комитетом 4-х министров». В 1865–1905 гг. конфисковано и уничтожено 218 книг[73].
Что же до повременной печати – журналов и газет, то их судьба зависела от воли Главного управления по делам печати, которое, во-первых, могло разрешить или запретить издание нового органа прессы, а во-вторых, решить, будет ли оно освобождено от предварительной цензуры или нет. От нее освобождались преимущественно солидные ежемесячники, выходившие в обеих столицах. Взамен этого, «в случае замеченного в них вредного направления», для таких журналов устанавливалось так называемое «правило трех предостережений»: получив их, издание приостанавливалось на срок до 6 месяцев, даже в середине года, что вызывало недовольство подписчиков, не знавших об этом правиле. Окончательное прекращение следовало по соглашению с первым департаментом Сената. Так навсегда погибли лучшие журналы того времени: «Современник», «Отечественные записки» и ряд других периодических изданий (около 30). Были тогда свои приливы и отливы, как, например, ужесточение действий цензуры в «эпоху безвременья» 80-х годов[74]. Но, во всяком случае, литераторам позволено было критиковать и даже высмеивать саму цензуру и цензоров. Большая часть публикуемых далее эпиграмм и пародий увидели все-таки свет при жизни авторов. Понятно, что наиболее резко критиковал и обличал российскую цензуру А. И. Герцен, от «всевидящего ока» которой была освобождена продукция основанной им в Лондоне «Вольной русской типографии».
А. И. Герцен
Вольное русское книгопечатание в Лондоне
Братьям на Руси
Отчего мы молчим?
Неужели нам нечего сказать?
Или неужели мы молчим оттого, что мы не смеем говорить?
Дома нет места свободной русской речи, она может раздаваться инде, если только ее время пришло.
Я знаю, как вам тягостно молчать, чего вам стоит скрывать всякое чувство, всякую мысль, всякий порыв.
Открытая, вольная речь – великое дело; без вольной речи – нет вольного человека. Недаром за нее люди дают жизнь, оставляют отечество, бросают достояние. Скрывается только слабое, боящееся, незрелое. «Молчание – знак согласия», – оно явно выражает отречение, безнадежность, склонение головы, сознанную безвыходность.
Открытое слово – торжественное признание, переход в действие. Время печатать по-русски вне России, кажется нам, пришло. Ошибаемся мы или нет – это покажете вы.
Я первый снимаю с себя вериги чужого языка и снова принимаюсь за родную речь.
Охота говорить с чужими проходит. Мы им рассказали как могли о Руси и мире славянском; что можно было сделать – сделано.
Но для кого печатать по-русски за границею, как могут расходиться в России запрещенные книги?
Если мы все будем сидеть сложа руки и довольствоваться бесплодным ропотом и благородным негодованием, если мы будем благоразумно отступать от всякой опасности и, встретив препятствие, останавливаться, не делая опыта ни перешагнуть, ни обойти, тогда долго не придут еще для России светлые дни.
Ничего не делается само собою, без усилий и воли, без жертв и труда. Воля людская, воля одного твердого человека – страшно велика. Спросите, как делают наши польские братья, сгнетенные больше вас. В продолжение двадцати лет разве они не рассылают по Польше все, что хотят, минуя цепи жандармов и сети доносчиков?
И теперь, верные своей великой хоругви, на которой было написано: «За нашу и вашу вольность», – они протягивают вам руку; они вам облегчают три четверти труда, остальное можете вы сделать сами.
Польское демократическое товарищество в Лондоне, в знак его братского соединения с вольными людьми русскими, предлагает вам свои средства для доставления книг в Россию и рукописей от вас сюда. Ваше дело найти и вступить в сношение.
Присылайте что хотите, все писанное в духе свободы будет напечатано, от научных и фактических статей по части статистики и истории до романов, повестей и стихотворений.
Мы готовы даже печатать безденежно.
Если у вас нет ничего готового, своего, пришлите ходящие по рукам запрещенные стихотворения Пушкина, Рылеева, Лермонтова, Полежаева, Печерина и др.
Приглашение наше столько же относится к панславистам, как ко всем свободомыслящим русским. От них мы имеем еще больше права ждать, потому что они исключительно занимаются Русью и славянскими народами.
Дверь вам открыта. Хотите ли вы ею воспользоваться или нет – это останется на вашей совести.
Если мы не получим ничего из России – это будет не наша вина. Если вам покой дороже свободной речи – молчите.
Но я не верю этому – до сих пор никто ничего не печатал по-русски за границею, потому что не было свободной типографии.
С первого мая 1853 типография будет открыта. Пока, в ожидании, в надежде получить от вас что-нибудь, я буду печатать свои рукописи.
Еще в 1849 году я думал начать в Париже печатание русских книг[75]; но, гонимый из страны в страну, преследуемый рядом страшных бедствий, я не мог исполнить моего предприятия. К тому же я был увлечен; много времени, сердца, жизни и средств принес я на жертву западному делу. Теперь я себя в нем чувствую лишним. Быть вашим органом, вашей свободной, бесцензурной речью – вся моя цель. Не столько нового, своего хочу я вам рассказывать, сколько воспользоваться моим положением для того, чтоб вашим невысказанным мыслям, вашим затаенным стремлениям дать гласность, передать их братьям и друзьям, потерянным в немой дали русского царства. Будем вместе искать и средств и разрешений, для того чтоб грозные события, собирающиеся на Западе, не застали нас врасплох или спящими. Вы любили некогда мои писания. То, что я теперь скажу, не так юно и не так согрето тем светлым и радостным огнем и той ясной верою в близкое будущее, которые прорывались сквозь цензурную решетку. Целая жизнь погребена между тем временем и настоящим; но за утрату многого искусившаяся мысль стала зрелее, мало верований осталось, но оставшиеся прочны.
Встретьте же меня, как друзья юности встречают воина, возвращающегося из службы, состаревшегося, израненного, но который честно сохранил свое знамя и в плену, и на чужбине – и с прежней беспредельной любовью подает вам руку на старый союз наш во имя русской и польской свободы.
Лондон, 21 февраля 1853
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. XII. М.: Академия наук СССР, 1957. С. 62–64. Впервые появилось в виде литографированной листовки в 1853 году и стало объявлением об открытии Вольной типографии в Лондоне, основанной Герценом в содружестве с польскими эмигрантами.
Как известно, Герцен стал в 1848 г. одним из русских «невозвращенцев», решив посвятить все свои силы и способности борьбе за свободное, не зависимое от цензуры русское слово. Типография печатала запрещенную в России литературу, тайно провозимую затем на территорию Российской империи. В ней печатались альманахи и сборники «Полярная звезда», «Голоса из России», газета «Колокол» и множество других изданий. Среди них – сборник «Русская потаенная литература XIX столетия» (1861), «Записки декабристов» (1862–1863), роман самого Герцена «Былое и думы», запрещенные в России стихотворения Пушкина, Лермонтова, Рылеева, Полежаева и других поэтов. Типография действовала до 1872 г., но пик ее деятельности приходится на десятилетие 1853–1863 гг. О Герцене – создателе вольной типографии существует большая литература. См., например: Десятилетие вольной русской типографии в Лондоне. Сборник ее первых листов, сост. Л. Чернецким. Лондон, 1863 (факсимильное воспроизведение: М.; Л., 1935); Эйдельман Н. Я. Свободное слово Герцена, М., 2003 (в книгу вошли известные работы автора: «Герцен против самодержавия», «Тайные корреспонденты “Полярной звезды”» и др.)
Объявление о «Полярной звезде»
1855
Да здравствует разум!
А. С. ПушкинПолярная звезда скрылась за тучами николаевского царствования. Николай прошел, и «Полярная звезда» является снова, в день нашей Великой пятницы, в тот день, в который пять виселиц сделались для нас пятью распятиями.
Русское периодическое издание, выходящее без ценсуры, исключительно посвященное вопросу русского освобождения и распространению в России свободного образа мыслей, принимает это название, чтоб показать непрерывность предания, преемственность труда, внутреннюю связь и кровное родство. Россия сильно потрясена последними событиями. Что бы ни было, она не может возвратиться к застою; мысль будет деятельнее, новые вопросы возникнут – неужели и они должны затеряться, заглохнуть? Мы не думаем. Казенная Россия имеет язык и находит защитников даже в Лондоне. А юная Россия, Россия будущего и надежд, не имеет ни одного органа.
Мы предлагаем его ей. <…>
<…> Из России потянуло весенним воздухом. Мы и прежде не сомневались в народе русском, все написанное и сказанное нами с 1849 года свидетельствует об этом. Основание типографии еще больше свидетельствует. Вопрос шел о времени, он разрешился в нашу пользу.
Только не следует ошибаться в одном: обстоятельства – многое, но не все. Без личного участия, без воли, без труда – ничего не делается вполне. В этом-то и состоит все величие человеческого деяния истории. Он творит ее, и исполнение ее судеб зависит от его верховной воли. Чем обстоятельства лучше, тем страшнее ответственность перед собой и перед потомством.
Мы призываем к труду. Это не много, но физиологически важно; мы сделали первый шаг, мы раскрыли калитку – идти ваше дело!..
Первый том «Полярной звезды» выйдет двадцать шестого июля (7 августа), второй – к Новому году.
Мы не хотим открывать подписки прежде декабря месяца; для подписки нам необходимо знать, будут ли нам посылать статьи, будем ли мы поддержаны из России? Тогда только мы и будем в возможности определить, три или четыре тома можем мы издавать в год[76].
План наш чрезвычайно прост. Мы желали бы иметь в каждой части одну общую статью (философия революции, социализм), одну историческую или статистическую статью о России или о мире славянском; разбор какого-нибудь замечательного сочинения и одну оригинальную литературную статью; далее идет смесь, письма, хроника и пр.
«Полярная звезда» должна быть – и это одно из самых горячих желаний наших – убежищем всех рукописей, тонущих в императорской ценсуре, всех, изувеченных ею. Мы в третий раз обращаемся с просьбой ко всем грамотным в России доставлять нам списки Пушкина, Лермонтова и др., ходящие по рукам, известные всем («Ода на Свободу», «Кинжал», «Деревня», пропуски из «Онегина», из «Демона», «Гавриилиада», «Торжество смерти», «Поликрат Самосский»…).
Рукописи погибнут наконец – их надобно закрепить печатью. Первый том наш богат. Писатель необыкновенного таланта и резкой диалектики прислал нам, только что разнесся слух о «Полярной звезде», превосходную статью под заглавием «Что такое государство?» Мы перечитывали ее десять раз, удивляясь смелости и глубине революционной логики автора. Другой аноним прислал нам «Переписку Белинского с Гоголем». Переписку эту мы знали прежде от самого Белинского, она наделала некоторый шум в 1847 году. Во всяком случае, нет никакой нескромности ее напечатать, она прошла через столько рук, даже полицейских, что, печатая ее, мы, собственно, печатаем известное. Белинский и Гоголь не существуют более. Белинский и Гоголь принадлежат русской истории; полемика между ними слишком важный документ, чтоб не обнародовать его из малодушной деликатности.
С этими двумя статьями наш первый том обеспечен. Мы печатаем в нем, сверх того, отрывки из «Былое и думы», разбор книги Мишле «La Renaissance» и tutti frutti – смеси.
25 марта (6 апреля) 1855
Герцен А. И. Собр. соч. Т. XII. М., 1957. С. 269–271.
1853–1863
Десять лет тому назад, в конце февраля, было разослано объявление об открытии в Лондоне Вольной русской типографии.
В мае месяце вышел первый отпечатанный в ней лист[77], и с тех пор станок русский работал не останавливаясь.
Тяжелое время было тогда: Россия словно вымерла, целые месяцы проходили, и не было в журналах ни слова об ней; изредка появлялась весть о смерти какого-нибудь дряхлого сановника, о благополучном разрешении от бремени какой-нибудь великой княгини… еще реже доходил до Лондона сдавленный стон, от которого сердце сжималось и ломилась грудь; частных писем почти вовсе не было, страх приостановил все связи…
В Европе было иначе, но не лучше. Наступало пятилетие после 1848 года – и ни малейшей полоски света… темная, холодная ночь облегала со всех сторон…
С средой, в которую я был заброшен, я становился все далее.
Невольная сила влекла меня домой. Были минуты, в которые я раскаивался, что отрезал себе пути возвращения, – возвращения в эту Сибирь, в этот острог, перед которым шагал двадцать восьмой год, в своих ботфортах, свирепый часовой со «свинцовыми пулями» вместо глаз, с назад бегущим малайским лбом и звериными челюстями, выдающимися вперед! Как омуты и глубокие воды тянут человека темной ночью в неизвестную глубь – тянуло меня в Россию.
Нет, казалось мне, столько сил не могут быть задавлены так глупо, иссякнуть так нелепо… И мне представлялись живее и живее народ, печально сторонящийся и чуждый всему, что делается, и гордая кучка, полная доблести и отваги, декабристов, и восторженно юношеский круг наш, и московская жизнь после ссылки. Передо мной носились знакомые образы и виды: луга, леса, черные избы на белом снегу, черты лиц, звуки песен, и… и я верил в близкую будущность России, верил, когда все сомневались, когда не было никакого оправдания вере.
Может, я верил оттого, что не был сам тогда в России и не испытывал на себе оскорбительного прикосновения кнута и Николая, может, и от другого, но я крепко держался за мое верование, чувствуя, что когда я и его выпущу из рук, у меня ничего не останется.
Русским станком я возвращался домой, около него должна была образоваться русская атмосфера… могло ли быть, чтоб никто не откликнулся на это первое vivos voco?[78]
Но «жив человек» на самом деле не торопился отвечать.
Весть о том, что мы печатаем по-русски в Лондоне, – испугала. Свободное слово сконфузило и обдало ужасом не только дальних, но и близких людей, оно было слишком резко для уха, привыкнувшего к шепоту и молчанию; бесцензурная речь производила боль, казалась неосторожностью, чуть не доносом… Многие советовали остановиться и ничего не печатать; один близкий человек за этим приезжал в Лондон[79]. Это было тяжело. На это я не готовился. «Не они, откликнутся другие!» – и я шел своей дорогой, без малейшего привета, без теплого слова, т. е. без теплого слова из России; в Лондоне был человек, который понял иначе смысл нашего станка, – один из благороднейших представителей польского изгнания. Преждевременно состарившийся, болезненный Станислав Ворцель встрепенулся при вести о русской типографии, он помогал мне делать заказы, рассчитывал число букв, устроивал станок в польской типографии. Я помню, как он взял у меня со стола первый корректурный лист и, долго рассматривая его, сказал мне, глубоко тронутый: «Боже мой! Боже мой! До чего я дожил, вольная русская типография в Лондоне! Сколько дурных воспоминаний последнего времени стирает с моей души этот клочок бумаги, замаранный голландской сажей!»
Угасая, святой старик видел успех типографии и перед смертью благословил еще раз наш труд своей умирающей рукой.
Этот первый лист, о котором идет речь, был обращен к «русскому дворянству» и напоминал ему, что пора освобождать крестьян, и притом с землею – или быть беде. Второй был о Польше[80].
Крестьянское дело и польский вопрос сами собой легли в основу русской пропаганды. И вот с тех-то пор, любезный Чернецкий, мы десятый год печатаем с вами без устали и отдыха и имеем уже порядочную биографию нашего станка и порядочный ворох книг… Дайте вашу руку на новое десятилетие и не сердитесь, что я повторяю всенародно то, что я вам сто раз говорил наедине. Помощь, которую вы мне сделали упорной, неусыпной, всегдашней работой, страшно мне облегчила весь труд. Братская вам благодарность за это, в лице вашем польская помощь и участие в нашем деле не перемежались… Спасибо вам!.. …И тем больше спасибо вам, что начала наши были темны и бедны. Три года мы печатали, не только не продав ни одного экземпляра, но не имея возможности почти ни одного экземпляра послать в Россию, кроме первых летучих листов, отправленных Ворцелем и его друзьями в Варшаву, – все печатанное нами лежало у нас на руках или в книжных подвалах благочестивого Paternoster row.
Мы не уныли с вами… и печатали себе да печатали.
Книгопродавец с Berner street[81] как-то прислал купить на 10 ш<иллингов> «Крещеной собственности», я это принял за успех, подарил его мальчику шиллинг на водку и с несколько буржуазной радостью отложил в особое место этот первый гафсоврен[82], выработанный русской типографией.
Сбыт в деле пропаганды так же важен, как и во всяком другом. Даже простой, материальный труд нельзя делать с любовью, зная, что он делается напрасно. Заставьте лучших в мире актеров играть в пустой зале – они будут играть прескверно.
Консистории, знающие по обязанности своего сана тонкость нравственных пыток, приговаривают попов за воровство, пьянство и другие светские слабости толочь воду.
Но не все же мы толкли воду с вами, Чернецкий, – пришел праздник и на нашей улице.
Он начался торжественно.
Утром 4 марта я вхожу по обыкновению часов в восемь в свой кабинет, развертываю «Теймс»[83], читаю, читаю десять раз и не понимаю, не смею понять грамматический смысл слов, поставленных в заглавие телеграфической новости: «The death of the emperor of Russia»[84].
He помня себя, бросился я с «Теймсом» в руке в столовую, я искал детей, домашних, чтоб сообщить им великую новость, и со слезами искренней радости на глазах подал им газету… Несколько лет свалилось у меня с плеч долой, я это чувствовал.
Остаться дома было невозможно. Тогда в Ричмонде жил Энгельсон, я наскоро оделся и хотел идти к нему, но он предупредил меня и был уже в передней, мы бросились друг другу на шею и не могли ничего сказать, кроме слов: «Ну, наконец-то он умер!» Энгельсон по своему обыкновению прыгал, перецеловал всех в доме, пел, плясал, и мы еще не успели прийти в себя, как вдруг карета остановилась у моего подъезда и кто-то неистово дернул колокольчик: трое поляков прискакали из Лондона в Твикнем, не дожидаясь поезда железной дороги, меня поздравить.
Я велел подать шампанского, никто не думал о том, что все это было часов в одиннадцать утра или ранее. Потом без всякой нужды мы поехали все в Лондон. На улицах, на бирже, в трактирах только и речи было о смерти Николая, я не видал ни одного человека, который бы не дышал легче, узнавши, что это бельмо снято с глаза человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах, наконец, зачислен по химии.
В воскресенье дом мой был полон с утра: французские, польские рефюжье[85], немцы, итальянцы, даже английские знакомые приходили, уходили с сияющим лицом, день был ясный, теплый, после обеда мы вышли в сад. На берегу Темзы играли мальчишки, я подозвал их к решетке и, сказав им, что мы празднуем смерть их и нашего врага, бросил им на пиво и конфеты целую горсть мелкого серебра. «Уре! Уре! – кричали мальчишки. – Impernikel is dead! Impernikel is dead!»[86] Гости стали им тоже бросать сикспенсы и трипенсы, мальчишки принесли элю, пирогов, кексов, привели шарманку и принялись плясать. После этого, пока я жил в Твикнеме, мальчишки всякий раз, когда встречали меня на улице, снимали шапку и кричали: «Impernikel is dead! Уре!»
Смерть Николая удесятерила надежды и силы. Я тотчас написал напечатанное потом письмо к императору Александру и решился издавать «Полярную звезду». «“Да здравствует разум!” – невольно сорвалось с языка в начале программы. – Полярная звезда скрылась за тучами николаевского царствования. Николай прошел, и “Полярная звезда” явится снова в день нашей Великой пятницы, в тот день, в который пять виселиц сделались для нас пятью распятиями». Начало царствования Александра II было светлой полосой.
Вся Россия легче вздохнула, приподняла голову и, будь воля, прокричала бы от всей души с твикнемскими мальчишками: «Impernikel is dead! Hourray!»
Под влиянием весенней оттепели и на наш станок в Лондоне взглянули ласковее. Наконец-то нас заметили. «Полярная звезда» требовалась десятками экземпляров, а в России ее продавали по баснословным ценам от 15 до 20 руб. с<еребром>. Знамя «Полярной звезды», требования, поставленные ею, совпадали с желанием всего народа русского, оттого они и нашли сочувствие. И когда, обращаясь к только что воцарившемуся государю, я повторял ему: «Дайте свободу русскому слову, уму нашему тесно в цензурных колодках; дайте волю и землю крестьянам и смойте с нас позорное пятно крепостного состояния; дайте нам открытый суд и уничтожьте канцелярскую тайну судеб наших!» – когда я прибавлял к этим простым требованиям: «Торопитесь притом, чтоб спасти народ от крови!», я чувствовал, я знал, что это вовсе не мое личное мнение, а мысль, которая тогда носилась в русском воздухе и волновала каждый ум, каждое сердце; ум и сердце царя и крепостного крестьянина, молодого офицера, вышедшего из корпуса, и студента, какого бы он университета ни был. Как бы ни понимали вопрос и с какой бы стороны его ни брали, все видели, что петровское самодержавие совершило свои судьбы, что оно достигло предела, после которого надобно или правительству переродиться, или народу погибнуть. Если были исключения, то это только в корыстных кружках нажившихся негодяев или на сонных вершинах выжившего из ума барства.
Полпрограммы нашей исполнено самим государем. Но – русский в этом человек – он остановился на введении и изобрел переходное время, тормоз постепенности – и думал, что все сделано.
С той же откровенностью, с которой русский станок в Лондоне обращался в 1855 году к государю, обратился он спустя несколько лет к народу и говорил своим читателям: «Вы видите, правительство признало справедливость наших требований, но исполнить признанного не умеет, оно не может выбиться из рутинной колеи казарменного порядка и бюрократической формы. Оно дошло до конца своего разуменья и пятится, и дает в сторону, и само путается в каком-то прошнурованном и приведенном в канцелярский порядок хаосе… Оно теряет голову, делает жестокости, делает ошибки, явным образом боится… Страх, соединенный с властью, вызывает озлобленный отпор, – отпор без уваженья, без обдуманности. Отсюда один шаг до восстания.
От правительства больше собственного сознания правоты того, что требуют, ждать нечего. Дело переходит в ваши руки, не будьте вялы и неспособны, как оно, пусть выборные всего народа разберут дело и обсудят, что чиноположить и как предотвратить кровавый взрыв негодования и досады»[87].









