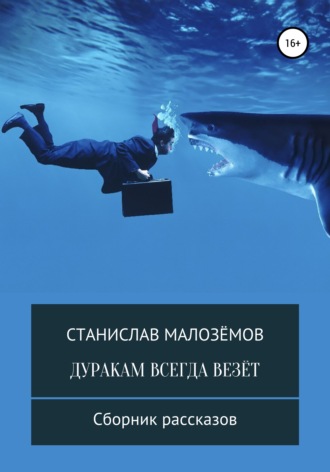 полная версия
полная версияДуракам всегда везёт
Все, кто был у него дома, не могли удержаться и спрашивали:
– Иваныч, дед, а на чём ты ешь? Где стол? Спишь на чём? Сидишь где?
И чего у тебя печка кривая, к полу её гнёт. Рухнет же и сгоришь к чертям.
– Я клятву дал, – дед смотрел в окно на небеса. – Сорок лет не есть и не спать.
Только воду пить и самогон для поддержания жизни в нутре моём. Разрешили с небес. Вот когда не забиваешь пузо всякой дрянью вроде колбасы, капусты с картошкой, шоколадок и молока, то ты становишься могучим, здоровым и способным любые подвиги совершать. А во дворе ничего нет, чтобы места хватало самому большому заводу в области по производству калориферов фирменных для печек, совков, кочерёжек и задвижек для труб.
Тут же и кирпич делаю я для своих печей. Я на сегодня вхожу в тройку лучших печников мира. Учили меня в Норвегии после войны. Сорок лет кладу печки по всему Союзу. Только вы, дурачки Владимировские, зовёте печки класть чужаков из района. Ну и что имеете? Пять кубометров дров сгорает у вас за зиму. А у меня дома от одного ствола берёзового, который и на полкуба не тянет, жара всю зиму – хоть бегай через час и в снегу охлаждайся.
– Так где завод-то? – спрашивали самые тупые. – Пустой ведь двор. Гладкий как лысина у председателя.
– Под землёй предприятие, – дед довольно улыбался. – Чтобы никто не видел. Сейчас не НЭП вам! За частное производство посадят или расстреляют. А придут проверять, то и входа в подземелье не найдут. Я и сам по часу его разыскиваю иногда. Конспирация. Так что, докладывайте хоть в КГБ. Пусть ищут. А моя печка токмо кажется кривой. Только вот нитку повесь с отвесом, так ровненькая она, как я сам, когда тверёзый. Или как прямая из пункта А в пункт Б. Ну, вы геометрию не учили, не знаете. А я сорок лет преподавал после войны в Курске в профтехучилище теорию кладки разных печей. В обучение геометрия входила, химия, физика и астрономия.
– Астрономия-то на кой пёс? – изумился Евсеев Дмитрий, тракторист.
– А дым, по-твоему, куда идёт? – дед радостно потирал руки. – К звёздам его из трубы кидает. К Большой Медведице, к звезде Альтаир и Альколь. Ну и ещё подальше. А звёзды у нас какая наука прибрала себе к изучению? Правильно. Астрономия. Так что, кому надо печь переложить с плохой на прекрасную, вот он я, берите! Почти бесплатно кладу. За литр самогона или его денежный эквивалент.
– Эки-что? Какой Валет? – спрашивали заинтригованные гости.
– Ну, это из науки. Иван Крапива скручивал в жгут белую бороду. Я сорок лет учился науке печников в Австралии после войны.
– А на хрена в Австралии печки? – сомневался Гришечкин. – Там же все в трусах круглый год ходят. Жара, пыль, джунгли, кенгуру и обезьяны с жирафами.
Но дед смеялся и отворачивался. О чём говорить с тёмными людьми? А народ быстро сообразил, что звать деда печки класть выгодно. Самогона в каждом доме было по три бочки, не меньше. Дед повесил на столбе перед самым правлением большое объявление, на ватманском листе изложенное.
« Кладу печки русские на семь и пять колодцев, голландские, немецкие с решеткой для обжарки сосисок. Итальянские без дымохода с прямой трубой через крышу, Архангельские в три кирпича с пятнадцатью дымоходами, а так же копию печки из резиденции Папы Римского. Работает на соломе, тряпье всяком, а если этого ничего нет, то на молитвах Господу нашему Единому, если молитвы читать прямо в поддувало. Цена любой печки – литр первача или его стоимость в рублях».
Вся Владимировка откликнулась. Каждый заказал себе полюбившуюся из ассортимента конструкцию. Особый спрос был на Архангельские. И первую дед поставил председателю в хату. Она занимала больше половины кухни, в потолок уходили аж пять труб кирпичных. В печке имелось отделение для котла, в котором кипятилось бельё с добавлением в воду дёгтя или магазинного хозяйственного мыла. Ниша для выпечки хлеба и булочек с притвором, отдельно – целая пещера с металлическим полом для готовки супов в чугунках. Лежак на шесть человек. Или на трёх толстых. Ну и главное – коптильня для мяса, рыбы и сала. Председатель до такой степени был растроган искусством мастера, что сказал:
– Проси, – сказал он умоляюще, – что пожелаешь! Такому человеку ничего не жалко на время дать.
– Ну, литр, это само собой, – скромно ответил дед. – Да и постоянно звонить по межгороду в танковую воинскую часть под городом Гомель желаю. Я там сорок лет служил. Сперва рядовым наводчиком, а потом лет сорок командиром танкового секретного отдельного спец. батальона. До полковника дослужился. Немного не дотянул до генерала. Разжаловали, сволочи. И всего за то, что я всем взводом поехал, как подошел положенный день, в городскую баню на помывку. Через весь Гомель прошли танками. Народ из города весь убежал с перепугу. Утром рано мы двинулись. Не светало ишшо. Не видно же было звёзд на танках. Неделю народ не возвращался. Заводы не работали неделю, магазины, больницы и общественные туалеты. Народ решил, что опять война. Стал я рядовым и один раз ночкой тёмной рванул на танке сквозь стену на волю. Танк за городом бросил и на попутках добрался до Владимировки.
…Любую печку он складывал за два дня. Ещё через день можно было топить. Все печки дымили и в небеса, и в комнаты. Прогорали они быстро и ночью приходилось подбрасывать дровишек.
– А на хрена так? – спрашивали деда недовольные. – Задохнёмся же.
– Я кладу по европейским чертежам и по ихним стандартам, – разъяснял Иван Крапива. – В Европе учёные доказали, что дым лёгкий от дерева укрепляет все органы и омолаживает. Это видно уже через три зимы. Кто возражает?
Никто, естественно, против Европы ничего не имел и сказать было нечего.
Летом деда видели за околицей в самом гиблом месте, куда все боялись ходить. Потому, что человек десять-пятнадцать шастали раньше за ягодой в лес по одному и по трое, да больше их никто не видел. Дед стоял недалеко от леса и обнимался с каким-то скрюченным стариком в лохмотьях и с чёрным колпаком на голове, из-под которого свисали грязные спутанные волосья. В руках старик держал посох, обут был в лапти и постоянно сморкался. Дождались деда Крапиву наблюдатели, когда он пролез под жердями во Владимировку, взяли его за грудки и спросили грозно.
– Кто это такой? На бандита, каторжника беглого похож. С кем якшаешься, дед, да ещё на гиблом месте?
– Тьфу на вас, тёмные вы люди! – махал на народ костлявыми серыми пальцами дед. – Сказок сроду не читали вам мамки с папками в люльках ещё. Это ж обыкновенный леший. Хранитель леса. Друг мой старый. Я однажды после войны сорок лет по лесам плутал. Заблудился. За грибами пошел. Так вышел аж под Брянском. Ну, за это время со всеми перезнакомился. И с лешим, с вурдалаками, и с Бабой Ягой даже. А ничего от них худого. Нормальные ребята. Только бояться их не надо. Среди нас люди есть похуже лешего в сто раз. Вот и те, которые на гиблое место пошли, лешего встретили. Да со страху и померли. А леший, он добрый, как и домовой.
Покрутил народ на эту речь пальцами у висков, да и разошелся. Всем дома надо сидеть. Нового утра ждать. Новых радостей аль печалей.
А лет через пять впервые за жизнь во Владимировке второго августа обошел дед всю деревню и позвал людей на день рожденья. Много народу пришло. Подарки всякие принесли. Стол, стулья, кровать, постель, радиолу с пластинками да рубанки-фуганки всякие. Пировать сели во дворе. Человек сто пришло, если не больше. Столы быстро сколотили длинные. Женщины со всего села еды наготовили – за месяц толпой не сжуёшь. Уважали деда.
Председатель тост сказал.
– Поднимем чарки за умельца, мастера на все руки и доброго человека!
– А сколько годов стукнуло тебе нонче? – крикнул от края стола Евсеев, тракторист.
– Так восемьдесят два же! – громко и радостно откликнулся дед. – И, дай Бог, ещё потрещу костями на этом свете десяток лет, а то и другой.
– Ужо пять лет назад восемьдесят два тебе было, – сказал Гришечкин.
– И десять назад – тоже восемьдесят два, – громко удивилась жена агронома Лузгина Татьяна.
– Да я что ли сам знаю, как оно так всегда выходит? – тоже удивился дед. – Но тоже ведь хорошо. Считать не надо да путаться. Восемьдесят два, да и всё тут!
Пили, ели, поздравляли деда три дня и три ночи. Пока никто уже не смог вилку и стакан в руках держать. И праздник получился отменный.
– Сорок лет так хорошо не праздновал свой день! – на весь двор признался дед. Теперь буду жить ещё два раза по столько.
Все засмеялись и подарили деду не аплодисменты. Овации.
И я там был. Мёд – пиво пил.
Сорок лет не пил такого потрясающего мёда.
7. КАРТИНА МАСЛОМ
Рассказ
Ближе к январю шестьдесят восьмого деревню Болотиху как всегда утопило в сугробах. Природа с ненасытной настырностью каждый год ссыпала с неба на сто двадцать дворов болотинских и на восемь широких улиц лишние миллиарды снежинок, рассчитанных минимум деревень на десять. Через шесть километров от Болотихи на бугорке широком и длинном высилась Рязановка. Тоже колхоз послереволюционный. Так вот его снегопад с чего- то жалел. Там мужики мётлами очищали дворы и деревянными лопатами собирали рукотворные сугробы на задворках, где огороды. Чтобы было на грядках талой воды побольше. А Болотиху даже от ближней околицы видно было только наполовину. С середины окошек до конца печных труб. Из чего состояла нижняя половина деревни – население за зиму напрочь забывало. Тропинки со двора до дороги прорезали пилами на кубики, а их лопатами скидывали влево – вправо. Дорогу на улицах делал экскаватор на тракторе «Беларусь», а после него грейдер лезвием сдвигал останки двухметрового сугроба до конца улиц.
Поэтому в конце марта, когда солнце без особого напряга разделывалось со снегом, для жителей Болотихи наступала короткая, но яркая пора радостных открытий.
– Слышь, отец! – весенним голосом сообщала мужу Еремеева Анастасия, трудно разгибаясь после зимнего застоя позвоночника и обследования на карачках территории двора. – А, между прочим, вот он, никуда не делся твой драчёвый напильник. И два изолятора для проводки тока в новый сарайчик тоже тут.
– А и куда ж им деться, как и тазику твоему для варенья? – с тёплой ленцой отзывался собирающий из луж забытые под зиму мотки провода, гвозди, плоскогубцы и другую мелочь глава семьи. – Ты к тому же щеколду от старого сарая поищи, не вижу её. А хорошая ведь щеколда. Не новую же покупать.
Вот такими примерно речами озвучивалась деревня каждой весной. Но сейчас её, весну, только ждали пока. Январь, хоть и долгожданный всеми новогодний месяц, но противный. С метелями, ветром ледяным, буранами. Неторопливый и недовольный тем, что всё одно – уходить надо. Тормозил он уже совсем готовую живость людей, желающих побыстрее начать возиться на огородах и бегать в гости к друзьям с соседних улиц. Но тридцать градусов пока на дворе, ветер низкий и злобный. Он и разносил по селу запахи разновкусных дымов от домашних и банных печей. Еловые, берёзовые, осиновые ароматы. А и февраль придёт как всегда вовремя, так и от него радости никакой. Та же холодрыга, только метелей побольше.
При таких минусах, на термометре замерших, и грохот ведра об лёд, наросший с боков колодца на всю глубину, слышался почти как звон колокольный. Почти – так это потому, что привязывали его толстой цепью. Как самых больших волкодавов. Цепь скребла лёд и звон глушила. Ползал вдоль и поперек дорог да тропинок скрип снега под валенками, которые носило поголовно всё население. Обувал народ в сырокатанные пимы лучший на всю зарайскую область пимокат Павел Иваныч. Ну и всё. Других природных примет не имела на селе зима. А от людей, нескончаемыми делами нагруженных, шума много было. В одном конце села истошно стонала пилорама, на другом конце глухо бился об пылающую сталь молот кузнеца Прибылова. А в середине Болотихи возле колхозной конторы орало с утра до ночи радио. Колокол серебристый на столбе.
Поздно вечером каждый день выплывают из-за единственного бугра десятка два папиросных огоньков, обозначая возвращение с работы на МТС колхозных волшебников – механизаторов. Они из почти насмерть угробленной техники за посевную и за буйную уборочную зимой делали вполне пригодные для следующих пыток нагрузками тяжкими десятки сеялок, плугов, борон, культиваторов и тракторов с комбайнами. Папиросы поначалу горят кучкой. Так как бригада ещё минут двадцать остаётся бригадой, коллективом, но уже за километр до первых домов неведомая сила выравнивает огоньки в одну цепочку, от которой отрываются первые звенья. То самые молодые «орлы» совершают финишный бросок к своим домам, к теплу, молодым женам и крохотным детям. А сами жены всего час назад прибежали с ферм, где кормили на ночь коров, свиней и кур с петухами. Но, поскольку деревенские дамы традиционно не курили, никто их спешки по домам, конечно, не заметил.
Вот вечерами только и раззадоривается заиндевевшая Болотиха. Веселее гремят цепи в срубах колодезных. Звякают лопаты об угольные камни. Оживают при хозяевах слегка задубевшие собаки и перелаиваются друг с другом радостно. Сейчас кормить будут всех. А во дворах утепляют атмосферу хозяйственные мужицкие матюги, которыми обозначается обычно осмотр занесённых за день метелицей дворовых дорожек.
А когда, неслышные с улицы, отзвенят в домах тёплых чашки да ложки, приступает не сильно пьющая часть народа к культурному отдыху. Самые ленивые опрокидывают стопарь самогона и приклеиваются к телевизорам, которые по причине всего-то стокилометровой удаленности от ретранслятора передают картинку сквозь дрожащую серую мглу. И могут давать радость только тем, у кого очень сильно развито воображение. Самые дружные семьи обуваются в выходные валенки белого цвета и неторопливо, выражая морозу презрение, идут в клуб смотреть индийское кино в двух сериях. Этими слезоточивыми фильмами пробивной киномеханик Манохин Ваня, имеющий «своих» в самом облкинопрокате, затарился до второго пришествия Христа или до конца света. Есть ещё в фойе клуба старого здоровенный, покрытый дорогим зелёным сукном, биллиардный стол. Его председатель колхоза купил в позапрошлом году в городе. С большого похмелья после областного совещания в сельхозуправлении он приходил в чувство на прогулке по городскому парку. И столы эти ему очень понравились. Он пошел в магазин спорттоваров и забрал там последний стол. В Болотихе аристократическая игра не прижилась. Шары белые растащили тётки. На них было удобно штопать носки. А десять киёв спёрли пацаны и сражались ими как на шпагах. Но стол не пропал в бездействии. На нём играли в «буру» и «преф» помешанные на азарте картёжники. Они прекратили собираться в домах и женам стало не на кого орать. Тоже хорошо. Или женам, наоборот, плохо. Неважно это всё.
Не поражено картами, телепередачами и фильмами индийскими было только две категории граждан. Представители первой копались вечерами дома в своём хозяйстве, чистили коров и правили вечно кренящиеся заборы. А вот все остальные, мужиков, может, тридцать всего, как свихнулись. Они после ужина шли в большой дом фельдшера Дмитрия Солодкова. Но не лечиться.
Только отмоются от солидола, перехватят чего-нибудь по-быстрому, прикрыв слегка голод – и бегом к Солодкову. Года три уже бегают к нему после того, как он за какие-то неправильные мысли, озвученные сдуру им с трибуны слёта отраслевых передовиков области, был вежливо переброшен с места главврача больницы фельдшером в Болотиху. Причём в медпункт к нему не ходил никто. Болеть не получалось никак у мужиков. Ходили исключительно на дом и, что поражало жен, возвращались неприлично трезвыми.
Тогда жены выждали год примерно, перетерпели эту несуразицу и делегировали однажды вечером свою ударную группу с целью пресечь бесполезную и странную жизнь своих мужчин после трудового дня. И увидела делегация такое, чего не ожидали даже самые агрессивные посланницы прекрасной половины села.
Стоял посреди большой комнаты желтый лакированный деревянный ящик с откинутой крышкой. У ящика был странные, хромированные, похожие на толстые вязальные спицы ножки. Из-за крышки периодически выныривала голова фельдшера в клетчатом берете, который не надел бы в жизни ни один деревенский мужик. Глазами Солодков при выныривании косил в угол, где обычно вешали иконы. Только вместо лика какого-нибудь святого находился в углу на табуретке самый лучший комбайнер Шмаглиенко Петр Петрович. Гордость всей области. За спиной его повесили красное знамя с большими трафаретными серпом и молотом. На пиджаке Петра Петровича оттягивали левую сторону три ордена и семь медалей. Сам он держал одной рукой на колене книгу про себя «Хлебороб Пётр Шмаглиенко», которую написал редактор областной газеты. А другая рука, как козырёк, прикрывала сверху глаза. Так делают все, чтобы разглядеть что-то далёкое. Он не мигал вообще и не шевелился. Изредка к нему подбегал молодой тракторист Лёня Широков и платочком промокал на лбу и подбородке Петра Петровича капли пота. Время от времени над крышкой ящика коршуном взмывала рука фельдшера, в которой женщины видели очень экзотический для мужицких рук инструмент – кисточку. А мужья их, и личные, и чужие, в три ряда сидели и стояли у него за спиной. Молча, как в кино про индийскую любовь в тот момент, когда отвергнутый своей возлюбленной несчастный индус заряжал револьвер, чтобы стрельнуть себе в сердце и вот таким образом пресечь личное горькое горе. Цепко держали мужики в поле зрения каждое движение руки фельдшера, сопровождая творческий процесс мимикой ушлых хоккейных болельщиков, довольных игрой нашей команды. И хотели поначалу-то делегатки исполнить волю дам деревенских: разогнать к чертям собачьим мужскую группировку составом более трёх человек, что всегда приводит к массовой пьянке. Но спокойное присутствие уважаемого Петра Петровича Шмаглиенко, который ни минуты бы не пробыл там, где происходит что-то предосудительное, удержало их от неправильного поступка.
С тех пор и слежалась в Болотихе основательно протоптанная дорожка к дому фельдшера-художника Солодкова Дмитрия. А сам он прочно засел в тройке самых почитаемых людей деревни. Наравне со Шмаглиенко, председателем колхоза Лагутиным и бабушкой Макарихой, ведьмой и целительницей душ заблудших.
Притянулись к нему мужики как шурупы к магниту. И было это слишком удивительно, а потому даже пугало многих в селе. Даже главный агроном, молодой человек с высшим образованием, сидел у Солодкова до ночи почти. Значит не просто рисование тянуло к нему людей. Что-то другое, чего посторонние не видели и знать не могли. Никто из солодковских «прихожан» никогда не делился впечатлениями от посиделок у фельдшера. Но только вот возвращались они по домам трезвые, поразительно свежие, как после бани, и добрые. Почти все они со временем сделали себе такие же ящики с ножками, которые называли «этюдниками». Съездили не по одному разу в город, накупили кисточек и красок, да ещё пузырьков с льняным маслом и лаком. Потом резали лишние мешки квадратиками и прямоугольниками, натягивали их на сбитые гвоздями рамки из тонких брусков. После чего со всем этим набором уходили после ужина к Солодкову. Он всего за год научил их грунтовать холсты и писать маслом натюрморты, пейзажи, а некоторые даже портреты стали рисовать. Кто как мог, конечно. По-разному. Но могли все. Всё это мужики вставляли в самодельные, покрытые лаком рамки и развешивали дома на стенки. Было это настолько необычно и приятно семьям, что даже жена слесаря Коли Федянина Антонина, и так самая счастливая замужняя женщина, поскольку муж её вообще никогда и капли не брал в рот, пошла к фельдшеру и от имени женской части Болотихи спасибо ему сказала за своего и чужих мужей. Даже в пояс ему поклонилась.
Так медсёстры рассказывали. Сами видели. Коля Федянин не пил по причине редкой для деревенских болезни – язвы желудка. Но остальным-то «квасить»
даже Господь не запрещал. Нет же! Не пили только «солодковские». Ходили в лес рисовать, на реку, по улицам. Причём и зимой, и летом. А те, кто обходился без «секты» фельдшера, за воротники закладывали без ограничений и наперекор разнообразным угрозам жен. И картина в их домах висела одна и та же. «Утро стрелецкой казни». Её когда-то в предельно умопомрачительном количестве – пятьсот штук в трёх рулонах, завезли в сельповский магазин как законную нагрузку к двадцати ящикам консервов «Печень трески» и тонне печенья «курабье». Продавщица Танька Зотова дождалась когда поступят сепараторы образца последнего, шестьдесят седьмого года, когда привезут швейные машинки с ножным приводом, да и сбагрила их с довеском этими «стрельцами». Ну, а картины Солодкова и мужей собственных – это же совсем другое дело! Отражали они не какую-то старорежимную реальность, а свою. Местную. Родимую.
Речка Петлюшка текла прямо как живая в доме тракториста Сомова. Жена его как-то в сельповском магазине с довольным лицом рассказывала очереди, что Алексей как-то, уходя с утра на рыбалку, ткнул пальцем в клочок камыша на картинке и сказал: – Вот тут меня ищите, если приспичит. Между камышом этим и тальником.
А бабульке Макарихе, целительнице душ греховных колхозников и умной прорицательнице подарил фельдшер вообще потрясающую картину: залитая солнцем горница бабкина, видная из палисадника, а в самом палисаде промеж огненных роз и кремовых гладиолусов сидит светлая лицом Макариха на синей табуретке, улыбается и лузгает семечки из холщевого мешочка. Не смотря на лёгкое искажение правды жизни бабка картину одобрила и повесила рядом с иконостасом. Хотя гладиолусов и роз уже лет сорок не сажала. Да и табуретка у неё была некрашенная, от времени серая.
Ну, а Петру Петровичу Шмаглиенко, вы помните, написал он очень торжественный портрет. И всё ему удалось. Характер строгий улёгся и замер в глазах. Лицо выражало ежеминутную готовность к трудовому подвигу. А ордена и медали на черном пиджаке сияли как июльские звёзды в созвездии Большой медведицы. Ну и многих других колхозников с семьями и поодиночке изобразил Солодков. И правая рука его слегка побаливала от благодарственных рукопожатий. Мужики в колхозе, как на подбор, крепкие были. В доме самого художника образовалась натуральная галерея. Всюду висели, стояли по углам и лежали на трёх длинных скамейках собственные произведения и картины учеников. Плотник Мишустин сделал сотни две рамок под размеры всех работ, покрасил их белой эмалью, а портрет знаменитого Шмаглиенко вставил в «золотую» оправу. Нашел где-то лак с золотистым перламутром. У фельдшера в хате всё пришлось переставить, вынести в сарай шкаф и буфет. Ковер со стены уложили по-городскому, на пол. Но эти жертвы отданы были искусству, не картам, не самогону. И они потому не вызывали у Солодкова ни грусти, ни печали. Только радость имел он от того, что тягу к прекрасному разбередил он года за три почти у всех деревенских.
Школьные малолетки к концу рабочего дня начинали кучковаться возле медпункта и провожали фельдшера до дома. Солодков пускал их в дом, ставил холст чистый на этюдник и позволял всем, у кого не было двоек на неделе, создать настоящими масляными красками и профессиональными кистями коллективный пейзаж ближайшего лесочка с озером перед берёзами, который не надо было списывать с натуры. Его все пацаны знали наизусть. Взрослые попервой сами назначали себе график творческих часов, но когда желающих стать живописцами перевалило за пятьдесят, график не выдержал и лопнул. Не хватало этюдников, холстов, да и кисточек с разными красками. Ну, а тогда плотник Мишустин снял с оригинала размеры и умело сколотил за пару недель ещё тридцать этюдников. Не таких красивых, как солодковский, конечно, но вполне пригодных для работы. Потом всей деревней скинулись на холсты, кисти с красками, разбавитель и лак. После чего фельдшер в выходной убыл с двумя помощниками в Зарайск и они вернулись с четырьмя мешками, набитыми под завязку всем, что надо художнику.
Если бы кто-то случайно в воскресенье, например, оказался рядом с Болотихой, то его шибко удивило бы изобилие мастеров кисти, в забытьи одухотворённо срисовывающих окрестности. Возможно, подумал бы точно случайный проезжий, что здесь лютует командированная бригада лучших действительных членов академии художеств. Но вряд ли кто мог бы вдруг очутиться в этих краях. Очень уж поодаль от больших дорог жила Болотиха.
То есть случилось за три года последних в маленьком селе сразу три чуда. Первое – художниками стало двести шестьдесят человек из четырёхсот тридцати пяти. Даже председатель написал сорок картин, несмотря на загрузку свою ужасную хозяйственными делами. Второе – творческие мужики постепенно прекратили пить. То есть «завязали» полностью. А как рисовать пьяному? Всё путаешь. Краски. Кисти. Да и цвета не ловишь верно, натура в пьяном глазу искажается. А у трезвого – ну, просто классические произведения выходят.
А третье чудо – народ читать начал. Сначала то, что фельдшер давал. Книжек у него много имелось. Под кроватью, в шкафу для одежды и в кладовке, которая снизу доверху была увешана полками с книжками. Часто он некоторые из них пересказывал мужикам. Пока они корпели над холстами в его доме. Потом, когда народ уже стал выпрашивать у него что-нибудь интересное да полезное почитать, он пошел к председателю, а через месяц в танцевальном зале клуба, где никогда никто не учил бальных танцев – ура! открыли настоящую библиотеку. Очень много хороших книг фельдшер с завклубом купили в городских книжных магазинах. А председатель поехал в центральную библиотеку Зарайска и уговорил директора продать им дубликаты самых лучших книг классической и современной литературы. В общем, хоть всего три чуда случились в невеликой деревне Болотихе – зато каких! Позавидует любой колхоз. Даже райцентр позавидует.





