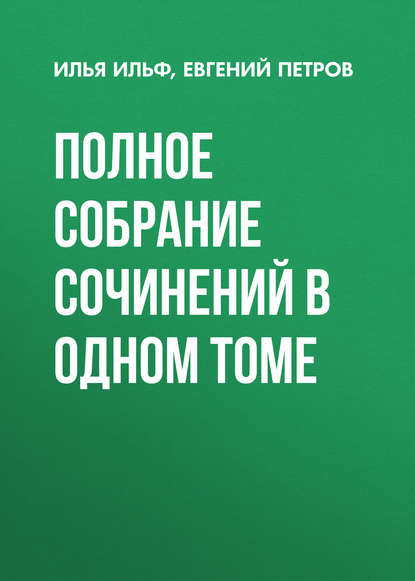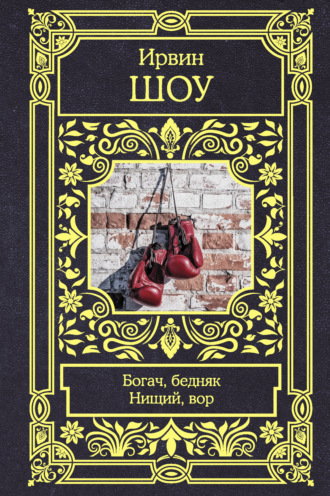
Полная версия
Богач, бедняк. Нищий, вор
– Я же сделал это не ради своего брата и не ради его толстухи, – сказал Аксель Джордах. Он сидел на кровати, бессильно свесив руки между колен. – Я уже объяснял тебе. Я сделал это для Руди. Какой ему смысл поступать в колледж, если потом вдруг выяснится, что у него брат в тюрьме?
– А ему там самое место. Если ты намерен отдавать по пять тысяч долларов каждый раз, как его захотят посадить в тюрьму, бросай пекарню и займись лучше нефтяным бизнесом или стань банкиром. Ты наверняка думал, что делаешь доброе дело, отдавая этому человеку деньги! Небось еще и гордился собой! Твой сын. Яблочко от яблони… Весь в отца. Самец! Только о сексе и думает! Одной девушки ему мало! Нет, он же сын Акселя Джордаха! Ему подавай сразу двоих – из такой семьи. Что ж, если Аксель Джордах хочет показать, что он мужик что надо в постели, пусть лучше подыщет себе пару девочек-близняшек. В этом доме ему больше ничего не перепадет. Моя Голгофа кончилась.
– Господи, – вздохнул Джордах. – Голгофа!
– Мерзость! Скотство! – взвизгнула Мэри. – Из поколения в поколение. Твоя дочь тоже хороша – шлюха! Я видела деньги, которые она получала от мужчин за свои услуги. Восемьсот долларов! Я их собственными глазами видела. Она прятала их в книге. Восемьсот долларов! Твои дети продают себя задорого! Ничего, я теперь тоже назначу себе цену. Если тебе от меня что-нибудь нужно, если хочешь, чтобы я торговала в булочной или пускала тебя к себе в постель, – плати! Мы платим этой вдове тридцать долларов в неделю, а она выполняет только половину моей работы – ночью она спит у себя дома. Так вот, моя цена – тридцать долларов в неделю! И это еще по-божески. Но только сначала верни мне то, что ты уже задолжал. По тридцать долларов в неделю за двадцать лет – это тридцать тысяч. Я все посчитала. Тридцать тысяч долларов на стол. Когда положишь эти тридцать тысяч мне на стол, тогда и буду с тобой разговаривать, не раньше. – Она схватила последнюю кипу одежды и стремительно вышла из спальни. Дверь в комнату Гретхен с шумом захлопнулась.
Джордах покачал головой, встал и, хромая, поднялся к сыну.
Рудольф лежал на кровати, глядя в потолок.
– Ты, наверное, все слышал, – сказал Джордах.
– Да.
– Извини, – сказал Джордах.
– Угу.
– Ну ладно, – не глядя на него, сказал отец. – Я схожу в булочную, посмотрю, как там дела.
– Я вечером спущусь тебе помочь, – сказал Рудольф.
– Не надо, спи. Там тебе делать нечего. – И он вышел из комнаты.
Глава 11
I1946 год
Лампочки в подвале у Бадди Уэстермена горели тускло. Ребята сделали из подвала что-то вроде клуба и часто устраивали там вечеринки. Сегодня собралось человек двадцать девушек и парней. Одни танцевали, другие обнимались в темных углах, третьи просто слушали пластинки Бенни Гудмена, игравшего «Бумажную куклу».
«Пятеро с реки» больше там не репетировали, потому что ребята, вернувшиеся из армии, создали свой джаз-банд, и главным образом приглашали играть их. Рудольф не обижался на то, что чаще нанимали другой оркестр. Оркестранты там были старше и играли гораздо лучше, чем «Пятеро с реки».
Посреди комнаты, тесно прижавшись друг к другу, покачивались в танце Алекс Дейли и Лайла Белкэм. Все знали: в июне, после окончания школы, они собираются пожениться. Алексу было девятнадцать, и он не слишком преуспевал в школе. А Лайла была что надо – немножко вспыльчива и глуповата, но в общем – что надо. Интересно, думал Рудольф, его мать походила на Лайлу, когда ей было девятнадцать? Жаль, что он не записал на пленку речь матери в тот вечер, когда отец вернулся из Элизиума, – стоило бы дать послушать Алексу. Такую речь следовало бы давать слушать всем женихам. Может, тогда они не спешили бы идти под венец.
Рудольф сидел на старом, расшатанном кресле в углу, Джули устроилась у него на коленях. Кое-кто из девушек тоже сидел на коленях у парней, но Рудольф предпочел бы, чтобы Джули этого не делала. Ему было неприятно, что его видят в такой ситуации и еще наверняка строят догадки насчет того, какие он испытывает ощущения. Есть вещи слишком интимные, и их нельзя позволять себе при людях. Он не мог представить Тедди Бойлена, сидящего при посторонних с девушкой на коленях. Но если бы он намекнул на это Джули, она бы тут же взорвалась.
Джули повернула голову и поцеловала его. Он, конечно, в свою очередь, поцеловал ее – и поцеловал с удовольствием, но лучше бы она этого не делала.
Джули подала заявление в Барнардский колледж и была уверена, что поступит. Она отлично училась. Рудольфа она убеждала поступать в Колумбийский университет. Тогда они были бы в Нью-Йорке совсем рядом. Рудольф делал вид, что пока не решил, в какой университет подавать – Гарвардский или Йельский. У него не хватало мужества признаться Джули, что он вообще не будет никуда поступать.
Джули прижалась к нему, потерлась головой о его подбородок и мурлыкнула. Будь они дома, он бы рассмеялся. Он глядел поверх ее головы на ребят, собравшихся у Бадди Уэстермена. Наверное, он здесь единственный еще ни разу не переспал с женщиной. Бадди, Дейли, Кесслер, как, впрочем, и большинство остальных, конечно, уже прошли через это, хотя, может быть, кое-кто и врал. Но он отличался от всех них не только этим. Интересно, пригласили бы его на эту вечеринку, если бы знали, что его отец убил двоих людей, брат чуть не угодил в тюрьму за изнасилование, сестра беременна – она написала ему об этом, чтобы избавить от неприятного сюрприза, – и живет с женатым человеком, а мать согласна лечь в постель с отцом, только если тот заплатит ей тридцать тысяч долларов?
Да, Джордахи – особая семейка. В этом сомневаться не приходится.
К ним подошел Бадди Уэстермен.
– Слушайте, ребята, – сказал он, – там наверху есть пунш, сандвичи и торт.
– Спасибо, Бадди, – поблагодарил Рудольф. Хоть бы Джули слезла к черту с его колен.
А Бадди стал обходить остальные парочки. У Бадди все в порядке. Он поступит сначала в Корнеллский университет, затем в юридическую школу – у его отца солидная юридическая практика в городе. Новый джаз-банд подкатывался к нему, приглашая играть у них на контрабасе, но он отказывался из преданности «Пятерым с реки». Рудольф считал, что эта преданность через три недели слиняет. Бадди был прирожденный музыкант, и он говорил: «Эти ребята творят настоящую музыку», ну и, естественно, Бадди долго не выдержит, особенно если учесть, что «Пятеро с реки» теперь имеют не больше одного ангажемента в месяц.
Окидывая взглядом комнату, Рудольф понял, что почти у всех присутствовавших были четкие планы на будущее. У отца Кесслера была своя аптека, и его сын после колледжа собирался окончить фармацевтическую школу, чтобы затем унаследовать дело отца. Отец Старретта занимался куплей-продажей недвижимого имущества, и сын намеревался поехать в Гарвард, поступить там в школу бизнеса, чтобы потом советовать отцу, как лучше распоряжаться деньгами. Семья Лоусон владела промышленным концерном, и Лоусон-младший решил изучать инженерное дело. Даже у туповатого Дейли все было уже спланировано: вместе с отцом он займется поставкой санитарно-технического оборудования.
А для Рудольфа была разверста родовая печь: «Я займусь зерном». Или может быть: «Я намерен пойти в немецкую армию. Мой отец был в ее рядах».
Рудольф почувствовал жгучую зависть ко всем своим друзьям. С пластинки слетали серебряные кружева кларнета Бенни Гудмена. Рудольф завидовал и ему. Пожалуй, больше, чем всем остальным.
В такой вечер можно понять, почему люди грабят банки.
На подобные вечеринки он больше не пойдет. Ему здесь не место, хотя только он один знает это.
Ему захотелось уйти домой. Все эти дни он страшно уставал. Вдова не могла больше работать полный день, так как ей надо было приглядывать за детьми, и Рудольф теперь не только развозил по утрам булочки, но и сразу после школы с четырех дня до семи вечера стоял за прилавком. Спортивные тренировки, конечно, пришлось бросить, как и дискуссионный клуб. Учить уроки не хватало сил, и отметки у него стали хуже. Ко всему прочему он после Рождества заболел, и простуда до сих пор не проходила.
– Джули, пошли домой, – предложил он.
Она удивленно выпрямилась у него на коленях.
– Почему? Еще рано, и такая удачная вечеринка.
– Знаю, знаю, – нетерпеливо сказал Рудольф. – Мне просто хочется уйти отсюда.
– Ко мне домой мы пойти не можем, – сказала она. – Родители пригласили знакомых на бридж. Сегодня ведь пятница.
– Я просто хочу домой, – сказал он.
– Твое дело, я тебя не держу. До дома меня кто-нибудь проводит, – рассердилась она и вскочила с его колен.
Рудольфа подмывало излить ей все, что накопилось у него на душе. Может, тогда бы она поняла.
– Господи! – сказала Джули. На глазах у нее заблестели слезы. – Мы с тобой первый раз за столько месяцев куда-то выбрались, и, едва вошли, ты уже хочешь уйти.
– Просто я отвратительно себя чувствую, – сказал он, вставая.
– Странно. Именно в те вечера, когда ты со мной, ты себя отвратительно чувствуешь. Я уверена, с Тедди Бойленом ты чувствуешь себя прекрасно.
– Оставь Бойлена в покое, Джули! Я с ним уже бог знает сколько не виделся.
– А что случилось? У него кончились запасы краски для волос?
– Очень остроумно, – устало сказал Рудольф.
Джули повернулась и, взмахнув «конским хвостом», отошла к группе ребят, собравшихся возле проигрывателя. Она была самая хорошенькая в этой комнате – курносенькая, тоненькая, умненькая, чистенькая, но как было бы хорошо, если бы она уехала куда-нибудь на полгода, на год, а потом вернулась, когда он одолел бы свою усталость, сумел спокойно все обдумать, и они могли бы начать сначала.
Рудольф поднялся наверх, надел пальто и, ни с кем не прощаясь, вышел за дверь. На проигрывателе сменили пластинку – Джуди Гарланд пела «Песню о троллейбусе».
На улице лил дождь. С реки дул холодный февральский ветер. Рудольф закашлялся, поднял воротник, но за шиворот все равно текли капли, и медленно пошел домой. Ему хотелось плакать. Он ненавидел ссоры с Джули, а они возникали все чаще и чаще. Если бы они занимались любовью по-настоящему, а не тискались по углам, после чего обоим бывало стыдно, он уверен, что они так не цапались бы. Но он не мог заставить себя перейти эту грань. Ведь пришлось бы скрываться, лгать, прятаться как преступникам. Рудольф уже давно решил: это произойдет как в мечтах или вообще ничего не будет.
…Управляющий отеля распахнул дверь номера люкс. С балкона открывался вид на Средиземное море. В воздухе пахло жасмином и тимьяном. Загорелая пара окинула равнодушным взглядом комнату, посмотрела на море. Посыльные в форме принесли многочисленные кожаные чемоданы и сумки и расставили их в комнатах.
– Ça vous plait, Monsieur? [14] – осведомился управляющий.
– Ça va [15], – ответил загорелый молодой человек.
– Merci, Monsieur [16]. – И управляющий, пятясь, вышел из номера.
Загорелая пара вышла на балкон полюбоваться морем. Они поцеловались на фоне этой голубизны. Жасмином и тимьяном запахло сильнее.
Или:
Это была лишь маленькая деревянная хижина, заваленная снегом. За ней ввысь уходили горы. Загорелая пара подошла к порогу, смеясь и отряхивая снег. В камине с ревом пылал огонь. Сугробы были такие, что за окнами шел снег. Молодые люди были совсем одни высоко в горах. Они опустились на пол перед камином.
Или:
Загорелая пара шла по красному ковру, расстеленному на платформе. Экспресс «Двадцатый век», отправлявшийся в Чикаго, стоял, сверкая, на рельсах. Молодая пара прошла мимо кондуктора в белой куртке и вошла в вагон. Купе утопало в цветах. Пахло розами. Загорелые молодые люди улыбнулись друг другу и пошли по поезду в вагон-ресторан выпить.
Или…
Отчаянно кашляя, Рудольф свернул под дождем на Вандерхоф-стрит. «Насмотрелся я кино», – подумал он.
Из оконца подвала пробивался свет. Вечный огонь Акселю Джордаху – неизвестному солдату. «Догадается ли кто-нибудь потушить в подвале свет, если отец умрет?» – подумал Рудольф.
Рудольф медлил, держа в руке ключи от дома. С того вечера, как мать произнесла свой безумный монолог про тридцать тысяч долларов, он жалел отца. Отец теперь ходил по дому медленно и тихо, как человек, только что вышедший из больницы после тяжелой операции, как человек, услышавший первый зов смерти. Раньше он всегда казался Рудольфу сильным, страшно сильным. Голос его гремел по всему дому. Двигался он резко, уверенно. Сейчас же все больше молчал, движения стали робкими, и было что-то пугающее в том, как он с виноватым видом раскладывает перед собой газету или варит себе кофе, стараясь не производить лишнего шума. Рудольф вдруг подумал, что отец готовится к смерти. Задумчиво стоя в темной прихожей, уже положив руку на перила лестницы, Рудольф впервые за многие годы задал себе вопрос: любит он отца или нет?
Он подошел к двери, ведущей в булочную, отпер ее и, пройдя в заднюю комнату, спустился в подвал.
Аксель сидел на скамейке, уставившись взглядом на огонь в печи. Рядом с ним на полу стояла початая бутылка виски. В углу, свернувшись, лежала кошка.
– Привет, пап, – поздоровался Рудольф.
Отец медленно обернулся и кивнул.
– Я зашел узнать, может, тебе нужно помочь?
– Нет, – ответил отец, взял бутылку и сделал глоток. Затем протянул бутылку Рудольфу. – Не хочешь?
– Спасибо. – Рудольфу не хотелось пить, но он почувствовал, что отцу будет приятно, если он выпьет. Бутылка была скользкая от потных рук отца. Рудольф сделал глоток. Виски обожгло рот и горло.
– Ты весь промок, – сказал отец.
– На улице дождь.
– Сними пальто. Не сидеть же в мокром.
Рудольф снял пальто и повесил на крючок.
– Как дела, пап? – Он никогда раньше не задавал отцу подобного вопроса.
Джордах тихо хохотнул, но не ответил, а снова приложился к бутылке.
– Что ты сегодня вечером делал? – спросил Аксель.
– Ходил на вечеринку.
– Значит, на вечеринку. – Аксель кивнул. – Играл на своей трубе?
– Нет.
– А чем нынче занимаются на вечеринках?
– Как бы тебе сказать. Танцуют. Слушают музыку. Валяют дурака.
– Я тебе не рассказывал, что мальчиком ходил в школу танцев. В Кельне. В белых перчатках. Там учили кланяться. В Кельне летом было так славно. Может, стоит мне вернуться туда. Там сейчас все будут начинать с нуля – может, там мне и место. Развалина среди развалин.
– Прекрати, пап, – сказал Рудольф. – Не говори так.
Аксель еще глотнул виски. Потом сказал:
– Сегодня у меня был гость. Мистер Гаррисон.
Мистер Гаррисон был владельцем дома и каждый месяц третьего числа приходил лично собирать арендную плату. Ему было больше восьмидесяти, но он всегда являлся день в день. Лично.
– Но ведь сегодня не третье, – удивился Рудольф. – Что ему понадобилось?
– Дом собираются сносить. Здесь будут строить новый квартал. Первые этажи пойдут под магазины. Порт-Филип разрастается. Прогресс есть прогресс, как сказал мистер Гаррисон. Хоть ему и восемьдесят, но он за прогресс. Вкладывает в это дело кучу денег. В Кельне дома сносят с помощью бомб. В Америке – с помощью денег.
– Когда мы должны съехать?
– Не раньше октября. Мистер Гаррисон сказал, что сообщает мне об этом пораньше, чтоб я успел что-то приискать. Он старик заботливый, мистер Гаррисон.
Рудольф окинул взглядом знакомые потрескавшиеся стены, железные дверцы печей, зарешеченное окошко, выходящее на тротуар. Странно было думать, что все это – этот дом, который он знал всю жизнь, – вдруг исчезнет. Он всегда считал, что будет уезжать из него. И ему не приходило в голову, что не он расстанется с домом, а дом расстанется с ним.
– И что ты собираешься теперь делать?
– Не знаю, – пожал плечами Аксель. – Может, пекари нужны в Кельне. Если бы мне посчастливилось встретить у реки какого-нибудь пьяного англичанина в дождливую темную ночь, я, наверное, сумел бы вернуться в Германию.
– Ты это о чем? – настороженно спросил Рудольф.
– Я так и приехал в Америку. В Гамбурге в одном баре в районе Санкт-Паули какой-то пьяный англичанин размахивал пачкой денег. На улице я пошел за ним, догнал и пригрозил ножом. Он начал драться. Англичане ничего не отдают без драки. Тогда я всадил в него нож, забрал деньги, а его самого спихнул в канал. Когда случилась история с твоей учительницей, я ведь сказал тебе, что зарезал человека, верно?
– Да, – сказал Рудольф.
– Я все собирался рассказать тебе, как это было, – сказал Аксель. – Когда твои приятели говорят, что их предки прибыли сюда на «Мейфлауэре», ты можешь сказать, что твои предки прибыли с помощью украденного бумажника, набитого пятифунтовыми банкнотами. Ночь была туманная. Тот англичанин, должно быть, рехнулся, разгуливая по такому району, как Санкт-Паули, с этакими деньжищами. Может, он хотел перепробовать всех проституток в этом районе и боялся, что не хватит денег. Вот я и говорю себе: может, встречу какого-нибудь англичанина у реки, и тогда мне удастся оплатить обратный билет на родину.
«Господи, – с горечью подумал Рудольф, – это называется – пришел домой уютно поболтать со стариком отцом на его рабочем месте…»
– Если тебе когда-нибудь доведется убить англичанина, – продолжал отец, – ты захочешь рассказать об этом сыну, верно?
– Мне кажется, тебе не следует рассказывать об этом на всех углах, – заметил Рудольф.
– Ты что, собрался сдать меня в полицию? Ну как же. Я совсем забыл – ты у меня ведь высокопринципиальный.
– Пап, ты должен забыть об этом. Какой смысл после стольких лет ворошить прошлое?
Аксель помолчал.
– О, я помню не только это. – Он рассеянно поднес бутылку ко рту. – Я о многом вспоминаю, когда работаю здесь ночью. Помню, как наклал в штаны во время отступления по Маасе; помню, как воняла моя нога на вторую неделю в госпитале; помню, как в гамбургском порту таскал мешки с какао, каждый весом двести фунтов, и швы на ноге открылись и рана кровоточила; помню, как англичанин, когда я спихивал его в канал, кричал: «Ты не сделаешь этого!» Помню день моей свадьбы. Я мог бы рассказать тебе об этом, но думаю, тебе интереснее было бы послушать рассказ матери. Помню выражение лица человека по имени Абрахам Чейз в Огайо, когда я выложил перед ним на стол пять тысяч долларов, чтобы ему легче было перенести позор своих дочерей, которые давали всем подряд. Не только Томасу. – Аксель снова отхлебнул виски. – Двадцать лет я работал, и все ушло на то, чтобы вызволить из тюрьмы твоего брата. По мнению твоей матери, я поступил неправильно. Ты тоже так считаешь?
– Нет, – сказал Рудольф.
– Теперь тебе будет трудно, Руди. Прости меня. Я старался сделать как лучше.
– Ничего, как-нибудь выкарабкаюсь, – ответил Рудольф, хотя далеко не был в этом уверен.
– Делай деньги, – продолжал Аксель. – Не позволяй себя дурачить. Не верь всей этой газетной болтовне о других ценностях. Богачи беднякам читают проповеди о ничтожности денег лишь для того, чтобы загребать эти деньги самим и не дрожать за свою шкуру. Будь таким, как Абрахам Чейз – ты бы видел выражение его лица, когда он брал со стола деньги. Сколько у тебя сейчас в банке?
– Сто шестьдесят долларов.
– Не расставайся с ними. Не давай ни цента никому. Даже если я приползу к тебе на коленях, умирая с голоду, и попрошу на кусок хлеба. Не давай мне и десяти центов.
– Ты зря так себя разбередил, папа. Пойди приляг. Я поработаю здесь за тебя.
– Нет, тебе здесь не место. Можешь заходить ко мне поболтать, но к противням не прикасайся. У тебя есть дела поинтереснее. Учи уроки. Выучивай все! И обдумывай каждый свой шаг, Руди. Грехи отцов!.. Скольким же поколениям страдать? Отец после ужина обычно читал нам Библию в общей комнате. Я ничего не смогу тебе завещать, кроме грехов, но уж их-то больше чем достаточно. Два мертвеца. Все шлюхи, с которыми я спал. И то, что я сделал с твоей матерью. И то, что позволил Томасу расти как сорная трава. Да и кто знает, что теперь делает Гретхен? Похоже, матери кое-что о ней известно. Ты видишься с сестрой?
– Угу, – признался Рудольф.
– Чем она занимается?
– Тебе лучше не знать об этом.
– Значит, как я и думал, – сказал отец. – Бог все видит. Я не хожу в церковь, но я знаю: Бог все видит! Ведет учет всему, что делает Аксель Джордах и его поросль.
– Ну что ты такое говоришь, – сказал Рудольф. – Ни за чем он не следит. – Его атеизм нельзя было поколебать. – Просто тебе не повезло. Завтра все может измениться.
– Расплачивайся за свои грехи. Вот что говорит Бог.
Рудольфу показалось, что отец уже забыл о нем и, если бы его не было сейчас в подвале, все равно говорил бы то же самое, тем же глухим, отрешенным голосом.
– Расплачивайся, грешник, – повторил Аксель. – Я накажу тебя и детей твоих за деяния твои. – Он сделал большой глоток виски и зябко передернул плечами. – Иди ложись. Мне надо еще поработать.
– Спокойной ночи, пап, – сказал Рудольф и снял пальто с крючка.
Отец молча сидел с бутылкой в руках, глядя прямо перед собой невидящим взглядом.
«Господи, – подумал Рудольф, поднимаясь по лестнице, – а я-то считал, что это мать сошла с ума».
IIАксель глотнул виски и принялся за работу. Он поймал себя на том, что напевает какой-то мотив, но не мог узнать его, и это вызвало у него беспокойство. И вдруг вспомнил: эту песню напевала его мать, возясь на кухне.
Он тихо запел:
Schlaf, Kindlein, schlaf,Dein Vater hat die Schlaf,Die Mutter hat die Ziegen,Wir wollen das Kindlein wiegen.[17]
Родной язык… Слишком далеко забросила Акселя судьба. А может, недостаточно далеко?
Поставив на стол последний противень с булочками, он подошел к полке и достал жестяную банку с изображенными на ней черепом и скрещенными костями. Зачерпнул маленькой ложкой порошка, взял наугад булочку, раскатал ее, замесил в тесто порошок, снова слепил шарик, положил его на противень и сунул в печь. «Мое последнее послание этому миру», – подумал он.
А кошка пристально следила за ним. Подойдя к раковине, он снял с себя рубашку, вымыл лицо, руки, грудь. Вытерся куском мешка из-под муки и снова оделся. Потом сел на скамейку и поднес к губам почти пустую бутылку.
Глядя на печь, он мурлыкал себе под нос мотив песенки, которую пела его мать на кухне, когда он был еще совсем маленьким: «…спи спокойно…»
Точно в положенное время Джордах вытащил противень. Все булочки выглядели одинаково.
Он выключил в печи газ, надел пальто и кепку, прошел в булочную и вышел на улицу. Кошка шла за ним. Было темно. По-прежнему шел дождь, пришлось ногой отшвырнуть от себя кошку, и она убежала.
Он заковылял к реке.
Подойдя к сараю, Джордах отомкнул замок и зажег свет. Подхватив лодку, он перенес ее на шаткие мостки причала. Река была неспокойной, волны бежали белыми барашками, и шлепками ударялись о берег. Причал был защищен дамбой, и вода здесь была спокойная. Аксель спустил лодку на воду, легко спрыгнул с мостков на дно, вставил весла в уключины и оттолкнулся от берега.
Он направил лодку в бушующие воды. Течение тут же подхватило ее и понесло. Он начал выгребать на середину реки. Волны перехлестывали через борт, в лицо бил дождь. Вскоре лодка глубоко осела. Он продолжал мерно грести. Река мягко несла его к Нью-Йорку, к заливам, к океану.
На следующий день перевернутую лодку обнаружили у Медвежьей горы. Тело Акселя Джордаха так и не нашли.
Часть вторая
Глава 1
1949 год
Доминик Джозеф Агостино сидел за маленьким письменным столом в комнатке позади гимнастического зала и читал заметку о себе в спортивной колонке газеты. Он был в очках, что придавало мягкое, ученое выражение его круглому лицу с курносым приплюснутым носом и маленькими черными глазками под испещренным шрамами лбом. Три часа, в зале пусто – самое прекрасное время дня. Члены клуба, в основном пожилые бизнесмены, желающие похудеть, собирались только в пять. После этого он может провести несколько раундов с наиболее амбициозными, стараясь никого не покалечить.
Статью о себе он обнаружил накануне вечером в почтовом ящике, на спортивной странице. Команды «Красные носки» в городе не было, и никто никуда не ехал, а место на спортивной странице заполнить надо было.
Доминик родился в Бостоне и в свое время был известен среди боксеров под кличкой Бостонский Красавчик. Он никогда не владел сильным ударом, и, чтобы остаться в живых, ему приходилось изрядно танцевать. В конце двадцатых и начале тридцатых годов он одержал несколько блестящих побед в легком весе, и сегодня спортивный обозреватель, слишком молодой, чтобы помнить Доминика на ринге, не пожалел красок, расписывая его поединки с Канцонери и Макларнином, чья звезда только еще всходила. Дальше в заметке сообщалось, что Доминик сейчас в хорошей форме – хотя и это не совсем соответствовало действительности, – и цитировалось его шутливое замечание о том, что некоторые молодые члены клуба уже «достают» его на тренировках и он подумывает взять себе помощника или надеть маску, чтобы сохранить красоту. Заметка была выдержана в дружелюбном тоне, и Доминик представал перед читателями ветераном золотого века спорта, за многие годы, проведенные на ринге, научившимся подходить к жизни философски. Еще бы: он потерял все до последнего цента, и ему оставалось только философствовать. Об этом, правда, ничего не сказал автор заметки.