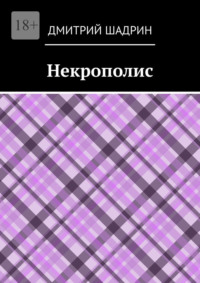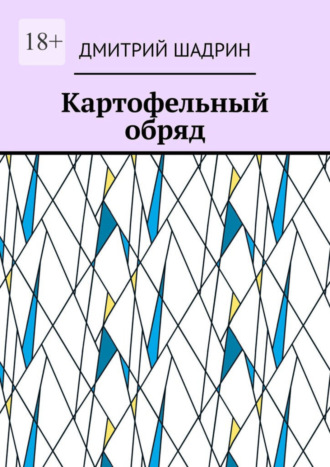
Полная версия
Картофельный обряд
– И что теперь? – спросил участкового человек из ЖЭУ.
– Будем составлять протокол, – оторвав подозрительный взгляд от кучи на кровати, сказал участковый.
Человек из ЖЭУ посмотрел на часы и тяжело вздохнул.
14
Савелий Овер с ожесточением вонзил штыковую лопату в сухую рассыпчатую землю, нажал ногой на штык и погрузил его в землю. Болезненно морщась, приподнял лопату и высыпал землю рядом с очередной лункой. Потом Овер оглянулся и посмотрел туда, где еще лунок не было, но где они должны, во что бы то ни стало, появиться. Будь они неладны. Овер обреченно и тяжело вздохнул и опять вонзил лопату в землю.
За Овером сгибалась и горбилась мать. Она бросила в лунку горсть яичной скорлупы и сухого навоза, а потом – картофельный клубень.
– Земля землица дай картофелю уродиться, – пробормотала мать Савелия.
– Расти картошка большая-пребольшая, порадуй нас урожаем, – бойко подхватила жена Овера и штыковой лопатой, из которой то и дело выскакивал расхлябанный штык, закопала лунку.
– Мама! – остановившись, Овер выпрямился и, потирая рукой ноющую поясницу, с досадой посмотрел на мать. – Можно, без этих дурацких присказок? А? Она что – Овер с ненавистью покосился на ведро картошки: – без них, не вырастет что ли?
Вжав голову в сутулые плечи, мать ответила виноватой улыбкой:
– Если устал, иди в дом, отдохни. Мы тут и без тебя… управимся.
– Да разве я об этом? – Овер раздраженно вонзил штык лопаты в землю и ударил по нему ногой. – Просто…
– Ты бы лучше ямки поглубже и поширше делал, – перебила и уколола Ева.
– Мы что могилы копаем что ли? – огрызнулся Овер. Он еще раз ударил ногой по наступу, загоняя штык глубже в землю; с ожесточенным усилием поднял лопату и резким сердитым движением высыпал землю рядом с новой лункой.
Машинально делая лунку за лункой, Овер с тихим отчаяньем подумал, что он роет могилу. Только могила эта размазана по всему дачному участку. Но если сложить все выкопанные ямки, то получится одна большая глубокая яма, которая будет впору для него, Савелия Овера.
За спиной доносилось упрямое бормотание матери, которое вместе с яичной скорлупой и навозом сопровождало клубень в ямку. И это бормотание напоминало отходную молитву, напутствие прямиком на тот свет.
– На части так, – предупредила мать. – А то, как в прошлом году, вырастит мелочь одна.
Точно очнувшись, Овер перестал копать лунки и заодно копаться в себе самом, и словно землю швырнул сердитый взгляд в мать, которая как будто низко кланялась земле.
Но почему так? Почему?
Вместо того, чтобы игрой на скрипке торкать и восхищать Вену, Париж, Нью-Йорк, Берлин, он в старом дырявом фраке, в котором он жутко похож на огородное пугало, сажает картошку. Вот до чего он докатился!
Нет! Он так и не стал виртуозом. Он даже не осмелился распрощаться с этим захолустьем. На кой ляд он столько времени, сил и нервов ухлопал на скрипку? С утра до вечера: Моцарт, Гайдн, Гендель, Бах. Зачем он оканчивал музыкальную школу, училище-чистилище, консерваторию? Надо было вовремя остановиться. А лучше совсем не начинать. Ну не дано ему. Не дано. И никто в этом не виноват. Даже он сам.
Если бы он только знал, чем обернуться мечты и надежды. Он бы давным-давно ужаснулся и распрощался с музыкой. Хотя… Овер остановился и внимательней посмотрел на грядки. Чтобы это изменило? Ну не был бы он бездарным скрипачом, так стал бы каким-нибудь пропащим нищим учителем русского языка и литературы. Как не крути, все равно бы сейчас он копал лунки под огородные молитвы матери, которая всей душой упрашивала картошку вырасти большой-пребольшой. Овер обреченно выдохнул и выкопал очередную лунку.
Савелию мстительно вообразил: вместо картошки в землю закапывают концерт для фортепьяно с оркестром №5 ре мажор Моцарта, церковную сонату того же Моцарта, фестивальный марш ре мажор Луи Шпора, концерт для скрипки с оркестром ре минор Феликса Мендельсона Бартольди, оперу «Осень» Антонио Вивальди, рондо из концерта для скрипки ре минор Рихарда Штрауса, «Французскую сюиту» Франсиса Пуленка, рондо соль минор Антонина Дворжака, концерт для гобоя фа минор Георга Филиппа Телемана и так далее и тому подобное. И пусть им земля будет камнем.
И тут же точно в отместку в голове назойливо и насмешливо зазвучал не убиваемый Моцарт. Его пятнадцатый квартет пробился сквозь шумовую завесу попсы, которая доносилась с террасы из переносного радиоприемника.
Как только Савелия осознал, что любил не классическую музыку, а себя в ней, она стала раздражать и угнетать Овера, как постылая жена. К тому же ему казалось, что Моцарт и компания обманули и предали его. Оставили с картофельными лунками. А раз так, то пошли они все к Киркорову. Он с извращенным удовольствием слушал всякий ширпотребный мусор, словно пытался назло Баху, Генделю, Брамсу отморозить себе уши.
В пику Бетховену, Григу, Прокофьеву, Паганини Савелий Овер слушал бы и металлический скрежет и даже рев унитазного бачка, крути такое по радио. Будь прокляты Шостаковичи, Шопены, Шуманы, Шнитке… Будь прокляты каденция, акценты, альтерации, скрипичный ключ, аппликатура, арпеджио, бекар, бельканто, бемоль, бесконечный канон, вариации, вводный тон, вибрато, гаммы, гармонии, гетерофония, гармония, глиссандо группетто – все эти приблуды, приспособы и отмычки, с помощью которых проклятая Эвтерпа вскрывает душу, точно дверь, и вламывается в нее.
А насмешливо звучавший в голове Моцарт напомнил: «Лунки должны были быть. Их невозможно было миновать. Потому что дело не в скрипке, а в тебе самом»
– Опять частишь, – покачав головой, упрекнула мать.
Опомнившись, Савелий остановился и, посмотрев на согнувшуюся над грядкой мать, опять хотел в нее бросить что-то резкое и злое. Но тут он услышал сообщение по радио. Торопливо и бесстрастно вываливая местные новости, журналистка монотонным голосом пономаря проговорила:
– Сегодня во второй половине дня на улице Славы перед входом в ресторан «Амадей» был смертельно ранен местный бизнесмен Кедров Анатолий Дмитриевич. Возбуждено уголовное дело.
После жизнерадостной рекламы Фредди Меркьюри торжественно затянул «Мы – чемпионы». Застывший Савелий удивленно уставился на веранду.
– А я ведь его знал, – сказал Савелий и просиял. И солнце, словно свет рампы мягко окутало его. И овациями Савелию зашелестели листва, кусты, трава. И птичья а капелла стала радостно подпевать Меркьюри.
– Кого? Фредди Меркьюри? – Ева закопала лунку.
«Мы – чемпионы, мой друг», – торжествовали на веранде.
– Какого еще Меркьюри, – от досады Савелий поморщился.
– А кого же тогда?
– Расти картошка большая-пребольшая, – пробормотала согнувшаяся в три погибели мать и кинула в очередную лунку, очередную горстку навоза и яичной скорлупы. «Вот так же бросают щепоть земли в могилу».
– Тольку Кедрова. Вот кого! – Савелий недоверчиво и осторожно улыбался, словно только что из тех же местных новостей узнал, что сорвал джекпот в лотерею и не может поверить в такое счастье; оно просто не укладывалось в голове.
– Я у него Моцарта играл на званом вечере, – и, вспомнив тот вечер, Савелий тут же потускнел и понуро съежился. Насмешливый Моцарт диссонансом вклинился в «Вы принесли мне славу и счастье» и поставил Меркьюри на место, напоминая ложку дегтя в бочке меда.
Раньше от Меркьюри Савелия воротило. Когда Савелий слышал Фредди, то вспоминал женоподобное «Вологде – где». Но только не сейчас. Теперь душа Савелия пела бы и пела «Мы – чемпионы, мой друг». Если бы не насмешливый, язвительный Моцарт. Будь он неладен. Вот надо было ему выскочить как черту из табакерки.
– Земля землица дай картошке большой-пребольшой уродится, – пробормотала мать, как бы кланяясь ямке.
– Ты бы только видела его хоромы. Прямо музейные палаты какие-то. Одним словом: Барокко. Причем итальянское. Чего там только нет. А стол. Какой стол. Ты бы видела эти блюда. Деликатес на деликатесе. Тут тебе и лобстеры, и икра белужья, и икра осетровая, и пирог с мраморной говядиной, и пирог с осетриной, и рыба фугу, и, конечно, фуа-гра, и фриттату с лобстером, и соусы всякие. А уж о десертах я и не говорю… – дрожащий перекошенный рот Савелия наполнился слюной, и он непроизвольно сглотнул. – И подруга у него… словно с обложки «Плейбоя», – Савелий опять сглотнул, затуманенным от воспоминаний взглядом глядя на веранду, откуда доносилось « Это время победителей». – Живут же люди! – вздохнул Савелий, совершенно забыв, что Кедров уже не живет. Теперь Савелию казалось, что Меркьюри поет не ему, но Кедрову. Вот кто настоящий чемпион. – А ведь он мой ровесник. И не просто ровесник, он мой школьный приятель.
– И что? Он тебя так и не узнал? – догадливая Ева закопала очередную лунку.
– Конечно, не узнал, – горько усмехнулся Савелий. – Нужно ему больно меня узнавать.
– Да… – задумался Савелий и покачал головой. «Мне нужно идти вперед, только вперед!», – накручивала веранда, словно книга для пропащих и отчаявшихся под названием «Как добиться успеха и заработать миллион». – Как странно судьба распорядилась. Кедров ушел так далеко, что дух захватывает. А я остался вот здесь… – Савелий обвел участок потухшим печальным взглядом, посмотрел на лопату, воткнутую в землю, и обреченно вздохнул.
– Да ты ему завидуешь что ли? – с прищуром и усмешкой кольнула Ева.
Савелий дернулся, как будто его ударили током, и весь вспыхнул.
– Зависть это грех, – буркнула мать в землю. Та одобрительно промолчала.
– Я?! Ему?! – растерялся Савелий, словно застигнутый женой врасплох за чем-то вроде мастурбации.
– Ты. Ему, – кивнула Ева, пронизывая Савелия испытующим острым взглядом.
– Зависть это грех, – проскрипела мать, глядя в лунку и подсыпая туда яичную скорлупу.
– И ты мама? – вскипел Савелий. – Ну, все. С меня хватит! Достало уже все это! – он пнул лопату, и она упала вдоль начатой грядки.
– А лопата-то здесь при чём? – спросила Ева.
– Притом! Я музыкант, а не… – он запнулся, ища слово поувесистей и задыхаясь, – Не батрак какой-нибудь.
– А я с твоей мамой выходит какие-нибудь? – усмехнулась Ева.
Савелий посмотрел на мать, потом на жену так, словно они были виноваты перед ним, но не хотят ни себе, ни тем более ему в этом признаваться. Он раздраженно махнул рукой.
– Да что с тобой говорить, – он направился в дом, топча рассаду, цветы и сердито бормоча себе под нос. И вот он поднялся на веранду и исчез за дверью.
– И без него обойдемся, – вздохнула Ева.
Анастасия Ростиславовна одобрительно кивнула.
– Пусть отдохнет. А то он весь издергался, – сказала мать Савелия, сочувственно поглядев на веранду.
Нахмурившись и покачав головой, Ева промолчала и принялась за работу, сосредоточенно и споро выкапывая и закапывая лунки.
Внезапно радио смолкло. В доме визгливо зарыдала скрипка. Это Савелий взялся за Гайдна.
– Ну, началось, – передернувшись, Ева поморщилась и закопала лунку так поспешно, словно в ней вместо клубня, были жалобные всхлипы скрипки.
А ведь было время, когда Еве нравилось, как Савелий играет. Ева прислушивалась к его скрипке. И та утешала и подбадривала: «Все еще сложится. Надо только набраться терпения». И Ева надеялась, что Савелий еще себя покажет. И они наконец-то заживут по-человечески. Но потом с Овером все стало ясно. Теперь, чтобы не играл Савелий, скрипка только стонала и выла: «Дальше ехать некуда! Все кончено!» Ева перестала притворяться, что ей нравиться классика и вернулась к Лепсу, Киркорову и Билану. «Рюмка водки на столе» была милее всех квартетов Моцарта.
Ева сердито посмотрела на дом, где рыдала скрипка, которую терзал Савелий. Гайдн запнулся, словно испугавшись взгляда Евы. Савелий попытался продолжить, но Гайдн – ни в какую. Скрипка болезненно взвизгнула и смолкла. Из дома выскочил Савелий с перекошенным бледным лицом, уперев локти в живот и согнув руки. Дрожащие ладони и растопыренные скрюченные пальцы он повернул к небу, словно пытаясь определить, идет ли дождь.
– Что с тобой? – встревожилась мать.
– Что и следовало ожидать! – в отчаянье воскликнул Савелий.– От лопаты мои пальцы совсем одеревенели. Это не пальцы, а какие-то… клубни. Вот как я буду завтра выступать в филармонии? А? Будь проклята ваша картошка!
– Не говори так, – мать побледнела.– Она же обидится.
Савелий что-то буркнул и метнулся в дом.
Мать Савелия посмотрела на Еву, словно ища у нее поддержки. Ева снисходительно и успокаивающе улыбнулась.
– Не обращайте внимания, – сказала Ева. – Вечно он из мухи делает слона.
Мать печально вздохнула и покачала головой, мол, кому, как не ей, знать об этом.
– Ну что продолжим? – Ева одним махом выкопала лунку. Мать Овера бросила туда яичную скорлупу и картофелину.
– Картошка-картошка не дай нам протянуть ножки. Вырасти большая, животы наши ублажая, – пробормотала Анастасия Ростиславовна.
– Аминь, – сказала Ева и закопала ямку.
15
Овер – скрипка, Наталья Рослик – скрипка Максимильян Плохово – альт, Анна Бауфал – виолончель исполняли струнный квартет №2 опус 76 Гайдна. Слушатели сидели в шахматном порядке и изредка обстреливали сцену филармонии глухим покашливаньем, словно собираясь что-то сказать, кому-то возразить. Тому же Гайдну что ли. Овер невольно прислушивался, и напряженно ждал этот кашель.
Взвинченный, весь на нервах Овер боялся сфальшивить, случайно схватить не ту ноту. От страха и перенапряжения он ничего не чувствовал. Савелию все еще казалось, что вместо пальцев у него картофельные клубни. А вместо скрипки – штыковая лопата…
Вот опять глухо кашлянули. Овер содрогнулся и посмотрел в зал. Вместо сумрачных рядов кресел ему померещились картофельные грядки. Оверу захотелось вскочить и убежать, бросив Гайдна на произвол судьбы. Но Савелий стиснул зубы и остался на сцене.
В третьей части опуса на Овера опять что-то нашло и, схватив за горло, принялось душить. В глазах потемнело. Меркнущая сцена стала сжиматься. Потолок падал, смыкались стены. Овер как будто бы заиграл на своих перетянутых нервах. Они звенели. Того гляди оборвутся. На лбу помертвевшего Овера проступила холодная испарина. Сцена и зал дернулись и закружились. Он покачнулся, но все-таки удержался на стуле и продолжил машинально, как заведенный, водить смычком по струнам.
Скрипачка Рослик толкнула Овера сердитым взглядом, мол, ты чего совсем что ли. Виолончелистка Бауфал посмотрела на Савелия с испугом, а Плохово сочувствующе и понимающе, как будто и сам когда-то испытал такое. Музыканты, слушатели и, кажется даже сам незримый, но такой оглушительный Гайдн уставились на Овера. Сковали и подперли взглядами.
«Что я здесь забыл?» Овер посмотрел в настороженный сумрак так, будто это был не зал филармонии, а сотки, которые предстоит заполнить картофельными лунками. «Когда другие гребут миллиарды, я терзаю скрипку и огребаю отчаянье с громким ужасом». Тут же вспомнив барочный особняк Кедрова, роскошный пир, Оверу опять захотелось вскочить со стула и разбить скрипку о пюпитр. Но вместо этого он с обреченным видом продолжил играть Гайдна.
Наконец концерт закончился. Зал скупо затрещал сухими сучьями и валежником аплодисментов.
– Ты чем это вчера занимался? – подозрительно глядя на Овера, спросила Рослик за кулисами. На творожных щеках скрипачки проступили и расплылись красные пятна.
– Картошку сажал, – Овер рукавом черного сюртука отер холодный потный лоб.
– Картошку? Знаем мы эту картошку! – сердито усмехнулась Рослик.
– Может, хватит уже докапываться? – осадила ее виолончелистка. Скрипачка Рослик вспыхнула, ее лицо исказилось, пятна на щеках стали отчетливыми багряными. – У Вас, наверное, давление? – мягко спросила Бауфал Овера.
– Давление у него, – фыркнула Рослик и точно лошадь тряхнула головой.
Бауфал так посмотрела на Рослик, словно сейчас схватит виолончель и огреет ей скрипачку.
– Вам надо чай с лимонником выпить, – сказала Бауфал Оверу.
Тот виновато забормотал, точно оправдываясь, и стал растерянно озираться, словно ища что-то. Может быть, самого себя.
– Я знаю, что ему надо выпить, – улыбнулся Плохово и ободряюще похлопал Овера по плечу.
Овер вздрогнул и с невольным испугом посмотрел на Плохово. Но потом, словно опомнившись, Овер нахмурился и провел по вспотевшему лбу тыльной стороной ладони.
– Вот-вот о чем и речь, – усмехнулась Рослик и зацокала прочь, слегка приподняв подол длинного темно-синего платья. – Картошку он сажал, – она опять сердито фыркнула и тряхнула головой.
16
После филармонии Плохово уломал Овера зайти в «Лунный свет». Они расположились за столиком у арочного витражного окна. Похожая на лунатичку бледная заторможенная официантка, с голубыми волосами, большими по-рыбьи выпуклыми сонными глазами, в черной майке и короткой зеленной юбке, подплыла и медленно поставила на столик две бутылки темного пива. В полумраке плескалась Лунная соната, обернутая в мелодию старого шлягера «Я приворожил тебя» Скримина Джея Хокинса. На экране под потолком крутился клип на этот кавер: за фортепьяно загадочно и обольстительно усмехалась Джулиана Сарас, бледная светловолосая женщина в вечернем красном платье. Овер и Плохово наполнили высокие пузатые бокалы.
– Вот что сейчас нужно, – сказал Овер, мрачно глядя на экран, где красиво, завораживающе извивались фигуристые обольстительницы в красном, словно пианистка Сарас взяла и размножилась.
Плохово с грустным недоумением посмотрел на настенный экран, а потом на хмурого унылого Овера.
– Бетховен должен быть сексуально привлекательным. Его нужно подавать с красным откровенным платьем, высокой грудью, длинными ногами и смазливым лицом. А еще лучше перемешать его с какой-нибудь популярной лабудой. Просто Бетховен уже не катит, и даром не упал.
Увы… У меня нет ни красного платья, ни высокой груди, ни смазливого лица, – Овер сверху вниз провел ладонью по лицу, словно пытаясь его стереть, и вздохнул.
– Можно сделать тоже, что сделали двое горемык в «Джазе только девушки» или один горемыка в «Тутси», – грустно улыбнулся Плохово.
– Я буду выглядеть как полный идиот, или как недоделанный трансвестит, – Овер сделал большой судорожный глоток из бокала, словно пытаясь горьким пивом перебить горькую мысль.
– Трансвеститы сейчас в модном тренде, – заметил Плохово и отпил из бокала.
– Я и так на сцене как клоун в цирке.
– Даже так? – подняв брови, Плохово с грустным участием заглянул в глаза Оверу.
Между тем извивавшихся в красном вечернем сменили четыре музыкантши в ажурно черном откровенно ночном, сквозь которое соблазнительно просвечивало нижнее белье. Они бойко и задорно принялись за струнный квартет №2 Гайдна. Глядя на это, Овер горько усмехнулся и покачал головой.
– Сегодня во время выступления мне захотелось разбить скрипку, – признался Овер. – Я еле-еле сдержался, так у меня зачесались руки… и мысли – отпил и продолжил:
– Мне кажется, я впустую трачу жизнь. Она потеряла и смысл и вкус. Какая-то бестолковщина, бурда… Каким я был, таким остался и останусь до скончания века. Без денег, без будущего, ничтожество ничтожеством. И никакого просвета, – отхлебнул и добавил:
– А тут еще эта ипотека, будь она неладна. Жена уговорила меня купить этот треклятый дом… И ни Моцарт, ни Гайдн, – Овер глянул на музыкантш в черном и таком ажурном, – ни Бетховен не могут ни помочь, ни даже утешить. Их музыка давно уже не про меня.
– А какая же музыка про вас? – спросил Плохово.
Овер хмуро пожал плечами.
– Музыка отчаянья и скорби.
– Траурный марш? – тихо и грустно улыбнулся Плохово.
– Белый шум… Музыка мертвой тишины, – Овер торжественно поднял бокал, как бы провозглашая тост, и сделав пару глотков, отер рот рукавом.
Помолчали, окуная глаза в плазму: полупрозрачных музыкантш сменил узколицый Брайан Ферри и меланхоличным слабым голосом стал умолять не останавливать танец.
Оторвав глаза от экрана, Овер напоролся на испытующий пристальный взгляд Плохово. Холодок пробежал по спине. Смутившись, Овер поджался и внутренне напрягся. Чего это Плохово так уставился?
– Я, наверное, вас совсем… загрузил, – проговорил Овер с таким виноватым и в тоже время настороженным видом, словно испортил воздух. – В моем возрасте уже должно быть стыдно, говорить про такое.
– Какое такое? – удивленный Плохово сложил брови домиком.
– Ну что с деньгами туго и вообще… она… не удалась, – Овер вздохнул и так посмотрел в бокал, словно пытался на дне его найти если не истину, то хотя бы слова в свое оправдание. – Но как жить, когда так жить… не хочется? А никакой другой жизни уже не будет. И, кажется, что ты проживаешь чужую жизнь, такую никчемную и убогую, что тошно становиться.
Плохово промолчал, пристально глядя на Овера. Овер втянул голову в плечи, поежился
– Что? – спросил Овер в тревожном раздражении.
– Вот смотрю я на вас, и знаете, кого я вижу? – наконец сказал Плохово.
– Кого?
– Обугленного человека.
Савелий нервно сглотнул.
– Дружище, вы перегорели.
– Перегорел? – пробормотал растерявшийся Овер.
– От вас остались одни головешки, зола да пепел… Со мной уже было такое, – сказал Плохово, задумчиво комкая и катая салфетку, и все так же странно глядя на Овера, словно что-то прикидывая в уме, пытаясь на что-то решиться.
– Неужели? – Овер недоверчиво заглянул альтисту в лицо. Не подкалывает ли тот над ним? Лицо Плохово было сосредоточенным. А его глаза застилал холодный туман, словно Плохово был и здесь и еще черт знает где. – И как вы прошли через это?
– Мне помог один… человек, если можно так его назвать – тень набежала на лицо Плохово, собрала морщины на лбу, которые тут же исчезли вместе с тенью воспоминания. – А теперь… я могу помочь вам.
– Вы превратите меня в Ванессу Мэй что ли? – усмехнулся Овер, покосившись на экран. Ванессу штормило от сэмплированного, словно бы накаченного энергетиками и анаболиками Вивальди.
Плохово отрицательно покачал головой.
– Просто надо перед кое-кем… выступить, – сказал Плохово, решившись наконец.
– Хм… А кого исполнять? Моцарт? Гайдн? – спросил Овер.
Плохово опять покачал головой.
– Неужто – Шнитке?
– Подъезжайте ко мне завтра вечером часов… в восемь, – Плохово вопросительно посмотрел на Овера. Тот нерешительно кивнул. Плохово назвал адрес. – Запомните или лучше записать?
– Лучше записать, – вздохнул Овер. Память и раньше у него была дырявая. А теперь, когда он впал в уныние и отчаянье, она превратилась в решето. Например, он мыл руки и тут же забывал об этом. Приходилось перемывать.
Подозвав медленную свалившуюся с Луны официантку, Плохово попросил авторучку. Та принесла огрызок карандаша. Поблагодарив, Плохово разгладил смятую салфетку и кое-как нацарапал на ней свой адрес. Сложив салфетку, Овер засунул ее в карман сюртука.
– Итак, до завтра? – сказал Плохово, когда они вышли на улицу.
Овер кивнул, пожал сухую холодную ладонь и направился к парковке гостиницы, где его ожидало такси «Везет». Подходя к парковке, Овер опомнился и стал раскаиваться: какого черта он стал исповедоваться Плохово? Теперь Плохово потешается и вертит пальцем у виска. А в голове крутилось «Я околдовал тебя», приправленное Лунной сонатой.
– Как жить, когда жить не хочется? – бурчащим голосом напел в такт назойливой мелодии.
И к чему такая таинственность? Почему Плохово сразу не рассказал, что да как? Все это выглядело странным и подозрительным. Оверу пришли на ум сыр и мышеловка, западня и вырытая самому себе могила. Холодным острым когтем царапнул смутный томительный страх и стал вить из Овера ледяные веревки. Ехать или не ехать? – вот в чем вопрос. Он решил, что… Что же он решил?
В такси по дороге домой Овер осторожно развернул салфетку. Глядя на адрес, написанный колючим подчерком с наклоном влево, ощутил тот же тошный страх. Поежившись, Он хотел разорвать салфетку, но все тот же непонятный страх и та же тошнота достойная пера Сартра, остановили, парализовали. Савелий словно становился другим, бурьяном прораставший в нем, мешавший, запутывавший, низводивший Овера до подвешенного на веревках картонного паяца.
– Больше никаких портерных разговоров по душам, тем более на ночь глядя, – Овер не заметил, что сказал это вслух.
– Что? – встрепенулся таксист, пожилой рыхлый человек с седыми волосами бобриком и узкими очками на выступающем кончике носа. Он смахивал на политолога Глеба Павловского. – Вы что-то сказали?
Овер отрицательно и сердито помотал головой и, скомкав салфетку, засунул ее обратно в карман.
Нет. Он ничего не говорил. И завтра вечером он никуда не поедет.
Но он, конечно же, все-таки поехал, чувствуя себя персонажем ужастика, который поступает вопреки здравому смыслу, нехорошим предчувствиям и внутреннему голосу.
К тому же он невольно, а может умышленно, проговорился, рассказал все жене.