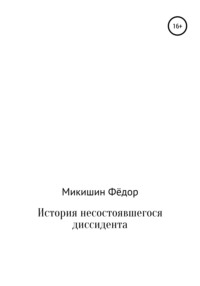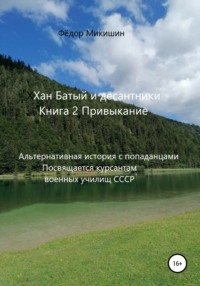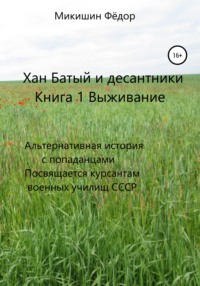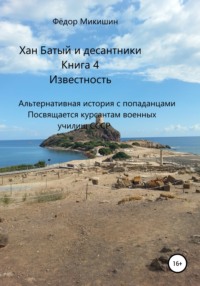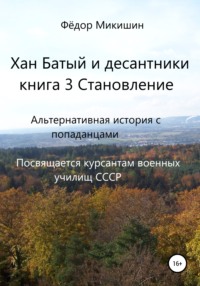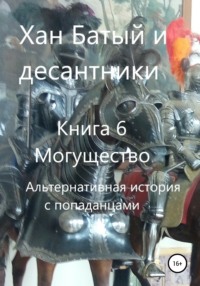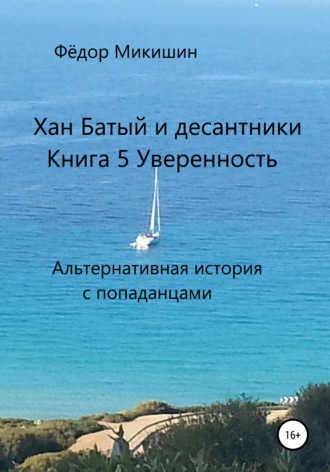 полная версия
полная версияХан Батый и десантники. Книга 5. Уверенность. Альтернативная история с попаданцами.
Они двинули внутрь города, а сзади наступали сотня легионеров с юнкерами. Уничтожив, засевших за углом кнехтов, САУ продолжила путь к центру, а ГАЗ 51 завернул налево и осветил всю поперечную улицу, на которой скопились до 500 человек. Пулемёт с крыши кабины застучал по толпам, жавшихся к стенам кнехтов и те побежали к собору, в центр города, угодив под пули, идущих за ними, в одном направлении, других САУ. Таким образом, действуя по этапам, остатки обороняющихся были вытеснены с улиц и заняли оборону в соборе.
В наших руках оказался почти весь город, кроме замка епископа на холме и двух католических соборов. Чтобы не рисковать напрасно людьми в незнакомой обстановке и в помещениях зданий, мы прекратили наступление, оставаясь в полной готовности к отражению контратаки противника, которая всё-таки, была проведена около 6 часов утра. Скопившись в соборе, ливонцы, резко открыли ворота и хлынули, числом до 300 человек по одной из улиц, где тут же были в большинстве уничтожены пулемётным огнём. Остатки вернулись в собор и затаились.
Машины выключили фары с рассветом, в половине седьмого утра. Казаки уже вовсю шерстили захваченную часть города, навьючивая барахло на жильцов и заставляя тех тащить узлы к центральному входу. Жители скользили по булыжной мостовой, заваленной трупами и залитой потоками крови, смешавшейся с помоями, вылитыми из окон домов, ранее. Солнечный свет прояснил картину боя. Весь город был в наших руках. Соборы обложили машинами и драгунами.
Пытавшихся выглянуть в окна противников, отстреливали легионеры и юнкера, в первые же секунды, попытки выстрелить. Мы не торопились и оставили эту ситуацию на некоторое время. Можно было бы выстрелами из орудий, снести ворота соборов, но жалко было уродовать красивые здания. Легионеры рыскали по городу в поисках банков и казначейства. Банк нашли, а также ломбард, но казначейство располагалось в замке. Жилых домов, в два и три этажа, в городе насчитывалось всего около сотни.
Были и общественные здания, хозяйственные и военного назначения. Общим число тоже около 100. Их начали обыскивать и тащить ценные вещи к воротам, где скопилось примерно 3 тысячи людей, в основном женщин, детей и стариков. Их заставили сидеть перед фасадом крепости, в промежутке, от реки до стен. Нам доносили, что были попытки побега с тыльной стороны крепости, через неприметные калиточки, но эти попытки пресекли самым решительным образом. Нашёлся и тайный ход, ведущий под землёй из замка епископа, ведущий аж на триста метров в сторону болот и заканчивающийся на одном из холмиков.
Отсюда выбрались с десяток рыцарей, но были схвачены. Попыток сопротивления не оказали. К обеду, от засевших в соборах, выслали парламентёров. Комендант города, скрывающийся в соборе, запросил перемирия. Но мы соглашались лишь на безоговорочную капитуляцию. Вообще не было желания, идти на какие-то уступки. Ливонцы, опять притихли, только изредка по окнам били наши снайпера, разглядев силуэт перебегающего кнехта, пока те вообще не прекратили суетиться и пытаться выглянуть наружу. Мы начали считать потери. Увы, без них не обошлось.
Погибли 6 драгун и 24 казака, ранены 5 юнкеров и 2 легионера. Но раненые были в строю, так как доспехи спасали. А вот когда болт арбалета находил не защищённый участок тела, то рана, обычно была смертельна. К 18 часам мы подтащили к воротам соборов пушки. Как не жалко было портить красоту, но разозлённые потерями, мы решили кончать с противником. Две пушки выстрелили по два раза.
Ядра у нас были разрывные, набитые порохом, с запальной трубкой и наворотили они внутри помещений серьёзно. Мы сделали паузу и тут же из дверей, в тучах дыма, выскочили, почти одновременно, посланцы с белыми тряпками на копьях. Им передали, чтобы все выходили и складывали оружие. Из ворот соборов начали выходит вереницей последние защитники. Их осталось в общем, всего 120, половина которых оказались ополченцами. После обыска, их всех погнали к воротам замка епископа, по монгольскому обычаю, как «хашар», подталкивая копьями.
Подойдя к воротам замка на безопасное расстояние, велели пленным идти к воротам и требовать их открыть, угрожая арбалетами. Тем ничего не оставалось, как подчиниться. Однако, епископ Герман, приказал не пускать пленных и те толпились перед воротами, не имея возможности вернуться. Обе пушки подкатили к воротам и наведя их на надвратные башни, открыли пальбу, скорее запугивающую, чем разрушающую.
Пленные побежали в разные стороны от ворот, сверху которых на них посыпались битые камни. Тем не менее, несколько защитников были убиты. Тут же начали обстрел двора замка из миномётов, а снайпера били по стрелкам, прячущимся между зубцов стен. Обороняющиеся открыли счёт потерям. Снизу метались безоружные воины, не находя себе места. В конце концов, они сбились в толпу в углу, где стена крепости смыкалась со стеной замка. Начинало темнеть. Погода стояла отличная, было тепло и поэтому всех жителей оставили на месте, раздав им еду.
Эти 3 тысячи человек расположились на площадке у передней стены, площадью в гектар, то есть по человеку на 3 квадратных метра. Пожалев детей, всем матерям с детьми, разрешили перебраться на остров. Толпа уменьшилась заметно. Мы решили ещё повременить и оставить все дела на завтра. Разоруженные пленные, уселись под стенами замка, а наши машины и драгуны окружили замок держа его под прицелом пушек и пулемётов. С наступлением темноты, включили фары, освещая стены замка и толпу пленных.
18 июня. Воскресенье. С утра, посменно, отходили от замка позавтракать и к 8 часам вновь вернулись на свои места в ожидании. Начали обстрел ворот из пушек, разбив их вдребезги. С внутренней стороны замка, осаждённые, лихорадочно строили баррикаду вместо ворот. На стенах уже никто не показывался, поняв, чем это чревато. Мы подождали, пока кнехты достроят баррикаду и несколькими выстрелами из пушек, разворотили её в щепки. По двору выпустили несколько мин.
Замок не трогали. Пленным указали знаками, что они могут идти в замок и те ринулись туда. Первых, сразили болты арбалетов, и пленные кинулись обратно. Мы сжалились и разрешили им, под конвоем, выйти наружу крепости, где их согнали в кучу и оставили под охраной. Их осталось уже менее ста. Из ворот замка вышли несколько рыцарей с белым флагом. Они тоже начали требовать почётной сдачи, но их прервали и велели передать епископу, что если через 15 минут гарнизон не сдастся, то всех их, включая епископа, ждёт смерть. Парламентёры удалились.
Ровно через 15 минут гарнизон сдался. Всех пленных, а их набралось, с взятыми ранее, 322 человека, на этот раз, разместили на острове, под открытым небом, в окружении двух сотен драгун, а жителей загнали в оба собора. Мужчин и подростков старше 10 лет в один из них, а женщин и остальных детей в другой. Соборы были окружены решетчатой оградой, и жители могли слоняться по двору. Всех своих граждан мы впустили в город, разрешив им селиться в любых, понравившихся им домах.
Квартир хватило на всех. Однако их предупредили, что возможно, им предложат переселиться позднее, в другие здания, так как ещё не всё закончено. Пленным велели носить убитых на место нашего снесённого лагеря, чтобы похоронить там. Между делом произошёл разговор с епископом Германом. Разговор вёлся между епископом и Судейкиным, в присутствии Марченко. Остальные были заняты. Судейкин обвинил епископа в гибели более полутора тысяч человек.
Однако епископ сослался на волю Божью и его промысел. Разговор на эту тему был бессмысленный, поэтому затронули тему будущих отношений. Судейкин заявил, что вся территория епископства, передаётся во власть Марченко, так что епископ может теперь быть свободен. Всех военнопленных, мы отпустим за небольшой выкуп, скажем по золотому с головы, то есть 322 золотых, а за епископа 678, чтобы вышло ровно 1000.
Горожане будут свободны в выборе –уходить или оставаться. А пока мы будем ждать подхода подкреплений, которые, мы планируем уничтожить. Мы просто обязаны так поступить для того, чтобы все немцы ощутили нашу силу и больше не пытались выступать против нас. А пока, пусть епископ выйдет к месту погребения своих воинов, чтобы прочесть им отходную молитву. Кстати, в плен захватили более 60 священнослужителей разного калибра.
Всё-таки, это был центр епархии, со своими канцеляриями и служащими, а ещё и двумя соборами со всем причтом. Пленные рыли длинные рвы, в которые укладывали убитых, которых оказалось 1355 человек. Своих убитых, мы погребли на городском кладбище. Епископ самолично провёл необходимый обряд, на который пригласили и вдов с детьми убитых ополченцев. Вдов осталось несколько меньше 400. Ров засыпали землёй и на этом месте поставили деревянный крест. Списки убитых составили монахи, присутствующие на похоронах. Епископа, учитывая его преклонный возраст, ему было уже 82 года, поместили в палатке на острове. Между делом, выкатили мой самолёт, и я взлетел, отправившись искать, подходившее на выручку города войско.
Я полетел на запад, откуда мы и ждали подхода войск и не ошибся. В нашу сторону скакали не менее 2000 кавалеристов и по всем признакам, они торопились, но им ещё предстояло пройти примерно 40 км, и я предположил, что они, скорее всего, сделают привал на ночь, чтобы прийти на место сражения отдохнувшими. Я вернулся и сообщил Судейкину об увиденном. Мы начали подбирать место для завтрашнего боя.
Марченко и Зотов начали сортировать захваченных в плен гражданских. Во-первых, было объявлено, что желающие остаться в городе, могут оставаться. По возможности, им вернут свои бывшие квартиры, остальных уплотнят, но никому из них не будет нанесён вред. Все ремесленники, захотевшие остаться, получат обратно свои инструменты, материалы, мастерские и склады. Им уже точно возвратят свои жилища.
Женщины, оставшиеся вдовами, тоже могут остаться. Им будет оказана посильная помощь, и выплачиваться содержание на детей, найдут занятие, по силам. Никто не будет их заставлять менять религию. Единственное условие – отдавать детей в школу, для обучения русскому языку. Сами же могут общаться между собой на родном языке. На раздумья им дали время до завтра. Предстояло провести здесь ещё одну ночь. Надеемся, что завтра, всё решится окончательно.
19 июня. Понедельник. Утром, разрешили священникам обеих городских соборов, вернуться к своим обязанностям. Часть их имущества, выполненного из не драгоценных материалов, им разрешили возвратить. С остающимися, которые ещё не приняли твёрдого решения, решили подождать до прихода подмоги. Наконец появилась и подмога. Всё войско на конях, то-то будет казакам радость!
Путь, по которому они передвигались не имел альтернативы, вокруг шли сплошь заболоченные и обводнённые участки. Тут мы и выставили заслон. БМД и БРДМ, автомобили с пулемётами, 3 САУ и 6 пушек, а между ними 800, растянутых в две шеренги, легионеров и драгун. Остальные встали в резерв. А вот казаки, которым достались из добычи 160 лошадей, встали несколько сбоку, чтобы в нужный момент выскочить и погнать врага.
Заметив наши ряды, немцы, развернулись лавой, по ширине, свободной от воды полосы движения, в 700 метров, приблизительно, и пошли в атаку, выставив копья вперёд. Они скакали в три ряда, надеясь смять, очень хорошо видимые, два ряда пехоты. Как обычно, с расстояния в 200 метров, грянули выстрелы и ряды нападающих стали, просто катастрофически, редеть. Посматривая в стороны своих соратников, ещё живые участники гонки, обратили внимание на то, что к финишу, они явно не успеют.
Атакующие, начали тормозить или рассыпаться в стороны, кому-то удалось развернуться, но очень немногим и мы дали возможность, казакам порезвиться. Те, гикая, выскочили на дорогу и погнались за удирающими. Ливонцам очень не повезло, их кони несколько притомились, а у казаков были свежие и поэтому уйти не удалось никому. Живыми остались те, кто упал с убитых коней или спрыгнул сам.
Таких набралось всего 114. На поле боя собрали 1892 трупа. Смерть собрала богатый урожай за неполную неделю. Пожалуй, 80% военных двух епископств –Дерптского и Феллинского, пали на поле битвы. Теперь нам, больше, некому противостоять в ближайшие несколько месяцев, а то и лет. Пленники, размещённые на острове, не очень ясно, но видели ход сражения и вспоминали свои неудачи. Ну а мы, вновь, выпустили казаков и драгун на поле боя –раздевать убитых и обыскивать. К сожалению, у этого отряда отсутствовал обоз, так как они торопились и считали, что могут воспользоваться трофеями, но так уж вышло, как-то, не по плану.
Всех пленных заставили носить новых погибших к месту захоронения предыдущей партии. Начали рыть новый ров. Епископ Герман, жутко опечаленный и разбитый, выпавшими на него невзгодами, быстро прочитал причитающиеся молитвы, при помощи других священников, и этих несчастных, тоже закопали. А у нас появились полтысячи грамотных свидетелей разгрома. Уж они то смогут рассказать всю эту историю заинтересованным лицам! Марченко отправился к жителям города.
По данным епископа, в городе проживало пять с половиной тысяч человек. В дружине епископа, включая стражников, насчитывалось 675. В ополчение вступили около 1000. Зашёл к горожанам и повторил вопрос, кто остаётся? Мужчин, из тех, кто был в возрасте от 20 до 45 лет, погибли в ополчении почти половина. В результате, женщин старше 16 лет, оказалось на 590 больше, чем мужчин, того же возраста. Кстати, к мужчинам прибавили 132 ополченца, оставшихся в живых. Вызвались уйти из города довольно много, и семейных пар, и холостых.
Их не стали считать и просто отвели в сторону. Оставались около 400 семейных пар, а также примерно 450 женщин, холостых и вдов, и до 200 холостых мужчин. Итого, взрослых, старше 16 лет, вышло примерно 1450 человек. Мы выделили сотню легионеров, чтобы они разобрались с жильём для остающихся. Пришлось холостых и вдов, расселять по несколько человек на квартиру.
Затем, всем остающимся ремесленникам, вернули изъятое имущество, остальным тоже, а для уходящих ничего не отдали, что заставило отказаться от переселения ещё 54 пары с детьми. Приблизительно, в городе оставалось, вместе с детьми до 2100 человек, не считая священников. Всех военных, отобрав доспехи и оружие, прибавив к ним желающих уйти из города и получивших вместо своего имущества по золотой монете на взрослого из казны города, отправили с миром в сторону Риги. Разрешили забрать с собой домашний скот, у кого он имелся. Епископу предоставили его личный экипаж.
Через час, последний уходящий, скрылся из виду, а мы приступили к подсчёту трофеев. В казне, ломбарде и банке города, изъяли серебра и золота на почти 300 000 наших рублей. Собранной дани набралось на 281 000 рублей, а всего насчитали 581 000. На этот раз, казакам причиталась десятая часть добычи и им вручили 58100 рублей. Доспехов было более 4-х тысяч и притом, очень много, отличного качества. 400 передали казакам, 1000 оставили переселенцам. За приятными подсчётами подошла ночь, и мы остались ночевать. Казаки ещё до полуночи отлавливали бегающих по полям лошадей, которых выжило до 2-х тысяч.
Учреждение Перновской комендатуры
20 июня. Вторник. Пришла очередь уезжать. Мы отгрузили Марченко, остававшемуся комендантом нового филиала «Совета десяти», привезённые материалы, половину оставшихся денег, оборудование для нормального функционирования города и округи. Сюда входили 5 паровых тракторов, одна, многократно ремонтируемая, бензопила, дизельный генератор, сварочный аппарат, водяной насос, пилорама, тельфер и масса других, необходимых аппаратов. Запасы бензина, керосина и солярки, 30 тонн угля, 120 пудов кричного железа, 100 мешков зерна, 200 мешков муки, 15 тонн картофеля и т.д. Из вооружения оставили корабль «Аскольд» с командой, БРДМ, 2 САУ, 8 пушек 16-тифунтовок, 6 пулемётов, 4 миномёта, много боеприпасов и пороха.
Из людей -800 семей крестьян и мастеровых, 150 легионеров и 300 драгун с семьями, 300 холостых солдат из бывших волынских крестьян, 420 девушек, 20 сирот кадетов, 15 педагогов и ещё по мелочи. Итого, более трёх тысяч человек взрослых и примерно 800 детей.
Таким образом, население города составило почти 6 тысяч человек. Марченко было необходимо начинать строительство жилья. Мы распрощались с Марченко и отбыли, забрав себе 300 лошадей и оставив в городе ещё 2 тысячи. Теперь наш путь лежал к Рижскому заливу. По реке вышли в Чудское озеро, потом по Нарве в Балтику и вдоль датского побережья будущей Эстонии (будет ли ещё?), к замку Пярну.
21 июня. Среда. После обеда вошли в Пярнусский залив, являющегося частью Рижского. Это был вообще чудеснейший залив, шириной 6-8 и длиной 12 километров. Прекрасно защищённый от штормов, незамерзающий, просто находка! Перед входом в залив располагался остров, на котором можно будет поставить форт для защиты залива. А какие красоты открылись нам в районе высадки! Райские места. К сожалению, приходится мало времени уделять любованию на природу, когда вокруг все норовят вас прикончить. И география, стратегически важная. До Риги 175 км, до Таллинна 128, до Юрьева 120. Подходим к берегу. Приличное селение при замке Пероне. Домов около 70. По окончании строительства замка, а это случится через 5 лет, поселению дадут звание города. В этом году епископ Эзельвикский, скорее всего, уже не переедет сюда из старой резиденции.
На берегу сушатся сети, лежат перевёрнутые лодки, а сзади, в долине, колосятся поля, вроде бы, ячменя или ржи. Замок ещё не достроен до конца. Нет крепостной стены и внутренних построек, но в нём уже живёт семейство прораба и инженера, следящие за строительством. Замок строится в километре от берега, на правом берегу одноимённой речки, где она делает изгиб в южном направлении.
Но мы достроим этот замок, он нам пригодится. Особенно крепостные стены вокруг города. Пристань, пока ещё, маловата для наших кораблей, но мы, кое-как пристаём к берегу, развернувшись кормой. На берег начинают сходить военные. Люди в селении разбегаются. Кто-то прячется в домах, а некоторые бегут в расположенный совсем рядом, лес. Судейкин, Зотов и сотня драгун идут к селению. Заходим в самое богатое здание. Оно выложено из кирпича. Хозяева –толстоватый мужчина лет 43 и женщина, чуть моложе, выходят к ним навстречу и низко кланяются.
Через переводчика узнаём, что это староста. Он предлагает Судейкину и Зотову войти в дом и просит сесть за стол. Служанка быстро выносит кувшин с вином, и хозяин наливает всем по кружке. На все вопросы он отвечает обстоятельно и подробно. В селе проживают почти 400 человек. Тут имеются и рыбаки, и землепашцы, ремесленники.
Почти город. Замок строит артель рабочих из 35 человек, помогать которым, принудили 40 семей, большую часть населения. Здесь строится будущая резиденция епископа. Население состоит из крещёных эстов и литвин, примерно пополам. Имеются несколько немецких семей. Судейкин сообщает хозяину, что власть переменилась. Теперь, здесь будет строиться город Пернов. А окружные земли мы забираем в своё подданство. С этого дня здесь зарождается Юрьевская комендатура, подчинённая «Совету десяти», базирующемуся в Рязанском княжестве и в соответствии с союзным договором с монгольским ханом Бату.
Надо было видеть, как ужаснулся староста. Его глаза полезли на лоб, и он рухнул на колени, умоляя оставить жизнь ему и его согражданам. Он согласен на любые условия и заранее готов подчиниться нам, но он человек маленький и ничего не решает. Судейкин ответил ему, что решать все проблемы с сегодняшнего дня будет Зотов, он показал на него. Зотов назначается комендантом Пернова, и все должны ему подчиниться. Через 3 часа, всех жителей города, собрать на главной площади, я выступлю перед ними.
На этих словах, Судейкин с Марченко отправились в строящийся замок. Строители были уже оповещены о прибытии русских и, прекратив работы, собрались рядом с замком, переговариваясь между собой. Здесь были немцы и местные рабочие, всего человек 50. Судейкин вызвал главного строителя. Подошёл мужчина лет 40, сжимая в руках головной убор и поклонился. Судейкин с Зотовым прошлись с ним, велев показать и рассказать, что здесь намечается по плану. Поглядели и на сам план.
Судейкин похвалил проект и сообщил, что строительство будет продолжаться прежним составом строителей. Но зарплату они будут получать от Зотова. Осведомился о размере зарплаты и сообщил, что столько же им и будут платить. Когда строительство закончится, строители могут быть свободны, а если захотят остаться, то мы будем этому рады. А пока продолжайте работу. Вернулись к деревне и велели сгружать оборудование и материалы. Рядом с селением начали разбивать палатки.
Вынесли дизельный генератор, пилораму. Здесь должны были остаться 232 семейства из Воронежа, крестьяне и мастеровые. 50 легионеров и 100 драгун с семьями. 150 холостых солдат и столько же девушек, 10 педагогов. Ещё остались 115, выучившихся ремёслам, молодых людей, бывших подмастерьев, но уже могущих стать мастерами. В порту оставляли 3-хмачтовый корабль «Воронеж», третий по размеру в нашем флоте, с паровым двигателем.
Как и в Юрьеве, оставили массу продуктов питания, топлива и т.п. Зотову передали 120 лошадей, 2 паровых трактора, 200 комплектов доспехов с оружием, а также остаток денег, на 200 000 рублей, нашими. Вечером Судейкин выступил перед собравшимися сельчанами, славянская половина которых, была в восторге от происходившего. Судейкин заявил, что теперь все жители будут подчиняться Зотову, но будут продолжать заниматься своей привычной работой.
Налоги будут платить нам, а подданство иметь республики Русь, с центром в Переяславле Рязанском. Все желающие, имеют право немедленно покинуть селение и уходить куда им заблагорассудится. Он спросил – Есть желающие? Все промолчали. Судейкин сказал, что раз они молчат, значит остаются. Ничего в их жизни не изменится, но здесь будет построена школа, где будут обязаны учиться все дети, притом на русском языке. Всех отпустили думать, а мы остались ночевать.
Налёт на Антверпен
22 июня. Четверг. Утром ещё походили по берегу и окрестностям селения, всё хорошенько рассмотрели, распланировали и попрощались. Отошли от Пярну-Пернова после обеда. Зотову порекомендовали быть настороже – без всяких сомнений, на него наедет епископ Эзельский, а возможно и Рижский. Так что весь этот год, надо быть в полной боевой готовности. Войска у Зотова немного, но пусть самым срочным образом, учит боевым искусствам своих крестьян, их у него больше 300.
А у нас в голове уже рисовалась новая карта Прибалтики, с русскими областями. Если всё получится, как надо, то наш западный форпост сдержит натиск европейцев и возродит старые границы Руси. Пока мы договорились дружить с датчанами против Ливонского ордена. А потом будет видно. Начиная плавание, мы вспомнили, что совершенно не отметились в Голландии и Бельгии. Это положение необходимо исправить. Поэтому приняли решение зайти в Антверпен.
27 июня. Вторник. С трудом обнаружили устье Шельды, на берегах которой, стоял Антверпен, город тогдашней Фландрии, считавшийся одним из самых богатых городов северной Европы. Только по увеличению количества кораблей, определили близость порта. От нас шарахались все суда, встречающиеся нам по пути. Видимо слава бежит впереди. Вошли в устье реки и почти 20 км плыли по всё сужающемуся руслу, пока оно не достигло около 200 метров в шрину. Корабли, идущие навстречу, разворачивались и уходили обратно. Но вот и порт. Кто-то успел растрезвонить об опасности и большинство кораблей из порта, убежали вверх по реке, а кто не успел, метались по причалам, не зная, что предпринимать.
Впереди шёл «Варяг» и замыкающим, корабль «Ока». Остановились, не доходя до причалов. Перед нами, через две сотни метров, река загибалась резко влево, а на этом развороте и находились причалы. Как раз, перед поворотом, с обеих стороны реки стояли форты, готовые забросать неприятеля камнями и горшками с горящей нефтью, так что мы предпочли туда не соваться. Но мы перегородили фарватер, и из города, волей-неволей, прибыл баркас с представителями власти, чтобы узнать наши намерения.
Мы заявили, что желаем сделать заявление о том, что наступила эпоха царствования монгольского хана Батыя, который будет собирать дань со всей Европы. Мы, как его союзники, прибыли с мирными целями, чтобы определить, насколько готовы европейцы встретить нового правителя. Чтобы доказать своё уважение и смирение перед ханом, мы требуем выплаты 50 кг золота или соответствующего цене, серебра, слитками или монетами.
Видимо Фландрия ещё не была знакома с нашими методами, так как представители власти, ехидно ухмыляясь, предложили нам немедленно покинуть город во избежание несчастного случая. Судейкин ответил – Ладно. Пеняйте на себя, но ровно через 2 часа, если нам не принесут дань, мы начнём действовать. – Надо сказать, что прибывшие несколько задумались над нашими словами, но их гордость не позволяла идти на попятную.