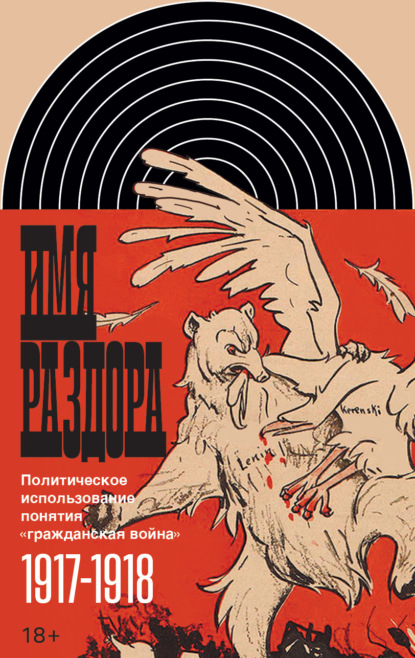Полная версия
Res Publica: Русский республиканизм от Средневековья до конца XX века
В современном русском переводе оно так и передается: «отечество»313. Нынешнее слово «отечество» обозначает Родину (как правило, со специфическими торжественными военно-патриотическими коннотациями). В имеющейся литературе это, видимо, принимается как данность и специально не обсуждается314. Однако слово «отечество (отчество, отьчьство)» имело значение не только «отечество, Родина», но и «родовое владение, доставшееся по наследству от предков, удел, вотчина»315. Интересно, что, в свою очередь, слово «отчина», как об этом говорилось выше, могло иметь значение «Родина, отечество»316. Поэтому такая неоднозначность требует специального анализа контекста, и вполне уместен вопрос: не подразумевается ли в «Повести о Довмонте» под «своим отечеством» псковичей не абстрактное отечество вообще, а Псковская земля как наследственное владение псковского «политического народа»? Как показал А. А. Горский, специально исследовавший так называемые «патриотические формулы» в древнерусских письменных источниках, для периода «раздробленности» общерусские формулы не характерны317. Точно так же и весь контекст говорит в пользу того, что под «отечеством» здесь следует понимать не всю Русскую землю в широком смысле, а Псков318. Параллель же с Новгородом как «отчиной» новгородцев в известии НПЛ под 1255 г., о котором шла речь выше, склоняет к «наследственной» интерпретации. В принципе оба значения слова «отечество» тут как бы сливаются, и становится очень трудно однозначно определить, что именно в данном случае первично: отечество как «Родина» или отечество как отчина (указание на наследственную принадлежность). Тот факт, что, судя по данным словарей, и «отечество», и «отчина» в значении «Родина» встречаются преимущественно в переводных текстах или текстах, испытавших их прямое или косвенное влияние, заставляет предпочесть второй вариант. Таким образом, по-видимому, автор «Повести о Довмонте» исходил из того, что Псков – это отчина, наследственное владение «мужей-псковичей» (и поэтому, естественно, их «отечество»). Псковское «отечество» (как и новгородская «отчина») в этом контексте оказывается той «общей вещью» (res publica), заботиться о которой призывает псковичей автор «Повести» устами своего главного героя.
В финале «Повести» в редакции ПIII уже сами «мужи-псковичи» оказываются этим объектом заботы: «…много бо дне пострада (Довмонт. – П. Л.) за дом святыа Троица и за мужеи за псковичь стоянием дому святыа Троица»319. Здесь опять-таки просматривается прямая параллель новгородским формулам – например, формуле, приведенной в рассказе НПЛ о борьбе с Москвой за Двинскую землю в 1397–1398 гг., когда новгородское войско во главе с посадниками поклялось: «…или пакы изнаидем свою отчину къ святѣи Софѣи и к великому Новугороду, пакы ли свои головы положимъ за святую Софѣю и за своего господина за великыи Новъгород»320. И «мужи-псковичи», и «господин Великий Новгород» одновременно оказываются и объектами «республиканской» заботы, и активными действующими лицами – политическими сообществами, призванными эту заботу осуществлять.
Таким образом, важнейшие элементы республиканской риторики присутствовали в псковской книжности задолго до попыток великих князей Московских присоединить Псков и вне контекста противостояния с Москвой.
Особое место в псковской республиканской риторике занимало выражение «доброволные люди». Так, в 1461 г., согласно псковской летописи, псковичи «повелѣша» своим послам «бити челомъ» приехавшему в Великий Новгород Василию Темному «о жаловании и о печаловании своея отчины, мужеи псковичь доброволных людеи»321. Формула «великокняжеская отчина – мужи псковичи (весь Псков), добровольные люди» носила вполне официальный характер, о чем свидетельствует грамота Пскова другому московскому великому князю Ивану III 1477 г., в которой псковичи обращаются к нему так: «А вамъ, своимъ государемъ (читай: господаремъ. – П. Л.) вѣликимъ княземъ русскимъ и царемъ, отчина ваша, доброволные люди, весь Псковъ челомъ бьемъ»322.
В историографии эти формулы обычно интерпретируются как переходные, парадоксальные, противоречивые, свидетельствующие о постепенном подчинении республик Москве. Считается, что в Коростынском договоре речь идет о признании себя «органической частью Русского государства» при сохранении своего внутреннего статуса, внутреннего порядка управления323. Примерно в таком же духе характеризуется в одном из последних исследований и соответствующая псковская формула324. Однако как анализ функционирования этих формул в новгородских и псковских источниках и стоявшей за ними политической практики, так и сравнительно-исторические данные указывают на другое. В рамках новгородской и псковской политической риторики идея о том, что московский великий князь обязан их защищать от внешних врагов, вполне сочеталась с убеждением в собственной вольности. Как показал применительно к Пскову С. В. Городилин, в псковском летописании преобладающим контекстом, в котором фигурирует формула с упоминанием «отчины» и «добровольных людей», оказываются обязательства великого князя жаловати и боронити Псков либо псковские просьбы о том же. Историк – полагаем, небезосновательно – считает, что стимулом к появлению таких идей в Пскове стал Салинский договор 1398 г. между Великим княжеством Литовским и Тевтонским орденом, который рассматривался как прямая угроза независимости Пскова (он, в соответствии с договором, должен был отойти в сферу влияния Ордена), в результате чего там стала ощущаться необходимость в обретении могущественного защитника, каковым в той ситуации мог быть только московский великий князь325. В этом смысле псковская формула «великокняжеская отчина – добровольные люди» оказывается аналогом новгородской формулы «великокняжеская отчина – люди вольные» и отражает ту же двойственность политической идентичности, которая как в новгородской, так и в псковской интерпретации не подразумевала никаких реальных ограничений самостоятельности республик. В то же время, как и в случае с Новгородом, победа московской интерпретации этой двойственной риторики могла привести (и привела) и к институциональным изменениям.
Нереспубликанские республики?
Можно ли найти «республиканизм» в других древнерусских землях, не только в Новгороде и Пскове? Дореволюционная земско-вечевая теория, а в советское время – школа И. Я. Фроянова исходили из того, что по крайней мере в домонгольское время, а может быть, и позже основы политического строя на Руси были в принципе повсюду едины, что подтверждается повсеместным существованием веча, которое – по мысли сторонников таких взглядов – являлось главным органом власти. Выше мы, однако, видели, что вовсе не само по себе вече было основой древнерусского республиканизма. Крайняя редкость упоминаний веча в Новгороде в XII в., как уже говорилось выше, не может свидетельствовать об отсутствии республиканских тенденций эволюции новгородского политического строя в этот период, а наличие таких упоминаний в других древнерусских городах не может само по себе свидетельствовать о том, что там такие тенденции были выражены. Вечевые собрания, конечно, отражают политическую активность горожан, но такая активность могла носить эпизодический характер, возникая лишь в критических, кризисных ситуациях. Подлинной основой древнерусского республиканского строя было существование «политического народа» и использование соответствующих понятий и риторики.
Весьма неоднозначную ситуацию мы видим с этой точки зрения в Киеве.
Применительно к Киеву в летописях есть множество упоминаний политической активности населения, в том числе и в форме веча. Однако с киевским «политическим народом» дело обстоит сложно: соответствующий дискурс практически отсутствует. Более того, заметны некоторые выражения, которые можно считать проявлением совсем иной риторики. Так, в рассказе о мести княгини Ольги древлянам киевляне говорят древлянским послам: «Неволя есть намъ; князь нашь убиенъ бысть, а княгынѣ наша хощеть за вашь князь (выйти замуж за древлянского князя Мала. – П. Л.)». После этого они на руках «понесоша я в лодьи»326. В данном случае не имеет значения, что это была уловка со стороны Ольги и киевлян и что сам рассказ носит, по-видимому, легендарный характер. Существенно то, как понимал киевский летописец – предположительно XI в.327 – что такое «неволя» горожан. «Неволя» в его представлении связана с беспрекословным подчинением горожан князю (здесь – княгине), который может принудить к выполнению даже унизительных требований. Между прочим, понятие «неволя» помогает прояснить значение его антонима – «воля». «Воля», которой в тот момент лишены киевляне, оказывается отсутствием такого подчинения.
В 1068 г., согласно Начальному летописанию, после поражения, которое нанесли половцы князю Изяславу Ярославичу, «людие киевьстѣи прибѣгоша Кыеву, и створиша вѣче на торговищи», и потребовали у князя оружия и коней для продолжения войны с половцами. После отказа Изяслава «начаша людие говорити на воеводу Коснячя328; идоша с вѣча на гору…». В результате киевляне прогнали Изяслава, а вместо него провозгласили князем сидевшего в тюрьме Всеслава Полоцкого329. В следующем, 1069 г. киевляне после бегства поставленного ими Всеслава «створше вѣче, послаша къ Святославу и ко Всеволоду, глаголюще: „мы уже зло створилѣ есмы, князя своего прогнавше“; а се ведеть на нас Лятьскую землю; а вы поидита въ град отца своего; аще ли не хощета, то намъ неволя: зажегше град свои, ступимъ в землю Грѣчьскую“»330. Киевляне боялись мести изгнанного ими в предыдущем году Изяслава Ярославича, который вел на Киев своих союзников-поляков, и, стремясь ее предотвратить, обратились к его младшим братьям: Святославу и Всеволоду.
Киевляне принимают решения на вече, предъявляют требования князю, изгоняют одного князя и ставят на престол другого, считают «град» своим, и недооценивать это при интерпретации степени политической активности киевлян во второй половине XI в. нельзя331. Однако некоторых существенных деталей, знакомых нам по Новгороду и Пскову, здесь нет. На вече собирается не «весь Киев», не «все кияне», а «люди киевские» или даже просто «людье», что, в отличие от афинского демоса, не было обозначением «политического народа» («людье» – самое общее наименование вообще любых людей). Изгнание князя сами же киевляне признают «злом», т. е. не считают его легитимным актом. Наконец, свою судьбу они ставят в зависимость от согласия Ярославичей заступиться за них; в противном случае они будут вынуждены бежать в Византию. Это показывает, что, скорее всего, концепцией «вольности» они не руководствовались. Разумеется, надо еще раз оговориться, что мы не знаем точно, что именно было в головах у киевлян в 1069 г. (очень вероятно, что они-то считали свои действия вполне легитимными), речь идет о том, как это представлено в начальном летописании. Показательно само отсутствие в описании того, что можно назвать «риторикой вольности».
Упоминание воли киевлян мы видим, однако, уже в XII в., в летописном рассказе о кратком и несчастном княжении в Киеве Игоря Ольговича. Когда в 1146 г. умер его брат, киевский князь Всеволод, черниговские Ольговичи хотели посадить на киевский стол Игоря. Однако киевляне, судя по летописи, без восторга отнеслись к такой перспективе, и их пришлось уговаривать. В частности, раздражение киевлян вызывали тиуны умершего Всеволода, на которых они жаловались на собравшемся у Туровой божницы вече. Поэтому еще один брат покойного, Святослав Ольгович, отправился туда и попытался договориться с киевлянами, заявив: «Язъ цѣлую крестъ за братомъ своимъ [Игорем Ольговичем], яко не будеть вы насилья никоторого же, а се вы и тивунъ, а по вашеи воли». Далее состоялась процедура крестоцелования: «И на томъ [Святослав] целова хрестъ к нимъ у вѣчи. Кияне же вси съсѣдше с конь, и начаша молвити: „Братъ твои князь [Игорь] и ты“. И на томъ цѣловаше вси Кияне хрестъ и с дѣтми, оже под Игоремь не льстити, под Святославомъ»332. Здесь мы как будто видим некоторые существенные элементы «риторики вольности», известные нам по Новгороду: наличие политического коллектива, которое имеет наименование, образованное с помощью определения, указывающего на всеобщность («вси кияне»); упоминание «воли» этого политического коллектива; самостоятельную активность политического коллектива: принятие решений на «народном собрании» – вече, заключение договора с князем, скрепляемое соответствующей церемонией (крестоцелованием). Типологически это напоминает уровень раннего новгородского республиканизма, когда республиканские риторические формулы и ритуалы еще только формировались (в частности, представление о «воле» новгородцев существовало, а формулы «на всей воле новгородской» еще не было). Однако дальнейшего развития в этом направлении в Киеве, очевидно, не произошло. При этом по крайней мере вплоть до установления монголо-татарского господства представления о киевском политическом сообществе как о некоем единстве сохранялись. Об этом находим интересное свидетельство в «Истории монгол» Плано Карпини. В ΙΧ главе там перечисляются свидетели путешествия папского посольства к хану Гуюку в 1246–1247 гг., среди которых указан «весь город Киев» (civitas omnis Kiovie): «Весь город Киев является свидетелем. Он дал нам охрану и лошадей до первой татарской заставы, и по возвращении принял нас с татарской охраной и ее лошадьми»333. Как видно, «весь город Киев» не просто безмолвный свидетель – он выступает в качестве активно действующего лица, которое заботится о послах. Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. С подлежащим единственного числа «[весь] город Киев» в латинском оригинале координируется сказуемое множественного – «дали» («dederunt»). Это не грамматическая ошибка, а использование constructio ad sensum (согласования по смыслу), характерного в латинском языке для предложений, в которых подлежащим является имя собирательное, подразумевающее живых существ. Есть примеры, когда в такой роли выступают названия стран и городов, и очень легко такой тип согласования происходит (особенно в поздней латыни) после таких определений, как «omnis» и «totus»334. Это означает, что «весь город Киев» воспринимался и Плано Карпини, и его русскими информаторами как коллективный политический субъект. Однако из того же источника мы видим, что реальная власть в Киеве принадлежала тысяцкому и его окружению. В отличие от Новгорода, тысяцкий не был в Киеве республиканским магистратом. Он был наместником, которого назначил отсутствовавший в Киеве князь (т. е. владимирский великий князь Ярослав Всеволодич, убитый в 1247 г. в Каракоруме335). Поэтому применительно к Киеву можно говорить лишь о наличии некоторых республиканских тенденций в XI–XIII вв., что отразилось и в сфере политической риторики.
Странной, на первый взгляд, может показаться постановка вопроса о республиканской риторике в Северо-Восточной Руси. «Владимиро-Суздальское княжество» (Суздальская земля исторических источников) очень часто ассоциировалось в историографии с деспотизмом, и именно в деспотизме могущественных владимирских князей Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо предлагалось искать корни деспотизма московского. Однако еще А. Н. Насонов в своей ранней и во многом опередившей время статье убедительно опроверг эти построения (что не мешало им повторяться в дальнейшем)336.
Именно в летописании Северо-Восточной Руси (под 1175 г.) появилась классическая сентенция о вечевом строе на Руси: «Новгородци бо изначала, и Смолняне, и Кыяне, [и Полочане], и вся власти якоже на думу337 на вѣча сходятся, на что же старѣишии сдумають, на томь же пригороди стануть»338. Подробно политико-институциональное значение этого известия мы рассматриваем в другом месте339, но тут нужно остановиться на некоторых моментах, которые обычно игнорируются в историографии.
Исторический контекст известия – междоусобная война в Суздальской земле между внуками Юрия Долгорукого, Мстиславом и Ярополком Ростиславичами, и его младшими сыновьями, Михалком и Всеволодом Юрьевичами, а также между ориентировавшимися на этих князей городами: старшими (сторонниками Ростиславичей: Ростовом и Суздалем) и младшими (выступавшими за Юрьевичей: Владимиром-на-Клязьме, Переяславлем-Залесским и др.). Выше в Лавр. приводится следующее рассуждение – панегирик в честь владимирцев, которые заняли, с точки зрения летописца, правильную позицию в конфликте (в пользу Юрьевичей): «Мы же да подивимся чюду новому340, и великому, и преславному матере Божья, како заступи град свои от великих бѣдъ, и гражаны своя укрѣпляеть. Не вложи бо имъ Богъ страха, и не убояшася, князя два имуще въ власти сеи и боляръ, ихъ прѣщенья ни во чтоже положиша за 7 недѣль. Безо князя будуще в Володимери градѣ, толико възложьше всю свою надежю и упованье к святѣи Богородицѣ и на свою правду»341. И ниже, комментируя победу Юрьевичей, летописец ссылается на евангельское изречение: «Исповѣдаю ти ся, отче, Господи небеси и земли, яко утаилъ се от премудрыхъ и разуменъ, открылъ еси младенцем» (Мф. 11:25)342. В роли «младенцев» в летописи выступают младшие города, в роли «премудрых и разумных» – старшие (Ростов и Суздаль), причем оценка последних в свете евангельского текста сугубо отрицательная. Иисус сравнивает осуждаемые Им галилейские города с Содомом, Тиром и Сидоном – не в пользу первых. Далее летописец иллюстрирует эту цитату комментарием по поводу междоусобицы в Суздальской земле: «Тако и здѣ не разумѣша правды Божья исправити Ростовци и Суждалци, давнии творящеся старѣишии, новии же людье мѣзинии Володимерьстии уразумѣвше, яшася за правъду крѣпко и рекоша вси собѣ: „Любо Михалка князя собѣ налѣземъ [и брата его Всеволода343], а любо головы своѣ положим за святую Богородицю и за Михалка“. И утѣши и Богъ и святая Богородиця чюдотворная Володимерьская <…> се бо Володимерци прославлени Богомь по всеи земьли за ихъ правду, Богови имъ помагающю»344.
Когда несколько ранее владимирцы узнали о покушении Ростиславичей на имущество владимирского кафедрального Успенского собора, они возмутились: «Мы есмы волная князя прияли к собѣ и крестъ цѣловали на всемь, а си яко не свою волость творита, яко не творящися сѣдѣти у нас, грабита не токмо [волость] всю, но и церкви»345.
Приведенные выше отрывки принадлежат перу владимирского летописца-клирика и, как показывает история текста, были записаны после победы Юрьевичей и до смерти старшего из них, Михалка, после которой текст был отредактирован в пользу его брата Всеволода Большое Гнездо, т. е. между июнем 1175 г. и июнем 1176 г.346 Это означает, что повествование о междоусобице в Суздальской земле было записано по горячим следам, а отразившиеся там воззрения – это воззрения современника событий, который, конечно, ориентировался на господствовавшие в городской элите Владимира взгляды.
Как можно охарактеризовать эти представления? На первый взгляд, республиканская идеология в этих сентенциях проявляется еще более выраженно, чем в новгородском летописании.
Прежде всего, в известии о приглашении Ростиславичей вроде бы присутствует «риторика вольности», которой мы не видели в столь артикулированной форме в Киеве. Так это обычно и понимается в историографии. Ю. А. Лимонов, например, считал, что возмущение совершаемыми князьями злоупотреблениями привело к взрыву недовольства владимирцев и созыву веча, на котором выступали ораторы, исходившие «из преамбулы „вольности“, т. е. свободы выбора князя, чье поведение, нарушившее ряд с городом, освобождало горожан от присяги на верность»347. Однако в Лавр., если обратить внимание на буквальное значение написанного, говорится о вольности не владимирцев, а князей-Ростиславичей. «Волная» в Лавр., вероятно, нужно понимать как винительный падеж двойственного числа, соотнесенный с сущ. «князя» (также винительный падеж двойственного числа). Такое же чтение представлено и в Ип., где использован северо-восточный источник («волная князя»), и в ЛПС, в котором отразилась переяславская обработка владимирского свода начала XIII в. («волнаа князя»)348. Лишь в Радз. и Ак. это место оказалось отредактировано, и смысл поменялся: «Мы есмо волнии, а князя прияли к собѣ»349. Переработка в протографе Радз. и Ак., очевидно, представляла собой, как уже говорилось выше, позднейшую владимирскую редакцию переяславской обработки более раннего владимирского же свода. В первоначальном тексте владимирского летописца, таким образом, акцент делался на «вольности», высоком статусе князей, обязанных – в соответствии с этим статусом – соблюдать крестоцелование. Только позднее, возможно, даже в 30‐е гг. XIII в. на одном из этапов редактирования владимирского летописного свода это известие было видоизменено таким образом, что «вольность» стала атрибутом горожан.
В любом случае в Лавр. в принципе провозглашается право владимирцев приглашать князей или даже избирать нового князя после смерти прежнего из круга близких родственников покойного350.
«Правда» владимирцев соотносится с правдой Божьей. Относительно этой «правды» можно в целом согласиться с Н. Н. Ворониным: под «правдой» владимирский летописец имел в виду прежде всего оправданные, по его мнению, притязания владимирцев на политическую самостоятельность по отношению к «старшим» городам Северо-Восточной Руси351. Однако для риторики владимирского летописца характерен ярко выраженный «князецентризм», а его «риторика вольности» носит достаточно ограниченный характер. Волость, в которой находится Владимир-на-Клязьме, – это владение князей, а не владимирцев. Князья обязаны заботиться о своей волости. Без князя не мыслили себя и новгородцы, но владимирский летописец подчеркивает и другое: само наличие «в волости» враждебных князей уже ставит под вопрос «правду» владимирцев. Сопротивление князьям, даже нарушившим крестоцелование, и их боярам (совершенно обычное явление в Новгороде) оценивается как беспримерный подвиг и чудо. Обращает на себя внимание в этом смысле довольно прохладная характеристика вечевых порядков «старших» городов (сами собрания владимирцев, несомненно имевшие место, «вечем», между прочим, не называются). В то же время владимирцам вкладывается в уста тезис, согласно которому Михалко Юрьевич имеет право претендовать на княжение во Владимире, так как он «старѣе в братьи своеи»352.
Ни киевские, ни владимирские данные о городских вольностях, как справедливо заметил Б. Н. Флоря, не свидетельствуют о каких-то попытках их институционализации353. Речь скорее идет о том, что там существовали определенные представления о правах горожан, которые должны уважать князья, сохраняя при этом за собой полноту власти. Проявлялось это, как мы видели, и на уровне риторики, которая никогда не достигала того уровня, которого достигла новгородская «риторика вольности» уже в домонгольский период. В то же время в условиях распространения подобных представлений, в том числе и в официальном летописании (киевском и северо-восточном), о каких-либо деспотических или самодержавных тенденциях также говорить не приходится. Тем не менее относительная неразвитость республиканской идеологии и отсутствие ее институциональных подпорок, вероятно, способствовали таким тенденциям в Северо-Восточной Руси после монголо-татарского завоевания (о социально-политической истории Киева в этот период мы почти ничего не знаем354).
Сложен вопрос с «риторикой вольности» в Полоцке, оказавшемся через некоторое время после монголо-татарского нашествия на Русь под властью великих князей литовских. В позднем летописном памятнике Великого княжества Литовского (20‐е гг. XVI в.) содержится рассказ о полоцких вольностях. В этом рассказе упоминаются «мужи полочане, которыи вечом справовалися, яко Великии Новгород и Пъсков». Происхождение полоцких свобод связывается автором этого текста с легендарным князем литовского происхождения Борисом-Гинвилом: «…пануючи ему в Полоцку был ласкав на подданых своих и дал им, подданым своим, волности и вѣчо мѣти и в звон звонити, и по тому ся справовати, яко у Великом Новѣгороде и Пъсковѣ»355. В Полоцке действительно еще в XII в. упоминается вече и фигурирует общность «полочан», приглашающая и изгоняющая князей. Между князьями и «полочанами», очевидно, существуют договорные отношения. Фиксируется общность полочан и в документах более позднего времени, когда Полоцк находился уже в составе Великого княжества Литовского356. В одном из ганзейских документов конца XIV – начала XV в. прямо упомянуто вече в Полоцке357.
Проблема, однако, состоит в том, что у нас практически нет собственно полоцких нарративов, на основании которых можно было бы судить о республиканской или коммунальной риторике. Легендарное повествование о Борисе-Гинвиле, конечно, свидетельствует о том, что рефлексия о республиканском строе Полоцка в позднее Средневековье и Раннее Новое время существовала, но ее очень сложно «привязать» хронологически. В свое время И. В. Якубовский, сопоставив положения привилея польского короля и литовского великого князя Сигизмунда I Полоцку с договорами между князьями и Новгородом, обнаружил в них ряд параллелей и предположил, что первые «ряды» полочан с князьями (литовскими) заключались в первой половине XIV в.358 Б. Н. Флоря считает, что республиканские традиции в Полоцке восходят еще к вечевым порядкам домонгольского времени, а к Великому княжеству Литовскому Полоцк присоединился уже будучи республикой после угасания местной княжеской династии359. К сожалению, однако, данных о республиканской риторике в Полоцке у нас пока за исключением позднего и легендарного летописного повествования, причем, видимо, не связанного непосредственно с полоцкой литературной традицией нет. Современный исследователь имеет поэтому формальное право говорить, что в древнерусском Полоцке отсутствовали аналоги таких ключевых для западноевропейского коммунального строя понятий, как «Gemeinde» или «communitas»360. Вопрос поэтому заслуживает дальнейшего изучения. Но, конечно, помещение Полоцка в раздел о «нереспубликанских» республиках условно.