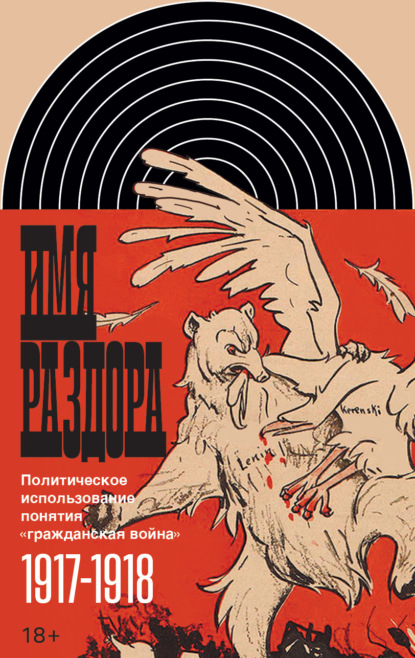Полная версия
Res Publica: Русский республиканизм от Средневековья до конца XX века
Следующий очень важный этап – появление выражения «на всей воле новгородской». В нем имеют значение все составляющие: не только «воля», но также и «вся», и «новгородская». Под 1221/1222 г.159 в НПЛ читаем известие о приглашении в Новгород на княжение Всеволода, сына владимирского князя Юрия Всеволодича: «Послаша владыку Митрофана и посадника Иванка и старѣишии мужи Володимирю къ Гюргю къ Всѣволодицю по сынъ, и вда имъ Всеволода на всѣи воли новгородьстѣи. Приде князь Всѣволодъ в Новъгородъ, и владыка и вси мужи одарени бещисла; и ради быша новгородьци, и бысть миръ»160. Риторическое оформление известия выглядит несколько противоречиво. Всеволода Юрьевича новгородцам «вда» его могущественный отец, но в то же время – «на всей воле новгородской». Но для нас сейчас важно, что даже в этом случае требуется – формальное или неформальное – полное согласие Новгорода. К тому, что конкретно имелось в виду под определением «новгородская», мы еще вернемся. Интересно, что формула «вся воля новгородская» появляется впервые под пером летописца архиепископа Антония161. Ему же мы обязаны, как показал А. А. Гиппиус, форсированным внедрением в летописание формул, подчеркивавших патронат над Новгородом св. Софии, которые также играли важнейшую роль в формировании коллективной политической идентичности новгородцев162.
Под 1228/1229 г.163 в НПЛ содержится известие о приглашении в Новгород Ярослава Всеволодича: «Тъгда отяша тысячьское у Вячеслава и даша Борису Нѣгочевичю, а къ князю послаша къ Ярославу на томъ: „поеди к намъ, забожницье отложи, судье по волости не слати“; на всѣи воли нашеи и на вьсехъ грамотахъ Ярославлихъ ты нашь князь; или ты собе, а мы собе»164. Здесь уже не князь, а сами новгородцы разъясняют в требованиях, адресованных князю, что подразумевает их вольность: это добровольное провозглашение Ярослава князем при условии признания всей их воли и всех грамот Ярославовых. «Вся воля новгородская» включала, таким образом, в себя право признавать или не признавать князя. В случае нарушения князем этого права предусматривалась санкция – изгнание («ты собе, а мы собе» может подразумевать только это). В качестве основания этих прав фигурируют «все грамоты Ярославли», т. е. реальные или вымышленные документы, выданные новгородцам неким князем Ярославом.
По поводу «Ярославлих грамот», которые еще несколько раз упоминаются в летописи, в историографии уже давно идет дискуссия. В ходе нее высказывались самые разные точки зрения как относительно их датировки (и вообще их реальности), так и по поводу идентификации князя Ярослава, которому они приписываются165. Вряд ли возможно внести какой-то существенный вклад в эту дискуссию с учетом крайней скудости данных («Ярославли грамоты» прямо упоминаются в летописи лишь четыре раза), но имеет смысл зафиксировать то, что представляется нам очевидным.
Прежде всего, надо отвести мнение о том, что «Ярославли грамоты» – это поздний конструкт или, как пишет современный историк, «красивая легенда, сочиненная новгородскими сводчиками XIV–XV вв.»166. Как показывают палеографические данные, три известия с их упоминанием из четырех читаются в той части Синодального списка НПЛ (НПЛ ст.), которая была скопирована не позднее второй половины XIII в., а может быть, даже в 30‐е гг. XIII в.167 О том же свидетельствует и история текста. По-видимому, статьи 1228–1230 гг. с упоминаниями «Ярославлих грамот» были записаны единовременно летописцем архиепископов Спиридона и Далмата в 1230 или 1231 г.168
Это однозначно свидетельствует о том, что если «грамоты Ярославли» и миф, то миф очень ранний, существовавший уже в домонгольское время. Естественно, это усиливает аргументацию тех исследователей, которые видели в «Ярославлих грамотах» вполне реальные документы (чем бы они ни были). Как справедливо подчеркивает А. В. Петров, в противном случае невозможно было бы себе представить князя, согласившегося принять во внимание несуществующие и (добавим) притом противоречащие его интересам грамоты169. Можно думать, что «Ярославли грамоты» либо были тождественны упомянутым выше уставам прежних князей, либо были наиболее значимой частью этого «конституционно-правового» комплекса. К сожалению, нет на данный момент способа узнать ни их содержание, ни с каким конкретно князем Ярославом они были связаны. Поздняя традиция указывает, естественно, на Ярослава Мудрого, но это может объясняться посмертной популярностью этого правителя. В этом смысле представляется перспективной мысль Л. В. Черепнина, развитая А. А. Гиппиусом, об оформлении первоначального формуляра новгородско-княжеских договоров в княжение Ярослава Владимировича в конце XII в. и о его связи с «Ярославовыми грамотами»170.
В 1229 г.171НПЛ сообщает о прибытии в Новгород Михаила Всеволодича Черниговского: «Приде князь Михаилъ ис Чѣрнигова въ Новъгородъ <…> и ради быша новгородци своему хотѣнию. И цѣлова крестъ на всѣи воли новгородьстѣи и на всѣхъ грамотахъ Ярославлихъ…»172. Проявлением «всей воли новгородской» оказывается право «новгородцев» приглашать князей из разных русских земель по своему «хотению».
Под 1230 г.173 читаем в НПЛ об еще одном приглашении в Новгород Ярослава Всеволодича: «И послаша [новгородцы] по Ярослава на всеи воли новгородьстѣи; Ярославъ же въбързѣ приде въ Новъгородъ <…> и створи вѣцѣ, и цѣлова святую Богородицю на грамотахъ на всѣхъ Ярослалихъ»174. В данном случае обращает на себя внимание церемония, представляющая собой своего рода манифестацию «всей воли новгородской»: приглашенный новгородцами князь созывает вече, на котором публично присягает на «Ярославлих грамотах», целуя икону Богородицы. Отсюда становится ясно, кто именно выступал носителем «всей воли новгородской». Это был новгородский политический коллектив, собиравшийся на вечевые собрания.
Но, что самое главное, точно так же понимали ситуацию (хотя оценивали ее, естественно, противоположным образом) и в других землях. Важнейшее значение здесь имеет древнейший рассказ о походе войск Андрея Боголюбского и его союзников на Новгород в 1170 г.175 Он сохранился в Лавр. и Ип. в составе так называемой антиновгородской версии летописной повести о битве новгородцев с суздальцами, но в Ип. – в несколько искаженном и измененном виде. В нем содержится следующее рассуждение: «Тако и сия люди Новгородьскыя наказа Богъ и смѣри я дозѣла за преступленье крестное, и за гордость ихъ наведе на ня, и милостью своею избави град ихъ. Не глаголем же: „Прави суть Новгородци, яко издавна суть свобожени Новгородци прадѣды князь наших“, но аще бы тако было, то велѣли ли имъ преднии князи крестъ преступити, или внукы, или правнукы соромляти, а крестъ честныи цѣловавше ко внуком ихъ и к правнукомъ, то преступати»176. В Ип. из‐за механического пропуска отсутствует важнейшая фраза «яко издавна суть свобожени Новгородци», а после «прадѣдъ князь нашихъ» текст дан в другой редакции: «но злое невѣрьствие в нихъ вкоренилося – крестъ къ княземь преступати и князѣ внукы и правнукы обеществовати и соромляти». Южнорусский книжник явно усиливает инвективы своего владимирского предшественника, на что уже указывал Б. Н. Флоря177.
Как должна датироваться эта запись и кто ее автор? Антиновгородская летописная повесть о битве новгородцев с суздальцами возникла, по-видимому, в близкое к самому событию время178. В любом случае она не могла появиться позже конца XII в., когда был составлен Киевский свод в составе Ип. и Владимирский свод в составе Лавр. Именно творчеству составителя последнего и принадлежит, очевидно, рассуждение о грехах новгородцев. Этот свод А. А. Шахматов датировал 1185 г. Высказывались предположения и об иной его датировке, и о предшествующем, также владимирском своде, который ряд исследователей датирует в пределах 1170‐х гг.179 Как бы то ни было, не вызывает сомнений, что мы имеем дело с записью современника, жившего в Суздальской земле и работавшего в интересах ее правителей. М. Д. Приселков, который датирует владимирский летописный свод 1177 г., характеризует его составителя так: «Сводчик 1177 г., конечно, владимирец, лицо, весьма близко разделяющее все политические планы Андрея Боголюбского и его преемника Всеволода…». Сводчиком этим, по мнению исследователя, мог быть клирик Успенского собора во Владимире180. С этим в целом можно согласиться – и именно поэтому это свидетельство исключительно ценно.
Важно и то, что сентенция о грехах новгородцев содержится и в Ип., куда она, очевидно, попала в составе ее северо-восточного источника. Исследователи по-разному определяли его характер и происхождение, однако ясно, что в основе это был владимирский свод, родственный тому, который был использован в Лавр., но не тождественный ему181. Это означает, что риторика новгородской вольности в XII в. не была плодом конструирования новгородских книжников – она была известна и становилась объектом рефлексии и в Суздальской земле, и в Южной Руси.
Владимирский летописец, несомненный сторонник весьма автократического князя Андрея Боголюбского и очевидный противник Новгорода, конечно, осуждает новгородцев за дерзость в отношении князей. Но тут важнее, как он это делает и что конкретно оспаривает. Новгородцы виновны в несоблюдении (в данном случае неважно, реальном или мнимом) договоренностей с князьями, которые они же сами поклялись соблюдать, и нарушении данного в связи с этим крестоцелования, в том, что они срамят, бесчестят князей (здесь, видимо, имеется в виду изгнание князей и связанные с этим насильственные действия), наконец, в грехе гордыни. Господь «смиряет» новгородцев за нарушение крестного целования и неоправданные, с точки зрения летописца, притязания («гордость»). Однако в самом факте того, что «прадеды» современных ему князей даровали новгородцам свободу, автор «антиновгородского» летописного сказания не сомневается – во всяком случае, прямо182. Оказывается, таким образом, что представления о новгородской вольности, дарованной некими древними князьями, были распространены не только в Новгороде, но и по всей Руси уже в 70‐е гг. XII в. А если принять во внимание, что для их формирования необходимо было время, можно думать, что сложились они не позднее середины XII в.
Косвенное свидетельство этого – горькие слова дружинников о ненадежности новгородцев, адресованные своему князю Святославу Ростиславичу, в рассказе Ип. о его изгнании из Новгорода в 1167 г.183: «А топерво суть к тобѣ хрестъ целовали вси по отни смерти, но обаче невѣрни суть всегда ко всимъ княземъ»184. К сожалению, трудно определить, в какое именно время было записано это известие. В последнее время, впрочем, благодаря лингвистическим наблюдениям И. С. Юрьевой появилась возможность высказать некоторые предположения по этому поводу. В этой статье присутствуют такие достаточно характерные маркеры, предложенные исследовательницей, как употребление в инфинитивных оборотах глагола «начати» (а не «почати») и временной конструкции «томь же лѣтѣ». Это указывает на ее принадлежность к выделенной И. С. Юрьевой на основании этих и ряда других признаков IV части Киевского свода (примерно за 1152–1171 гг.185)186. Обращает на себя внимание также тот факт, что верхняя хронологическая граница этой части маркирована словом «Зачало» и новым заголовком и совпадает с началом правления нового киевского князя из другой ветви Рюриковичей – Глеба Юрьевича из суздальских Мономашичей вместо Мстислава Изяславича из волынских Мстиславичей. Конечно, речь идет пока о предварительных наблюдениях (Киевский свод многослоен, в нем использованы разные источники, в том числе книжного происхождения), но если выявленный рубеж обоснован верно, мы вновь имеем дело практически с современной событию записью. Следовательно, представления о «неверности» новгородцев были распространены в окружении князей-потомков Мстислава Великого.
В летописном известии не говорится о новгородской вольности, там присутствуют те же мотивы, что и в рассмотренной выше сентенции о «грехах» новгородцев: обвинения в нарушении крестоцелования и недолжном отношении к князьям. Оно, таким образом, может объяснять и интерес на юге Руси к проблематике новгородской вольности, и заимствование из северо-восточного источника соответствующего рассуждения. В связи с этим обращает на себя внимание, что окончательно редактировался Киевский свод при Рюрике Ростиславиче, которому главный «герой» событий 1167 г. в Новгороде, Святослав Ростиславич, приходился родным братом. В походе на Новгород в 1170 г. участвовали как суздальские войска Андрея Боголюбского, так и полки смоленских Ростиславичей187, так что по вопросу об оценке новгородских вольностей у них в то время расхождений не было, и это вполне могло способствовать «дублированию» рассуждений владимирского летописца в южнорусском летописании.
В литературе была предпринята попытка более точно определить время возникновения представлений о новгородской вольности на основании летописных рассуждений о даровании дедами и прадедами тогдашних князей свободы новгородцам и панегирика, адресованного в Ип. от имени новгородцев умершему в 1180 г. Мстиславу Ростиславичу как князю, «створшему толикую свободу Новгородьцемъ от поганыхъ, якоже и дѣдъ твои Всеволодъ свободил ны бяше от всѣхъ обидъ»188. Б. Н. Флоря, который подробно проанализировал сентенцию о «грехах» новгородцев, считает, что «дед твой Всеволод» – киевский князь Всеволод Ярославич, который хотя и не был дедом Мстислава Ростиславича в буквальном смысле слова, но был его пращуром, предком по прямой линии (дедом его деда – Мстислава Великого, носившего то же имя)189. Эта точка зрения имеет серьезные основания. Популярность Всеволода среди Ростиславичей подтверждается другим панегириком – Рюрику Ростиславичу, в княжение которого, как уже говорилось, и возникла окончательная редакция Киевского свода. В нем говорится о том, что «богомудрыи князь Рюрикъ пятыи бысть от того» (т. е. от Всеволода Ярославича) – точно как сказано в Библии «о правѣднемь Иевѣ от Аврама»190. Таким образом, Всеволод Ярославич сравнивается с ветхозаветным прародителем множества народов и, в частности, избранного – еврейского. Любопытно, что в этом качестве выступает именно Всеволод Ярославич, а не Ярослав Мудрый или Владимир Мономах (хотя представление о «Владимировом племени» в летописи зафиксировано). Можно подумать, что это была лишь локальная традиция Ростиславичей, связанная с основанным Всеволодом Выдубицким монастырем, и этого нельзя полностью исключать, имея в виду, что автором панегирика Рюрику и, скорее всего, панегириков его предкам в Ип. был игумен Выдубицкого монастыря Моисей191. Однако если обратиться к сентенции о «грехах» новгородцев в Лавр. и Ип., нетрудно заметить следующее. Известие это, как уже говорилось, – владимирское. Если понимать указание на дарование свобод новгородцам прадедами «наших князей» буквально, оказывается, что оно ведет к Ярославичам и прежде всего ко Всеволоду: Андрей Боголюбский и его братья были правнуками именно Всеволода Ярославича192. В Киевском своде оно ведет скорее к Владимиру Мономаху. К этому времени значимый для составителя / редактора этой летописи Ростислав Мстиславич уже умер, и в роли протагонистов выступали его сыновья, прадедом которых был не Всеволод, а его сын Владимир Мономах. Разумеется, это лишь косвенное свидетельство, так как под «прадедами» могли пониматься и просто предки193. Есть, однако, прямое подтверждение того, что Всеволод Ярославич особо почитался и суздальскими Мономашичами, причем именно в контексте их притязаний на власть в Новгороде. Под 1199 г. в Лавр. и родственных ей летописях рассказывается о приглашении новгородцами на княжеский стол сына Всеволода Большое Гнездо Святослава (подробнее об этом известии будет также говориться ниже). В Лавр. прибывшая во Владимир-на-Клязьме новгородская делегация говорит Всеволоду Юрьевичу так: «Ты господинъ князь великыи Всеволодъ Гюргевич, просимъ у тобе сына княжитъ Новугороду…»194. В Летописце Переяславля Суздальского (далее – ЛПС), в котором отразилась переяславская редакция начала XIII в. более раннего владимирского свода, представленного Лавр., читаем: «Ты господинъ, ты Гюрги, ты Владимиръ, просимъ у тебе сына княжить Новугороду»195. Здесь по законам так называемого мифологического отождествления Всеволод Большое Гнездо оказывается не просто «господином» и «великим князем», а как бы реинкарнацией своих отца и деда: Юрия Долгорукого и Владимира Мономаха и на этом основании получает права распоряжаться новгородским княжением. Но в Радзивиловской и Московско-Академической летописях (далее соответственно – Радз. и Ак.) появляется еще одно дополнение: «Господине, ты еси Володимиръ, ты Юрьгии, ты Всеволод»196. На сцене появляется еще и прадед – Всеволод Ярославич, и это подтверждает, что под прадедом «наших князей» действительно могло пониматься конкретное историческое лицо. Точная датировка этого добавления вряд ли возможна. Допустимы, во-первых, два варианта. Она могла появиться в переяславской переработке владимирского свода конца XII в., а потом быть «потеряна» при переписке ЛПС (это могло быть спровоцировано, например, совпадением имен прадеда и правнука). Но это может быть и вставкой протографа Радз. и Ак., которая, в свою очередь, представляла собой опиравшуюся на переяславскую редакцию переработку владимирского свода. Во-вторых, если дело обстояло так, то точно датировать эту переработку затруднительно. Производилась она, очевидно, в интересах владимирского князя Юрия Всеволодича (сына Всеволода Большое Гнездо) и, возможно, не один раз (так, А. А. Шахматов обратил внимание на то, что в одном месте в протографе Радз. и Ак. исходное чтение «половци» было изменено на «татарове»197, что указывает на время как минимум после битвы на Калке)198. Как бы то ни было, ясно, что память о Всеволоде Ярославиче как о создателе модели отношений с Новгородом жила среди элиты Суздальской земли еще при его праправнуках.
От каких же «обид» освободил новгородцев Всеволод Ярославич? Всеволод никогда в Новгороде не княжил. В. Л. Янин предположил, что в конце 1080‐х гг. между Всеволодом Ярославичем, который был тогда киевским князем, и новгородцами было заключено соглашение, в соответствии с которым тогдашнего новгородского князя Святополка Изяславича сменял внук Всеволода Мстислав Владимирович. Это было обусловлено, во-первых, закреплением Новгорода за потомством Всеволода Ярославича, во-вторых, признанием права новгородцев самостоятельно избирать посадников199. Гипотеза представляется весьма интересной: она объясняет одновременно «культ Всеволода» в южнорусском и, возможно, северо-восточном летописании потомков Всеволода Ярославича; помещает институциональные основы новгородской вольности в эпоху, очень близкую к Ярославу Мудрому (вспомним «Ярославли грамоты» и характеристику Всеволода в начальной летописи как любимого сына Ярослава200); объясняет возмущение князей тем, что они считали нарушением этих «исконных» установлений. К этому можно еще добавить и амбивалентную оценку начальной летописью правления Всеволода Ярославича в его некрологе. Летописец, с одной стороны, весьма высоко отзывается об усопшем князе, с другой – отмечает, что «печаль бысть ему от сыновець своихъ», т. е. племянников, которые претендовали на расширение своих владений, он же их замирял, раздавая им волости201. Такой обстановке вполне соответствует и предоставление неких «протовольностей» новгородцам. Важно и то, что рассуждения о недостатках Всеволода были, по-видимому, внесены в летопись автором Начального свода 90‐х гг. XI в. при редактировании предыдущего летописного свода, т. е. через непродолжительное время после смерти князя в 1093 г. А это означает высокую степень достоверности соответствующей информации202.
Как бы то ни было, можно считать, что представления о новгородской вольности сформировались не позднее середины – второй половины XII в. и, возможно, некоторые их предпосылки возникли и ранее – не позднее конца XI в. Своеобразным «триггером», который побудил древнерусских книжников к активному осмыслению новгородской вольности, стала осада Новгорода войсками княжеской коалиции в 1170 г. Южнорусские и владимирские летописцы, не отрицая самого права новгородцев на свободы и ее институциональных форм, акцентировали внимание на их обязанности чтить князей и твердо соблюдать заключенные договоры, а новгородские летописцы, в свою очередь, не отрицая того, что их вольность была изначально дарована князьями и что в принципе они должны соблюдать договоренности, подчеркивали примат «всей воли новгородской» и de facto исходили из условности своих обязательств по отношению к князьям. Несмотря на очевидную противоположность этих установок, они основываются на некоем едином фундаменте: 1) признании легитимности новгородской вольности как таковой (при различной ее интерпретации); 2) признании того, что эта вольность в конечном счете восходит к даровавшим ее пращурам из династии Рюриковичей. Эти рамки, хотя в дальнейшем и предпринимались определенные попытки выйти за их пределы, в целом сохранялись почти до конца новгородской независимости, когда при великом князе Иване III московскими властями был взят курс на отрицание самого принципа новгородской вольности и ее институционального оформления.
После монголо-татарского нашествия какие-то значительные изменения в риторике новгородской вольности можно заметить далеко не сразу. Обнаруживаются лишь некоторые нюансы, первая фиксация которых лишь в это время может объясняться случайными обстоятельствами. Так, в рассказе о военном конфликте с ливонскими немцами в 1253 г. сообщается о заключении мира с ними «на всеи воли новгородьскои и на пльсковьскои»203. Новгородский летописец говорит здесь о единой воле двух политических коллективов – новгородского и псковского. Это, с одной стороны, свидетельствует о том, что Псков рассматривается в рамках новгородской официальной идеологии как политический организм, близкий к новгородскому или даже единый с ним, а с другой – фактически уравнивает Псков с Новгородом: Псков здесь уже не пригород. Подобные характеристики по отношению к другим новгородским «пригородам» (Русе, Торжку, Ладоге) отсутствуют.
Понять, кто являлся носителем «всей воли новгородской», можно как бы «от противного» – из тех описаний, в которых фигурирует какая-то чужая, «неправильная» (с точки зрения летописца) воля.
В 1255 г. новгородцы выгнали ставленника Александра Невского, его сына Василия, и пригласили вместо него из Пскова его дядю Ярослава Ярославича. Разгневанный Александр Ярославич двинулся во главе войска на Новгород, требуя выдать организаторов крамолы. Среди новгородцев произошел раскол, и вячшие (знатные, зажиточные) задумали «побѣти меншии, а князя въвести на своеи воли»204. Непосредственно перед этим рассказывается о принятии противоположного решения на вече: «И рекоша меншии у святого Николы на вѣчи; „братье, ци како речеть князь: выдаите мои ворогы“; и цѣловаша святую Богородицю меншии, како стати всѣмъ, любо животъ, любо смерть за правду новгородьскую, за свою отчину»205. В историографии высказывались разные мнения о социальной подоплеке этих событий. В частности, распространена точка зрения о том, что это было особое вече, в котором участвовали только «меньшие». Нам это представляется никак не вытекающим из прямого смысла известия: в нем говорится лишь о заявлениях и действиях «меньших» на вече, а не о том, что в нем участвовали только они. Кроме того, вече состоялось на своем обычном месте – у Никольской церкви на Ярославовом дворище, и вряд ли у «меньших» были какие-то возможности не пустить туда «вячших», разве что последние сами туда не явились, зная, что останутся там в меньшинстве, и не желая противопоставлять себя могущественному Александру Невскому (понятия о кворуме применительно к вечевым собраниям, как известно, не существовало)206. Но в данном случае важнее риторические приемы летописца: он явно изображает это вече и его решения как вполне законные. Более того, из его слов следует, что именно «меньшие» в тот момент выступали в роли защитников высшей ценности новгородского политического коллектива – новгородской «правды». В известии НПЛ под 1229 г. Михаил Всеволодич Черниговский, отъезжающий из Новгорода и оставляющий вместо себя своего сына Ростислава, также говорит о «правде новгородской»: «А мнѣ <…> даи богъ исправити правда новгородьская, тоже от вас пояти сына своего»207.
Что это такое?
В НПЛ слово «правда» встречается и ранее. Когда в феврале 1216 г. в Новгород вернулся князь Мстислав Мстиславич Удатный, с тем чтобы выручить новгородцев, страдавших от блокады, организованной занявшим Торжок Ярославом Всеволодичем, он, согласно летописи, заявил: «…да не будеть Новыи търгъ Новгородомъ, ни Новгородъ Тържькомъ; нъ къде святая София, ту Новгородъ; а и въ мнозѣ богъ, и в малѣ богъ и правда»208. К республиканским ценностям, однако, эта «правда» отношения не имеет. Здесь это скорее религиозное понятие, тесно связанное с евангельской этикой. Правда здесь – справедливость, освященная Христом209. Иногда «правда» в новгородском летописании – это просто обет или договор210. Иное дело – «правда новгородская».