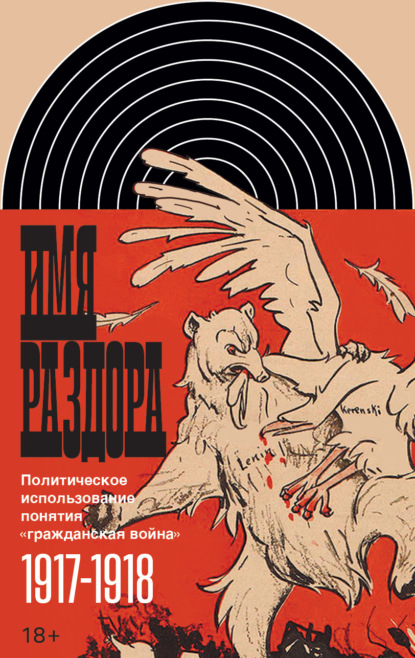Полная версия
Res Publica: Русский республиканизм от Средневековья до конца XX века
Кревская и Люблинская унии объединили земли разных вер в государство, где в конце XIV в. пришлось соблюдать паритет между католицизмом привилегированной коронной шляхты, православием русских земель и язычеством традиционной «собственной Литовской земли» (в терминологии М. К. Любавского). В историографии сложилось два встречно расположенных аналитических направления, которые не всегда достигают между собой точек соприкосновения. С одной стороны, после работы О. П. Бакуса о мотивах перехода литовской знати на московскую службу в XV – начале XVI в. ясно, что фактор религиозных притеснений православных литвинов переоценен в московском летописании600. Москва, будучи к концу XV в. престольной для православной митрополии, видела в католической власти Великого княжества Литовского главный козырь для сопротивления, успешно мобилизующего в отношениях русских земель с Ордой. И формула Городельской унии этому взгляду способствовала – принятие русских земель в состав объединения Короны и Литвы означало отказ от княжеской власти, которую православная церковь поддерживала. Вряд ли случайно, что многие из литовских перебежчиков на дворе Ивана III и Василия III были титулованными владетелями.
С другой стороны, фактор религиозных гонений до сих пор упоминают как один из ключевых в истории «цивилизационного выбора»601. Если это так, то к 10 января 1569 г., когда в Люблине открылся объединительный сейм, роль Великого княжества Литовского и литовских элит в этом выборе была совершенно неочевидна. Привилеи 1430 и 1432 гг. предоставляли права и свободы литовской православной шляхте, однако не устраняли расхождений между католическими и православными политическими языками. Княжеская власть уступала идее правящей шляхты. В конечном счете последний оплот титулов в Короне и Литве представили русские земли Великого княжества Литовского, где привилегии княжеской власти уступали вместе с ориентацией на православие уже во второй половине XVI в., претензии княжеского рода Слуцких на место в Сенате в силу правящего происхождения пресеклись вместе с мужской ветвью рода (1592 г.)602, а требования восстановить права князей звучали на сеймах еще много лет спустя после Люблинской унии (1638 г.)603. Первый Литовский Статут формально открывал доступ всем христианам к высшему управлению. Сенаторская должность К. И. Острожского была одновременно сделкой с местными православными элитами и означала, что формула Городельской унии больше de facto не действует. Приход Реформации и возобновление войны с Москвой в 1561–1562 гг. подтолкнули Сигизмунда II Августа принять Виленский (1563 г.) и Бельский (1564 г.) привилеи, открывшие примой путь к возникновению общехристианской толерантности в духе Варшавской конфедерации (1573 г.).
Во второй половине XVI в. уния мыслилась как объединение христианских земель, но под христианством понималось множество реформационных учений, и среди них – реформированные православие и католицизм, которые все имели доступ к высшей власти. Кроме того, на землях унии, как и в Московском государстве, селились правоспособные мусульмане с привилегиями религиозно-этнического меньшинства (подобных привилегий, исходящих из Москвы, мы не знаем ни в XVI в., ни в последующие два столетия), а также иудеи, которым была гарантирована королевская защита (в отличие от части Европы и от Москвы, где как раз при Иване Грозном высшая власть прямо запретила иудеям доступ на территорию государства, и вплоть до разделов Речи Посполитой во второй половине XVIII в. запреты, модифицируясь, сохранялись). Вхождение Короны и Литвы в объединение с Московским государством Ивана Грозного могло привести к серьезным потрясениям в религиозной жизни новой унии после смерти Сигизмунда II Августа. Показательно, что нам неизвестно ни о каких гарантиях, которые Москва предложила бы польско-литовским иудеям, мусульманам, а также реформационным христианам, хотя права католиков царь соглашался соблюдать. Наоборот, присоединение Москвы к Речи Посполитой могло бы снять ту напряженность в отношении к местным православным, которая, как показали исследования Бориса Гудзяка, Томаша Кемпы, Мажены Ледке, Томаша Ходаны и Василя Ульяновского, подталкивала элиту Великого княжества Литовского переходить из православия в реформационные церкви, а высшую власть в сотрудничестве с Римом – искать способы ограничить религиозный фактор в тяготении русских земель Речи Посполитой к Москве604.
***В науке преувеличена замкнутость российских политических элит. Конечно, они до царя Петра Алексеевича не ездили за границу на учебу, и крайне редки были в Москве браки с европейскими партнерами. Однако проекты отмены этого пережитка известны со времен Ивана Грозного, тогда как сами правители предпринимали попытки выехать из страны, причем неоднократно декларируя свои намерения подданным. В приписках к Лицевому своду прозвучало обращение царя к верным боярам, в котором он допускал побег своего сына из Московского царства: «Не дайте бояром сына моего извести никоторыми обычаи, побежите с ним в чюжую землю, где Бог наставит»605. По предположению С. Б. Веселовского и Б. Н. Флори, эти слова отражают настроения царя времен опричнины («в опричном угаре»)606. Впрочем, приписки в недоработанных томах Лицевого свода не могли возникнуть ранее 1576–1577 гг., когда завершались работы над огромной иллюстрированной летописью. Настроение этих приписок ближе к периоду, когда победы в Ливонской войне сменились непоправимыми поражениями и у царя усилился страх мятежа в пользу одного из наследников или Стефана Батория607.
Бегство из государства было в конце 1560‐х – 1570‐х гг. тем особым настроением, в котором концентрировались и страхи, и чаяния московских элит. А этот исторический момент был одним из самых успешных в реализации интегративной идеи по отношению к московским подданным, а особенно к московской шляхте, которая опиралась на Второй Литовский статут 1566 г. и конституцию Варшавского сейма 1578 г., пользуясь равными правами с местным рыцарством. Московские переселенцы влились в политический народ Короны и Литвы и составили его неотъемлемую часть608. Близкой им была и «российская» идентичность украинского казачества, местной шляхты и всего политического «русского народа» в составе Речи Посполитой в конце XVI – первой половине XVII в.609 Шляхта Короны и Литвы после смерти Сигизмунда II Августа считалась и с возможностью слияния с Московским государством и избрания на троны Речи Посполитой московской кандидатуры610.
На королевской службе оказались представители едва ли не всех крупнейших фамилий, окружавших московский трон. Родичами московских удельных князей были Ярославовичи, Шемятичи, Верейские. Ветвью боярского рода Захарьиных были Иван Васильевич Ляцкий и его сын Иван. Сигизмунду I Старому служил брат высших московских политиков кн. С. Ф. Бельский. Суздальская знать в лице кн. И. Д. Губки Шуйского и его потомков утвердилась в Брестском повете Великого княжества Литовского. Ярославские Рюриковичи были представлены Андреем Курбским и позднее его потомками. Тверские – кн. В. И. Телятевским, который по своему поместному праву в Московском государстве претендовал даже на ярославский титул, посягая на прерогативу Курбского и его потомков в Речи Посполитой и князей Сицких в Москве. Смоленских воплотил Владимир Заболоцкий, вспомнивший в эмиграции о своем княжеском происхождении. Предполагаемые черниговские князья были представлены кн. М. А. Ноготковым Оболенским. Впрочем, последние трое вымерли, не оставив потомства «по мечу».
Это далеко не все, кто хотел бы перейти на службу Сигизмунда I Старого, Сигизмунда II Августа и их наследников, хотя неясно, как именно Шуйский появился при дворе короля, и очевидно, что Телятевский не хотел – он сдался Стефану Баторию в Полоцке. Вместе с братом великой княгини, матери Ивана Грозного, Михаилом Глинским собирался выехать кн. Иван Турунтай Пронский – он был бы встречен своими дальними родичами из рода великих князей пронских, давно служившими литовским монархам. Не удалось бежать в июле 1554 г. кн. С. В. Звяге Ростовскому. Пытался прорваться в Литву кн. Ю. И. Горенский – но был схвачен и казнен. В начале мая 1581 г. бежал ближний родич опричных выдвиженцев царя Д. И. Бельский, который сумел уйти во главе небольшого отряда, отбившегося с потерями от преследования. Вскоре после смерти Ивана Грозного бежал М. И. Головин, позднее убитый в Литве И. И. Бунаковым, мстившим за смерть своего отца.
Среди шляхтичей, близких к ведущим московским родам, были Колычевы, Бутурлины, Тетерины, Сарыхозины, Кашкаровы, Голохвастовы, Бунаковы, Остафьевы, Зверевы, Измайловы… Не все названные роды испытали потрясения в России. Часто неясно даже, в какой именно хронологической связи находятся казни в России с побегом представителей их родов. Традиция интерпретации, идущая от С. Б. Веселовского, в целом позволила установить корреляцию между казнями и «выездами», однако во многих случаях выводы самого исследователя и последовавших за ним авторов не подтвердились. Неясно, когда именно были уничтожены «всеродне» Тетерины и Сарыхозины. Нельзя исключать как то, что царь подозревал перебежчиков в заговоре против своей особы, в результате чего были убиты их родичи, так и то, что казни охватили род еще до их побега или несколько позже (например, в виде мести за Изборскую кампанию). На стороне короля в небольшой исторический промежуток около конца 1563 – начала 1564 г. оказались одновременно не менее пяти мужских представителей Тетериных и Сарыхозиных. Трое из них на рубеже 1568–1569 гг. приняли участие в Изборской кампании князей Александра и Ивана Полубенских и привели пленных на Люблинский сейм. Одного из изборских пленников получил в подарок от кн. А. И. Полубенского Курбский611. Возможно, от этих же людей князь Андрей Михайлович узнал что-то новое и о казнях и других событиях первых лет опричнины, о чем рассказал в мартирологах своей «Истории». Это были заметные события в Короне и Литве. Они вызвали не только энтузиазм у хронистов и поэтические реплики612, но и настоящие военные триумфы в Варшаве и Люблине. Пленным и эмигрировавшим московитам выплачивали пожалования из казны в знак торжества над противником и милости короля613. На объединительном сейме прозвучали даже упреки в адрес короля, что он заботится больше о приезжих московитах, чем о собственных пленниках в Москве. Этот голос звучал из уст одного из полоцких пленников, выпущенных, чтобы призывать шляхту и короля к выкупу затворников. Впрочем, как можно полагать, царь видел в захваченной полоцкой элите в своем роде заложников, позволявших, как ему казалось, манипулировать ими в переговорах с королем и Панами радой. Конечно, впечатление эти действия царя производили прямо противоположное, но все же Ивана Васильевича окружали подданные, видящие в литвинах скорее собратьев, а не врагов.
Что роднит всех шляхтичей московского происхождения на королевской службе и что позволяет говорить о перспективе унии Литвы и Короны с Москвой? Имена перебежчиков в источниках говорят о том, что они носили типичный для ренессансной книжности национальный идентификат – они были московитами, москалями, москвитинами. К 1560‐м гг. он перестал означать прямую связь с Москвой как городом или Московским княжеством, а в подавляющем большинстве случаев имел расширительное значение, охватывая все земли, находившиеся под властью московских великих князей. Эта нация просуществовала в лице своих представителей в Европе вплоть до начала XIX в., когда была преобразована в сознании европейцев в особый стереотипный образ, в чужого «Другого» национальной культуры. Наличие своего идентификата не оставляет сомнений, что польско-литовское общество было готово видеть в эмигрантах особый народ, но не стремилось создавать никакой диаспоры или культурной основы для восприятия эмигрантов в качестве меньшинства в самой Короне, Литве, а затем – в Речи Посполитой. Московиты прямо ассоциировались с Московским государством, пока носили это прозвище, и должны были, потеряв его, потерять и свою причастность к московскому обществу. Во-вторых, правовые ситуации, в которых фигурируют в Речи Посполитой московские шляхтичи, позволяют судить о том, что сразу или вскоре по прибытии они пользовались привилегиями военного сословия нового отечества. Реестры присяги Короне Польской винницкой и брацлавской шляхты 1569 г. показывают, что московиты и их жены принесли присягу на верность королю и Короне Польской вместе с остальными своими собратьями по оружию. Впрочем, феодальная лестница была открыта для московитов, как правило, не вся. Их первые пожалования – хлебокормленье или выживенье, чаще всего состоявшее из средств на пропитание и натуральных выплат. Земельные пожалования до воли и ласки господаря не могли быть переданы по наследству, нельзя было также распоряжаться ими как-либо еще без согласия на то короля. Наиболее частой формой ленного держания было доживоте – т. е. право пожизненного владения имением, иногда расширяемого до двух и трех поколений.
Участие в войне именно против неприятеля московского не было обязанностью шляхтичей-московитов, однако считалось частью их военной повседневности. Иван Ляцкий и князь Семен Бельский прямо декларировали перед началом Стародубской войны готовность отвоевать свои отчины в Московском государстве. Князь Семен с 1536 г. осуществлял проект создания буферного государства на Рязани и Белой, в котором сам готовился стать сувереном. Допускал он и установление дружественного по отношению к королю Сигизмунду Старому, Сулейману Великолепному и крымским Гиреям правительства в Москве. Пытались решительно повлиять на Ливонскую войну Курбский в 1564–1567 гг. и связанные с ним дружбой и общими целями его соотечественники из отряда кн. А. И. Полубенского в 1568–1569 гг.
О московитах на королевской службе в королевских пожалованиях в новом отечестве говорилось, что они бежали от московского тирана, бросив свои владения, взамен которых они и награждались. Временный статус феодальных держаний нигде не определялся в связи с необходимостью отвоевать имущество перебежчиков в Московии. Так задача больше не стояла. Как будто вычеркивая эту же перспективу, в Москве в ряде случаев уничтожались родовые гнезда «изменников», благодаря чему исчезал еще в первой половине XVI в. существовавший статус разделенного рода, в котором находились многие крупные роды Московского государства и Великого княжества Литовского614.
Коллизии поджидали московитов не только в землях покинутого отечества, но и во владениях короля. Так, в имении Г. А. Ходкевича Спасове после Ульской битвы 1564 г. на московитов напали местные жители, видимо приняв отходящую с поля боя роту за наступающего неприятеля. Развернулся настоящий кровавый бой, о чем Луцкий гродский суд рассматривал иск ротмистра. Вплоть до окончания Ливонской войны реестры Королевской казны из Варшавского архива древних актов позволяют проследить службу особой роты из 50 московитов, которыми командовал какое-то время с 1563 г., видимо, Владимир Заболоцкий, а позднее также – Умар Сарыхозин и Агиш Сарыхозин. Агиш при Сигизмунде III выдвинулся на лидирующие позиции среди московитов-эмигрантов. Это положение после него не сохранилось, даже когда в Литву переезжали высокопоставленные в Москве Хованские, Салтыковы, Трубецкие и В. А. Ордин-Нащокин.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Зелдин Т. Франция, 1848–1945. Честолюбие, любовь и политика. Екатеринбург, 2004. С. 403.
2
Там же. С. 417.
3
Марей А. В. Такое разное обаяние власти: российский контекст, христианская традиция и кастильский пример // Polystoria. Анатомия власти: государи и подданные в Европе в Средние века и Новое время. М., 2021. С. 393.
4
Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2. М., 2005. С. 89–90.
5
Тарановский Ф. В. Догматика положительного государственного права во Франции при Старом порядке. Юрьев, 1911. С. 5–7.
6
Бурдье П. О государстве. Курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). М., 2012. С. 104.
7
Там же. С. 106.
8
См.: Хархордин О. Республика. Полная версия. СПб., 2021. С. 159–199.
9
Одье С. Теории республики. СПб., 2021. С. 26.
10
Отдельные тезисы этой главы публиковались ранее в сокращенном виде в статье: (Марей А. В. Народ: рождение, смерть и воскрешение политического субъекта (От Цицерона до Гоббса) // Социология власти. Т. 31 (2019). № 4. С. 95–111).
11
См.: Moatti С. Res Publica, Forma Rei Publicae and SPQR // Bulletin of the Institute of Classical Studies. Vol. 60 (2017). No. 1. P. 35.
12
Ни в коем случае не претендуя на полноту списка, отмечу, например, что только на первых страницах русского перевода 3‐й книги Тита Ливия (переводчик – Г. Ч. Гусейнов) словом «государство» оказываются переведены понятия civitas, res publica, res Romana, и еще минимум в одном случае «государство» появляется там, где у него не было латинского аналога. При этом, понятно, текст для примера был выбран буквально наугад, и с другими переводами, выполненными иными блестящими специалистами (В. М. Смириным, Н. В. Брагинской, С. А. Ивановым и др.), ситуация будет полностью аналогична.
13
О присущей авторам отечественной традиции убежденности в имманентном присутствии государства и, по сути, в его внеисторической природе можно спокойно написать отдельный текст (и даже не один!), анализируя причины этого явления и его следствия для современного гуманитарного знания. Но поскольку данная работа посвящена совершенно иной задаче, в этом вопросе я остановлюсь здесь.
14
Хотя при том, что есть исследования, посвященные греческой традиции республиканской мысли (см., например, любопытное исследование Эрика Нельсона: Nelson E. The Greek Tradition in Republican Thought. Cambridge, 2004), все же всерьез говорить о республиканизме становится возможным лишь после появления словосочетания res publica и его последующей кристаллизации в понятие.
15
Разумеется, я осознаю всю меру условности этого деления и ввожу его прежде всего для удобства изложения материала.
16
Еще одна необходимая методологическая оговорка: я не буду вдаваться в этом тексте в полемику о том, когда и где впервые возникает государство. Скажу лишь, что с моей точки зрения, позиция, вдохновленная вульгарно понятым марксизмом, согласно которой государство появляется сразу же по разложении рабовладельческого строя, не имеет никакого эвристического потенциала. Я разделяю позицию, согласно которой европейское государство представляет собой систему публично-правовых институтов, созданных ради ограничения частного произвола, создания и дальнейшей нейтрализации публичного пространства. Как таковое оно возникает в Европе в период примерно с начала XVI по середину XVII в. и окончательно оформляется лишь к концу XVIII – началу XIX в.
17
Помимо цитированной выше статьи Клаудии Моатти и приведенной там библиографии позволю себе отослать к трем классическим статьям немецких антиковедов, переведенным на русский язык и вышедшим в 2009 г. под одной обложкой по инициативе исследовательского центра «Res publica» и лично О. В. Хархордина: Дрекслер Х. Res Publica // Res Publica: История понятия. Сборник статей. СПб., 2009. С. 67–169; Штарк Р. Res Publica // Там же. С. 7–65; Шюрбаум В. Цицерон: De Re Publica // Там же. С. 171–245.
18
Об этом см.: Moatti С. Res Publica, Forma Rei Publicae and SPQR. P. 35–36.
19
Ibid. P. 38.
20
См., например, у Цицерона, где он говорит о том, что res publica – «расплывчатая, слишком общая и широкая» тема для оратора (Cic. De orat. II. 67); или не менее показательное высказывание Цезаря, сохранившееся в передаче Светония, о том, что res publica – «пустое имя без тела и облика» (Svet. Iul. 77, 1). Любопытно перетрактовывает эту фразу Цезаря Олег Хархордин в своей недавно вышедшей книге «Республика, или Достояние публики». Он считает ее указанием на то, что Цезарь, взявший единоличную власть в Риме с помощью войска, не придавал res publica вообще никакого значения и считал, что ее нужно «отбросить, как пустышку» (Хархордин О. В. Республика, или Дело Публики. СПб., 2020. С. 34). Полагаю эту интерпретацию художественным упрощением – всерьез относиться к этому высказыванию, строящемуся всего на одной фразе, к тому же даже не на собственных словах Цезаря, но на пересказе их Титом Ампием, зафиксированном в книге Светония, вряд ли возможно.
21
См. прежде всего: Дрекслер Х. Res Publica; Штарк Р. Res Publica.
22
См.: Цицерон. О Государстве. О Законах. М., 1994.
23
В русском переводе известен как «Государство»; на этом факте акцентирует внимание О. В. Хархордин в уже упоминавшейся книге, утверждая, что, переведя греческое politeia латинским понятием res publica, Цицерон «пошел на решающую теоретическую инновацию, привнеся вещественно-имущественные коннотации, которые имело слово res, входившее в выражение res publica, для интерпретации всей традиции античной полисной жизни» (Хархордин О. В. Республика, или Дело Публики. С. 30). Позволю себе не согласиться с коллегой, поскольку античная трактовка полиса изначально предполагала сильнейшую вещественно-имущественную коннотацию, ведь полис – не только собрание граждан, но и их община, проживающая на определенной территории, имеющей свои границы. Таким образом, Цицерон в этом смысле не внес ничего принципиально нового, отличие его концепции от греческой политии было в другом, о чем см. подробнее в тексте.
24
См.: Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1974.
25
Cic. De re publ. I. XXV. 39: Res publica est res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus.
26
Я сознательно оставляю в стороне вопрос о существовании (или несуществовании) в республиканском Риме государства. Об этом см. большую полемику, начатую в журнале «Вестник древней истории» на рубеже 80‐х и 90‐х гг. ХХ в. вокруг статьи Е. М. Штаерман (Штаерман Е. М. К проблеме возникновения государства в Риме // Вестник древней истории. 1989. № 2. С. 76–94); в последующей дискуссии приняли участие такие ученые, как В. И. Кузищин, Кл. Николе, А. Л. Смышляев, Л. Л. Кофанов, Л. Капогросси Колоньези, И. Л. Маяк, Г. А. Кошеленко, А. Я. Гуревич и другие.
27
Любопытную интерпретацию этого выражения предлагает Олег Хархордин, трактующий sensus не как «разум», а как «чувство»: «Латинское выражение consensus iuris можно буквально перевести не как „со-гласие“, а как „со-чувствование“ (в вопросах права), если исходить из того, что sensus – это прежде всего „чувство“. И в практическом смысле это сочувствование может появляться как результат общей практики по производству и применению права» (Хархордин О. В. Республика, или Дело публики. С. 31). Не могу согласиться с этой трактовкой, поскольку кажется очевидным, что для римлян закон прежде всего разумен. Об этом много пишет и сам Цицерон (см.: Cic. De Leg. I. 6. 18, где он называет закон «высшим разумом» (summa ratio), или Cic. De Leg. I. 7. 23, где утверждается, что, поскольку лучше разума (ratio) нет ничего, именно он соединяет людей с богами в правовом единстве»). Соответственно, и sensus в цицероновском consensus’е скорее будет указывать на разум, нежели на чувство.
28