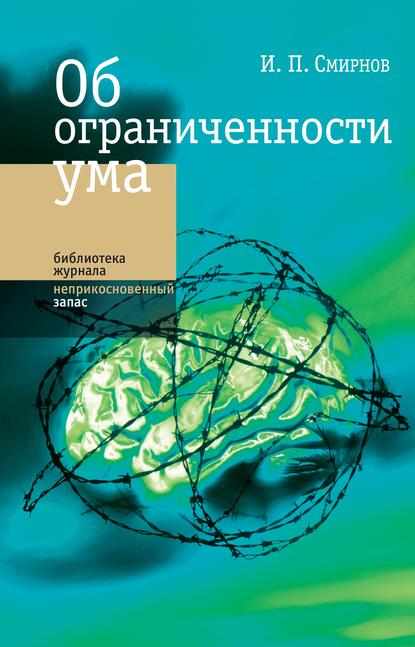Полная версия
Искренность после коммунизма: культурная история
Соответствие реальности стереотипного портрета «искреннего русского» вызывает сомнения, – но безусловно, слово «искренность» проникло в русский язык на удивление рано. В отличие от своих английского и французского аналогов понятие «искренность» встречается уже в памятниках XI века, вскоре после того, как Киевская Русь обрела письменность199. Этимологические исследования показывают, что в это время данное слово еще не имело каких-либо общественно-политических коннотаций. В церковнославянском языке политические ассоциации вызывало скорее соотносимое с «искренностью» понятие «дерзновение». Сегодня это слово кажется семантически близким к «смелости» и «дерзости», однако в древности оно отражало греческое понятие «паррезия» и отсылало, в том числе, к конструктивной критике властей. Слово «искренность» было изначально лишено подобных критических обертонов. В наиболее ранних фиксациях грамматических вариаций исходного корня – в существительном «искренность», прилагательном «искренний», наречии «искренне» – это понятие обозначало исключительно позитивные смыслы: честность, правдивость, доверительность и близость200.
В этом изначальном наборе значений скептический вопрос о том, насколько говорящий верен самому себе, не играл существенной роли. Да и почему он должен был ее играть? Этот вопрос был, в сущности, малоинтересен древнерусским книжникам: литература в то время выполняла в первую очередь религиозные и идеологические функции, ориентировалась на факты, а не на вымысел и не стремилась к индивидуальной неповторимости. В культуре, не прошедшей через Возрождение и Реформацию, представление об автономной «личности» попросту не являлось насущным вопросом201.
Ситуация изменилась в одном из важнейших произведений ранней русской литературы – написанном в конце XVII столетия радикальном и откровенном «Житии протопопа Аввакума»202. Автор-священник был сослан и заточен в острог за свое противостояние богословской реформе, проводившейся патриархом Никоном. В своем «Житии» Аввакум описывает как выпавшие на его долю мытарства, так и свою любовь к Божьему миру. Его повествование отличается необычным для той эпохи личным тоном. В тексте находится место, например, для таких персональных и критических самооценок: «А я ничто ж есмь. Рекох, и паки реку: аз есмь человек грешник, блудник и хищник, тать и убийца, друг мытарем и грешникам и всякому человеку лицемерец окаянной. Простите же и молитеся о мне, а я о вас должен, чтущих и послушающих. Больши тово жить не умею; а что сделаю я, то людям и сказываю; пускай богу молятся о мне! В день века вси жо там познают соделанная мною – или благая или злая. Но аще и не учен словом, но не разумом; не учен диалектики и риторики и философии, а разум Христов в себе имам, яко ж и Апостол глаголет: „аще и невежда словом, но не разумом“»203.
Несмотря на благочестивую риторику, язык «грешника» выражает личные эмоции и выглядит совершенно необычно на фоне своей эпохи. Не случайно Ульрих Шмид – автор истории российских автобиографий – называет книгу Аввакума «местом рождения индивидуального сознания в русской культурной истории»204. Протопоп действительно привнес в русскую литературу четко обозначившееся самосознание. Как показывает отрывок про грех и разум Христа, он старательно стилизует свое «я» под образ социального изгоя, говорящего грубым языком205. Установка на грубость и неграмотность делает Аввакума несомненным предшественником будущего классического русского литературного типа: человека искреннего и грубого, чей голос противостоит лощеным, но лицемерным представителям правящих классов.
XVIII ВЕК: ОПАСНЫЙ ЯЗЫК СЕРДЦА
В следующем столетии искренность стала все больше волновать интеллектуалов именно как общественный вопрос. Лицемерие превратилось в острую политическую проблему, в особенности в (до)революционной Франции. Исторические исследования убеждают нас в том, что влияние словаря эмоций Франции XVIII века на публичную сферу трудно переоценить: в тогдашней политической и общественной мысли понятие «искренность» стало стержневым культурным понятием.
Действительно, с появлением романтизма французское sincérité стало крайне влиятельным словом. Жан-Жак Руссо – возможно, самый известный в истории литературы адепт искренности – охотно прибегал к этому понятию в своих исповедальных сочинениях. По словам Анри Пейра, у Руссо термин даже стал «замещать почти любое качество, моральное или эстетическое»206. Руссо придал ему и политическую окраску: для философа «искренность» обозначала непосредственное выражение отдельной личностью своего «я» в противоположность его социально легитимированному сокрытию – то есть лицемерию общественной, или цивилизованной, жизни, в особенности придворной207.
Руссо – ключевая фигура в той истории искренности, которую мы здесь прослеживаем. С одной стороны, на него оказало большое влияние развенчание придворного лицемерия, а с другой – его представления об искренности оказались в высшей степени важны для развития французской революционной мысли. По словам историка Линн Хант, французские республиканцы ценили «непосредственное выражение сердечных чувств выше любых других личных качеств». Для них «прозрачность идеально подходила в качестве медиатора между общественным и частным; прозрачность состояла в том, что человек не лжет и ничего не скрывает. Она приравнивалась к добродетели и в качестве таковой считалась важнейшим условием для будущего республики. Лицемерие, напротив, грозило республике гибелью: …оно лежало в основании контрреволюции»208. Другими словами, в идеальном государстве, как его представляли революционеры, сердца и умы простых людей и носителей власти искренне солидаризуются.
Французские революционеры не были одиноки в оценке искренности как жизненно важного качества. В XVIII веке в разных европейских странах это понятие постепенно стало занимать центральное место в отдельных художественных произведениях и в языке культуры в целом. По словам исследователя британской поэзии Дэвида Пэркинса, в течение этого столетия «искренности <начали>… требовать от всех художников»209. Как и в ранней модерности, это слово опять стало встречаться в тех областях, где сходились частное и общественное; однако социальные группы, которым приписывалась искренность, разделялись теперь куда более резко. На фоне возросших возможностей для путешествий, захватнических войн и растущих торговых связей «искренность» оказалась ключевым словом в нарождающемся националистическом дискурсе. Так, первые британские националисты указывали на искренность как на главную английскую добродетель. Как показал историк Джеральд Ньюман, в ранних националистических дебатах постепенно сформировались отношения эквивалентности между «Искренностью» и английским «Национальным Идеалом как таковым»210. В чисто бинарной логике, которую так любят националисты, «английское – искреннее – благое» последовательно противопоставлялось «офранцуженному – неискреннему – тлетворному»211.
Взгляд английских националистов на Францию совпадал с восприятием французского двора как «лицемерного», которое было распространено среди революционно настроенной интелллектуальной элиты в самой Франции. Французские революционеры, однако, употребляли понятие «лицемерие» несколько иначе, чем британские националисты. Последние проецировали идеал «искреннего» общества на весь народ. Французские интеллектуалы считали, что это идеальное свойство присуще только части французского общества – а именно простым людям. Завороженная литературой и только нарождающимися представлениями о правах человека, французская интеллектуальная элита обратилась к сентиментализму, с его тезисом о том, что обездоленные люди тоже умеют чувствовать. Французские интеллектуалы, поначалу признававшие способность чувствовать за всеми людьми, вскоре стали рассматривать благородные человеческие чувства как принадлежность исключительно низших социальных слоев, и селян в особенности212.
Антрополог Уильям Редди в пионерском исследовании истории языка эмоций элит в истории Франции обсуждает эту «веру в чистоту и искренность эмоций сельских жителей» в особенности213. Редди задается вопросом: в какой мере подобная вера могла ускорить начало революции? Ученый признает, что дать ответ нелегко; но для него не вызывает сомнений та сложная и противоречивая роль, которую «язык сердца» и в особенности слово «искренность» сыграли с наступлением Революции и Террора. В судебных делах 1780‐х годов это слово стало звучать непосредственно в залах судебных заседаний после того, как «лицемерие» формально приравняли к преступлению. В юридических документах того времени пострадавший и преступник стали постоянно изображаться как соответственно «искренний» простолюдин и «манерный» аристократ214. С течением времени подозрение в неискренности превратилось в мощный инструмент правосудия: в некоторых случаях подобные подозрения приводили к смертным приговорам. Пытаясь «управлять людьми на основе искренности и управлять так, чтобы порождать искренность, даже когда применяешь чистое насилие», революционеры радикализировали риторику искренности до такой степени, что она оказалась способна в буквальном смысле слова разить насмерть215.
РУССКИЙ СЕНТИМЕНТАЛИЗМ: ИСКРЕННИЕ ГРАЖДАНЕ ЦАРЯ
Язык сердца особенно проявил себя как опасный в революционной Франции; однако сентименталистский словарь, разумеется, оказал большое влияние и на другие дискурсы борьбы за свободу и демократизацию. Сегодня ученые сходятся на том, что сентиментальная риторика сыграла важную прогрессивную роль, например, в британско-американских спорах XVIII века по вопросам рабства и аболиционизма216.
В России конца XVIII века интеллектуалы, плененные и этими спорами, и масонскими идеалами, и наследием Руссо, также начали выражать недовольство социальным неравенством. Наряду с «благородными» чувствами они выступали за верховенство дорациональной (и искренней по сути) «человеческой природы» над такими модерными понятиями, как цивилизация и культура. Более того, русские сентименталисты сделались адептами общеевропейского культа саморефлексии, в котором чувствительность и сопереживание ближнему рассматривались как норма217. Исследователи показали, что эти категории – чувствительность и сопереживание – не были лишены внутренних противоречий. На практике сентименталистская «нечаянность» выражалась в четко предписанных ритуалах; установка на домашний уют тесно сочеталась с замечательным чутьем на моду и социальный этикет. Можно было сколько угодно воспевать семейный очаг, но при этом следовало выглядеть максимально красиво и в соответствии с образцом218.
Парадоксальное расхождение спонтанно-личного, с одной стороны, и социокультурного этикета – с другой, не уменьшало тем не менее влиятельности нового типа общественного сознания. Оно также не помешало сентименталистски настроенным авторам полностью преобразовать словарь русского языка. До тех пор язык не был приспособлен к выражению эмоций отдельных индивидуумов, однако в результате сентименталистского поворота для этого появилось много новых слов. Кроме того, многие уже существовавшие понятия были переосмыслены и пересмотрены с позиций нового взгляда на мир. Среди этих переосмысленных понятий важнейшее место занимала «искренность».
Прежде чем оставить XVIII столетие, я хотела бы более пристально рассмотреть эту модификацию понятия «искренность», поскольку она имела фундаментальное значение для посткоммунистической России. Как мы видели, само слово вошло в русский язык задолго до возникновения в России сентиментализма. В ранних словоупотреблениях оно относилось по преимуществу к религиозным или семейным отношениям219, хотя иногда попадало в политические контексты. Один текст времен Московской Руси, например, указывал, что боярин – это «искрьнъй <т. е. ближний>» царя220. Михаил Ломоносов в своей оде Петру Великому создавал связующее звено между искренностью и политической властью, воспевая «искреннюю любовь» россиян к своему государю221. У Ломоносова понятие «искренность» отмечено как позитивное, однако – и здесь мы сталкиваемся с семантическим переходом – не все современники поэта помещали термин в столь же положительно окрашенные семантические поля. В конце того же XVIII века стала заметна постепенная смена настроений российских литераторов и публицистов – от государственнических к антигосударственным взглядам или, по крайней мере, к весьма критической позиции по отношению к власти222. Эта смена настроений совпала с переосмыслением понятия «искренность» – переосмыслением, без которого невозможно представить как предреволюционный освободительный дискурс, так и (пост-)советскую риторику искренности.
Суть концептуальной перемены наглядно показывает знаменитая повесть Николая Карамзина «Бедная Лиза» (1792). Повествователь в этой краткой истории любви подчеркнуто приписывает искренность именно простым людям. В одной из самых цитируемых фраз русской литературы автор уверяет читателей, что «и крестьянки любить умеют»223. Как указала Катриона Келли, современники любили карамзинскую повесть не в последнюю очередь за ее риторику искренности и вызванный этим «демократизирующий» эффект: рассказ читался как критика самодержавия и как «новаторский манифест искренних чувств», пропагандировавший равноправие всех русских в области эмоций224. (Позднее, в повести «Моя исповедь» (1802), Карамзин, правда, будет едко пародировать руссоистские идеалы эмоциональной прозрачности, однако эта социальная сатира привлечет куда меньшее внимание публики225.)
Сходным стремлением к новой, политически ангажированной концептуализации искренности отличается радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву». Травелог – жанр, который наряду с дневниками и письмами входил в число любимых сентименталистами форм как в России, так и за ее пределами. Все три литературные формы отличаются стилем, близким своей нарочитой «неприглаженностью» к манере написанного веком раньше «Жития протопопа Аввакума»; подобный стиль теперь служил признаком художественной и человеческой прямоты. Концептуальная связь между сознательной безыскусностью языка и искренностью предвещает стремление сегодняшних блогеров к несовершенному языку как гарантии подлинности – но к этой теме мы вернемся в четвертой главе. Сейчас для нас важно то, что «Путешествие» Радищева – самый, пожалуй, известный травелог в России – и озвучивало исторический протест против самодержавия и крепостничества, и закрепляло слово «искренность» на ментальной карте российской критической политической мысли. Искренность (точнее, ее отсутствие), по Радищеву, прямо обусловлена российскими социальными проблемами. С его точки зрения, не только царский режим не обладал этим качеством226, но и интеллектуальная элита страдала от его недостатка227. Вторя французским революционерам, автор «Путешествия» приписывал искренность исключительно русскому народу, по преимуществу крестьянству228. В программном размышлении Радищев писал: «Если престол ее <власти> на искренности и истинной любви общего блага возник», то разве не должен он не наказывать, а любить своих «искренних» граждан?229
И у Радищева, и у Карамзина риторика искренности становится частью оппозиционности, как это постепенно происходило в Западной Европе. В отличие от провластной позиции Ломоносова – который связал искренность с действиями правительства – для первых это понятие оказывается маркером разрыва между государством и народом. Для Радищева именно слово «искренность» схватывает момент политического несогласия – так, по крайней мере, предполагает его неоднократное появление в радищевском травелоге. Наречие и прилагательное «искренне/искренний» автор повторяет девять раз, существительное «искренность» – четыре раза230. В 10 из этих 13 случаев это слово используется в отчетливо политическом контексте.
ДОЛГИЙ XIX ВЕК: НОВЫЕ СМЫСЛЫ ИСКРЕННОСТИ
Радищев сумел найти место для искренности на социополитической карте России, французские республиканцы силой проводили в жизнь мечту об «искреннем» обществе, а между тем в конце XVIII века обнаружились и другие семантические расслоения этого понятия.
Прежде всего, в это время возрождается характерное для ранней модерности «подозрение в неискренности» по отношению к новым технологиям. Подобно тому, как читатели эпохи Возрождения предпочитали печатным текстам рукописи, во времена романтизма реакцией на индустриализацию и урбанизацию стала идеализация «естественного» и неприятие всего городского и технологичного. Не случайно романтики – как художники, так и мыслители – воспринимали городскую жизнь и стандартизованное машинное производство как угрозу человеческой искренности. Конечно, не все романтики придерживались антитехнологической риторики, но она оказалась формообразующей для направления в целом. В таких канонических романтических текстах, как «Песочный человек» Эрнста Гофмана (1816) и «Франкенштейн» Мэри Шелли (1818), подчеркнуто искренние герои настойчиво противопоставлялись бездушным машинам. Не случайно Джон Рёскин – один из ведущих художественных критиков позднеромантической эпохи – противопоставлял «отлаженную точность механизма» «человеческому разумению» и «свободомыслию»231. Рёскин, для которого «величайшее искусство изображает свой предмет с абсолютной искренностью»232, выстраивал жесткую оппозицию между индустриализированным совершенством и человеческим творчеством в своем знаменитом изречении: «Запретить несовершенство – значит погубить выразительность… парализовать биение жизни»233.
Как у Рёскина, так и у многих других процесс индустриализации вызывал повышенный интерес к искренности, соотносившейся со всем необработанным, доиндустриальным, небезупречным. Это не единственная перемена в риторике искренности, которую породили в то время технические новации. Рост урбанизации и растущая социальная мобильность способствовали, по словам историка культуры Карен Халтунен, возникновению «культа искренности» в среде городского среднего класса. Халтунен исследовала проявление подобного культа в американской общественной жизни середины XIX века. По ее словам, «по мере того, как крупные города постепенно вытесняли городки и поселки в качестве доминирующей формы социальной организации… отчуждение между людьми становилось скорее правилом, чем исключением» и многочисленные публикации о социальном этикете возвели искренность в ранг панацеи, решающей «проблемы лицемерия в мире полном чужих людей»234. Их призывы были услышаны: в Америке середины XIX века мода, социальное поведение и литература оказались буквально зачарованы искренностью как эстетическим и моральным идеалом. Европа урбанизировалась с не меньшей скоростью, и там так же широко распространялись схожие настроения. Весьма показательно, что в середине столетия датский философ Сёрен Кьеркегор обосновал, как выразился один исследователь, «принцип „человеческой искренности“» как основание «новой религии»235.
В ту же эпоху европейские понятия об искренности претерпели еще одно семантическое «приращение». Вслед за институционализацией прав собственности, демократизацией меценатства и развитием литературного рынка конец XVIII века ознаменовался коммерциализацией литературы, когда писатели стали превращаться в знаменитостей, а их произведения – в товар. Эти институциональные изменения вызвали оживленные споры о неподкупности и искренности творца236. Люди озаботились вопросом: если писатель намерен продать свое сочинение, то совместимо ли это с желанием чистосердечного самовыражения? С течением времени проблема «тиражи или искренность?» превратилась в своего рода общее место. Широко известны высказывания французского поэта Поля Верлена, который в письмах и автобиографических заметках выставлял себя циником, создающим душещипательные произведения исключительно ради денег. Однажды поэт язвительно поведал, как сочинял книгу патриотических стихов, которые должны быть «очень милыми и очень трогательными… очень наивными, разумеется, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы показать себя до абсурдности искренним»237.
Верленовское отношение к «продажности» литературы предвещает современную художественную критику, которая, как я покажу ниже, упорно размышляет о стратегических преимуществах искренности. Но пародия Верлена доводит до предела еще одну грань свойственной XIX веку риторики искренности. Речь идет о фундаментальной проблематизации самого этого понятия. С самого начала, как мы видели, рассуждения об искренности вызывали определенные подозрения, но именно начиная с эпохи высокого романтизма самокритичное, ироническое отношение к этому понятию сделалось литературным и философским лейтмотивом. Даже среди ранних романтиков не все безоговорочно идеализировали искренность. Некоторые видели и оборотную сторону медали. Для них искренность трансформировалась из идеала, к которому следовало всеми силами стремиться, в морально неоднозначную утопию238. По мере того как романтическая ирония становилась нормой для творческой элиты, искренность начала осознаваться как нечто в принципе недостижимое, и с течением времени литературу стали заполнять почти кокетливые заявления авторов о своей неискренности. «Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек» – так Достоевский в знаменитых первых строчках «Записок из подполья» (1864) представляет своего героя. «Записки» изображают человечество в крайне мрачных тонах. Но они не уникальны: у Достоевского и его современников постоянно встречаются представления о личности, чувствующей безнадежную раздвоенность между «истинным я» и холодным рацио, которое постоянно занято анализом «искреннего» начала и потому не дает ему свободно действовать.
Таким образом, искренность оказалась весьма проблематичным концептом в тогдашних литературно-философских спорах. В других дискурсах она сохранила более устойчивый смысловой стержень. Я описывала выше, как в XVIII столетии искренность выдвигалась в качестве позитивного элемента бинарной оппозиции, противопоставлявшей «добродетельную Англию» «продажной Франции» или «лицемерного двора и аристократии» «честному» народу. В XIX и начале XX века эта тенденция – приписывать искренность либо исключительно своему собственному государству, либо непривилегированным социальным группам – консолидировалась в националистической и популистской риторике. В конце XIX века немецкие националисты поставили стереотип имманентной «немецкой искренности» на службу национальному строительству (стереотип, который спародирует Ницше, когда напишет, что «немец любит „откровенность“ и „прямодушие“: как удобно быть откровенным и прямодушным!.. Немец… смотрит на все своими честными, голубыми, ничего не выражающими немецкими глазами – и иностранцы тотчас же смешивают его с его домашним халатом!»239). Похожим образом – хотя уже в рамках не националистической, а скорее популистской риторики – Маркс и Энгельс указывали на преимущества рабочего класса над «лицемерной» буржуазией240, а французские философы XIX – начала XX века идеализировали sincérité как священный долг французской демократии241. «Если обаяние старого режима состояло в вежливости, – категорично заявлял французский драматург Эрнест Легуве в 1878 году, – то долг демократии – быть искренней»242.
Манера связывать понятие искренности с конкретными государствами, социальными группами или политическими системами; глубокий скепсис по отношению к самому этому термину; признание того, что искренностью можно манипулировать, используя ее как стратегический прием; культ искренности как реакция на технический прогресс – именно в этих новых контекстах фигурировало данное понятие в течение XIX столетия. Без них современное представление об искренности немыслимо. На предыдущих страницах я вкратце изложила историю этих изменений в Западной Европе и Америке – однако связанная с этим термином рефлексия прошла через ряд радикальных перемен и в России XIX века. К этим переменам мы теперь и обратимся.
ДОЛГИЙ XIX ВЕК: РОССИЯ
Лайонел Триллинг в своем классическом исследовании искренности и подлинности указывает на принципальную разницу между английскими понятиями «sincerity» (искренность) и «authenticity» (подлинность, аутентичность). По его словам, если sincerity имеет «общественный ориентир», то authenticity относится не к внешней коммуникации, а к направленному внутрь самовыражению. Триллинг считает, что authenticity в гораздо большей степени, чем sincerity, вмещает «все то, что культура, как правило, осуждает и от чего стремится избавиться… например, беспорядок, насилие, безрассудство»243. По его убеждению, с течением времени этот более инклюзивный идеал постепенно вытеснил социальный идеал искренности244.
Выдвигая свои идеи о sincerity и authenticity, Триллинг имел в виду западные культуры. Как связаны и как взаимодействуют между собой те же понятия в России: ответ на этот вопрос показался вполне ясным Светлане Бойм, которая была уверена, что в русском языке просто нет слова, соответствующего понятию «authenticity»245. Я не могу полностью с этим согласиться: в наше время английское слово «authenticity» обычно переводится либо как «подлинность», либо как «аутентичность», и сама Бойм в другом месте обсуждает русские представления о подлинности (хотя совершенно верно указывает, что в российском контексте подлинность соотносится прежде всего с юридической аутентичностью и с категорией авторства)246. В то же время, по моим наблюдениям, в России понятие подлинности (как я буду переводить этот термин здесь) не имеет того привилегированного культурного статуса, который оно постепенно обрело в некоторых других культурах. Скорее наоборот: чем дальше, тем крепче в публичном российском дискурсе укореняется понятие «искренность».