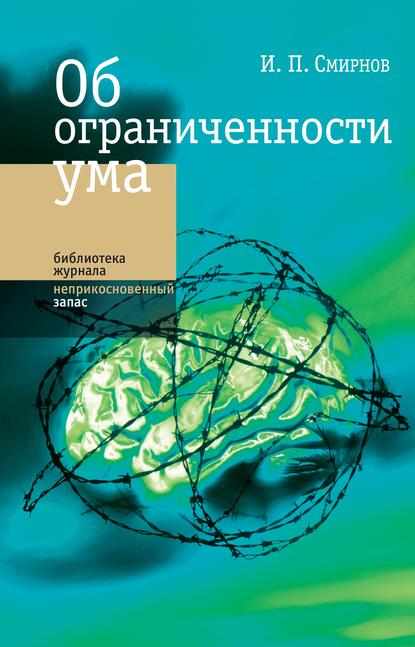Полная версия
Искренность после коммунизма: культурная история
То же касается и более поздних российских дебатов о постпостмодернистской искренности. На них повлияли российские переводы таких культовых для адептов «новой искренности» писателей, как Дэйв Эггерс и Эрленд Лу154, – однако нельзя сказать, что именно с этих переводов разговор о новой искренности начался: когда книги вышли по-русски, дебаты о новой искренности уже шли полным ходом. В свою очередь, американские писатели-блогеры охотно приняли тексты о постпостмодерности и новой искренности, написанные Эпштейном, который быстро выложил их англоязычные версии онлайн после их первой публикации в конце 1990‐х годов155. Англоязычная «Википедия» в статье «новая искренность» ссылается в том числе и на российские источники и посвящает отдельную, хорошо документированную главку «новой искренности в России».
Одним словом, нельзя говорить ни о совершенно независимых, ни о полностью взаимозависимых обсуждениях новой искренности в России и за ее пределами. Местные варианты дискуссий на эту тему вовлечены в сложную хореографию, в которой глобальный, национальный и региональный уровни постоянно пересекаются и накладываются друг на друга и чьи вариации мотивируются экономическими и социальными, равно как и пространственно определяемыми факторами. В дальнейшем я предлагаю постнациональный или транснациональный подход к современной риторике новой искренности. Подобный подход, хотя я здесь обсуждаю прежде всего российский контекст, не останавливается на границах России как национального государства156. Почему постнациональный подход продуктивен, хорошо показывает случай flippi754. В марте 2009 года этот блогер выложил призванные внушать оптимизм фотографии девушек в «Старбаксе» и при этом объяснил: «Это и есть новая искренность: капельки весеннего дождя на щеках и горячий кофе во рту»157. В зависимости от возраста и социального окружения flippi754 его комментарий мог возникать как интертекстуальный отклик на постсталинистскую риторику в не меньшей степени, чем на споры вокруг культовых представителей «новой искренности» вроде американской группы «Bright Eyes».
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Книга «Искренность после коммунизма» исследует глобальные аспекты возрождения искренности и предлагает синтетический взгляд на его посткоммунистические – в особенности российские – проявления. Ее истоком было ощущение, что данный дебат требует иного прочтения по сравнению с тем, что предлагалось раньше: прочтения внешнего комментатора, который не вовлечен в саму дискуссию и при этом может учесть ее диахроническое развитие. Ныне существующие работы по истории российской новой искренности либо настроены к ней критически, либо защищают ее. Они либо выступают в качестве ее агентов, либо яростно ее отрицают – другими словами, воспринимают этот предмет как нечто лично близкое. Моя авторская позиция – другая. У меня нет иллюзий относительно того, что я могла сохранить полную невовлеченность в разворачивающиеся дискуссии, но в то же время я успела проследить их происхождение и диахронические трансформации с позиции относительного аутсайдера. Эта позиция имеет свои недостатки (как, например, разобраться в броуновском движении творческих проектов времен перестройки, не имея опыта непосредственного участия в них?). Однако та же позиция представляется идеальной для панорамного обзора постсоветских дебатов о новой искренности, а именно такого обзора до сих пор и не было предложено.
Почему постсоветский дискурс об искренности требует столь подробного культурно-исторического анализа? Возможно, на этот вопрос будет легче ответить, если указать на тех, кто общими усилиями этот дискурс создавал. Блогеры регулярно жалуются, что им надоело слышать на каждом углу разговоры о новой искренности. Журналисты уверены, что новая искренность «не то чтобы совсем тю-тю, но она уже какая-то не „новая“, а почти старая»158. Участники чата, c которого начиналось мое введение, относятся к этому понятию с долей пренебрежительной иронии. Как мы видели, новое кредо для них достаточно любопытно, чтобы упомянуть его в онлайн-чате, но они также дают понять, что объяснять его значение слишком утомительно. После краткого и небрежного обсуждения новой «теории» оба юзера соглашаются, что надо оставить «кошмар» этой «новой искренности» на произвол судьбы и обратиться к чему-нибудь более интересному.
Репутация понятия, над которым посмеиваются, которое кажется публике «вчерашним днем», хорошо показывает, какой именно частью современной постсоветской культуры стала в наши дни риторика новой искренности. Это понятие с большой регулярностью звучит и в России, и повсюду в мире – в блогах, в твиттере и в других социальных медиа, а также во влиятельных интеллектуальных публикациях. И оно продолжает вызывать споры. В ноябре 2012 года принстонский профессор литературы Кристи Уэмпоул опубликовала в New York Times статью под названием «Как жить без иронии». Уэмпоул призвала отказаться от иронических социальных форм и хипстерской культуры и заняться вместо этого «культивацией искренности, скромности и самоустранения»159. Ее статья многих задела за живое: к ней было написано более 700 комментариев, и в интервью Уэмпоул рассказала, что получила более 400 реакций по электронной почте со всего мира160. Все писавшие горячо спорили о том, как сейчас нужно относиться к иронии и (новой или возрожденной) искренности. Этот вызванный статьей Уэмпоул медийный шум иллюстрирует основное положение данной книги: дискуссии о возрождении искренности в наше время идут с особой силой.
Однако современные адепты искренности не явились невесть откуда, как Афродита из морской пены. Их риторика восходит к старым представлениям о правдивости и собственном «я». Она многим обязана таким образцам культурной истории, как Конфуций, Аристотель или, скажем, неистовый протопоп Аввакум. Глава, к которой мы теперь перейдем, исследует эти исторические корни и объясняет, как они соотносятся с интересом к проблеме искренности, которую встречаем у юзеров А. Ш. и bordzhia, поэта Пригова, академика Уэмпоул и множества их современников.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ
Строгие умы насмехались над ней; аналитики пытались расшатать ее; преподаватели безжалостно подчеркивали в студенческих работах слишком легковесные доказательства величия чуть ли не каждого произведения в силу его «искренности»… Понятие «искренность» стало самой мощной движущей силой в литературе и психологии нашего времени.
Анри Пейр. Литература и искренность 161В определенный момент истории… ценность, которую <определенные люди и классы людей> придавали продвижению искренности, стала важной и, возможно, определяющей чертой западной культуры на целых четыреста лет.
Лайонел Триллинг. Искренность и подлинность 162Такими утверждениями в 1960‐х годах Анри Пейр и Лайонел Триллинг, не страшась радикальных универсализаций, открыли дорогу исследованиям истории искренности. И они, и другие авторы работ о циркуляции этого понятия на протяжении веков сделали немало для прояснения его культурных истоков. В данной главе я не буду приводить подробные пересказы предложенных ими обзоров, и такие важнейшие для истории риторики искренности вехи, как Мишель де Монтень и Франсуа де Ларошфуко, не украсят ее страниц. Не будет здесь и подробного описания истории перформативности, иронии, субъективности и личности – того семантического кластера, который обязательно фигурирует в любом разговоре об искренности. Здесь не следует искать, например, имени Ричарда Рорти, хотя нельзя отрицать решающее значение его идей о перформативности и иронии на современную риторику искренности163.
Я ставлю перед собой более узкую задачу. В моем диахроническом обзоре классические работы Пейра и Триллинга будут сочетаться с современными исследованиями риторики искренности. При этом мне важно проследить те дискурсивные исторические тропы, которые резонируют с современными интерпретациями термина, особенно (хотя и не только) в России.
«Но почему же именно Россия? – может удивиться человек, далекий от русистики. – Почему не какая-то другая культура?» Этот выбор был далеко не случайным: по словам писателя и критика Михаила Берга, вся история русской литературы «определялась дихотомией искренность/ирония»164. Само по себе столь резкое разграничение между искренностью и иронией не особенно продуктивно, но меня чрезвычайно интересует популярность размышления об искренности в России как культурно-исторический факт. То, что оно весьма распространено, не подлежит сомнению: как заметили Биргит Боймерс и Марк Липовецкий, «понятие „искренность“… наполнено в русской культуре непропорционально высоким значением», в особенности начиная с советской эпохи165. Россия, таким образом, занимает центральное место в общей транснациональной истории, которая будет прослежена в этой главе. Я покажу исторические корни трех тематических комплексов, которые доминируют в современных дискуссиях на данную тему: искренность и память; искренность и коммодификация; искренность и медиа.
Мы начнем с комплекса «искренность и память». В современном дискурсе искренность глубоко укоренена как в историко-политической сфере, так и в общественной памяти. Когда этот термин всплывает в постсоветских интеллектуальных дебатах, он, как правило, выступает в двух контекстах: социополитического противостояния («лицемерной» официальной культуре) и желания преодолеть («неискреннее») недавнее прошлое. Зачастую участники дискуссий приписывают искренность определенной нации или социальной группе, отмечая, например, этим знаком достоинства Россию или ее интеллектуальную элиту.
Второй тематический комплекс – «искренность и коммодификация». Разговор об искренности в наше время неизбежно включает сомнения и подозрения философского или практического свойства. Может ли художник или писатель быть везде и всегда искренним? Как спонтанная искренность уживается с зачастую сугубо рациональной и трудоемкой творческой задачей? Эти вопросы составляют суть современной озабоченности этим понятием.
Третий и последний комплекс – «искренность и медиа». Сегодня искренность часто концептуализируется как понятие, свойственное именно дигитальным медиа. Некоторые аналитики указывают на социальные медиа как на главные источники тех модусов письма, которые выражают немыслимую прежде постпостмодернистскую искренность. Другие видят в автоматизации угрозу личному общению людей и полагают, что справиться с этой угрозой может только подлинная человеческая искренность.
Одним словом, современные концепции искренности: а) определяются социополитически; б) скептичны по умолчанию; в) сосредоточены на новых медиа. Каковы истоки этих представлений? Насколько они специфичны для постсоветской России? И как в постсоветском восприятии искренности используются и переосмысляются исторические интерпретации искренности, характерные для других культурных контекстов? Это и есть главные вопросы данной главы, предлагающей историческую прелюдию к другим главам. Разумеется, я не смогу дать полные ответы на эти вопросы: мне придется делать огромные пропуски во времени и пространстве, и, хотя иногда я буду затрагивать юридические, художественные и другие области, основным материалом служат те источники, с которыми я ближе всего знакома: литературные и философские тексты. Несмотря на эти неизбежные ограничения, пунктирный исторический обзор, который найдет читатель в этой главе, послужит необходимой аналитической опорой для последующего анализа постсоветской ситуации.
ИСКРЕННОСТЬ ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ: ОТ ДРЕВНОСТИ ДО РАННЕЙ МОДЕРНОСТИ
Эмоциональные нормы меняются с течением времени, и даже в рамках одной человеческой жизни одна и та же личность может принадлежать к нескольким эмоциональным сообществам с различными наборами эмотивных ценностей. Эти предположения стали общепринятыми среди современных теоретиков эмоций166. То же верно и по отношению к историческим прочтениям искренности: вопрос о том, что является искренним поведением, а что является неискренним поступком, получал несхожие ответы в различные периоды и в разных местах. Однако, при всем разнообразии ответов на этот вопрос, в них упорно повторялась одна черта: как только упоминалось слово «искренность», являлись и сомнения относительно возможности искреннего самовыражения. Не случайно и в истории языка, и в современном узусе это существительное легко сочетается с глаголами, обозначающими неверифицируемое внешнее представление и подозрение: искренность есть нечто такое, что адресант «проявляет», – или то, в чем адресат должен «убедиться»167.
Задолго до того, как это слово вошло в наш словарь, коннотации недоверия, бросающего тень на данное понятие сегодня, уже связывались с теми атрибутами, которые сольются позднее в слове «искренность»: умение быть правдивым и не притворяться. Недоверчивость к этим качествам была характерна далеко не только для так называемого «Запада», и я не согласна с теми исследователями, которые полагают, что искренность относится именно к основам «западной метафизики»168. Еще в IV–III веках до нашей эры в Китае были распространены конфуцианские понятия «чэн» и «чэншен», которые в наше время переводятся как «искренность», но буквально значат моральную ответственность быть «верным самому себе»169. Представление о «чэншен» как обязанности, которую должен исполнять человек, говорит о том, что страх перед неискренностью был распространен и в Юго-Восточной Азии, причем в глубокой древности.
На другом конце мира сходные страхи материализовались несколько ранее в том, что обычно называют «платоновским разграничением» – тем «открытием разрыва между видимым и (подлинно) сущим», которое составляет основу философии Платона170. В древнегреческой философии представление об искренности воплощалось также и в фигуре речи, называемой «паррезия», обозначавшей моральный долг оратора высказываться откровенно и, если необходимо, критически по отношению к власти171. Интерес к искренности заметен и в аристотелевской «Риторике». По словам историка культуры Лисбет Кортхалс Алтес, «в трех „пистейях“, или средствах убеждения, различаемых Аристотелем и Цицероном, – этос, пафос и логос, – внимание направлено на те аспекты коммуникации, которые оказываются близки к тому, что современная теория речевых актов относит к разряду искренности… этос для Аристотеля включает „три вещи, внушающие доверие к оратору… Это здравый смысл, добродетель и благорасположение <по отношению к аудитории>“. Ораторы поступают дурно <среди прочего>, когда „вследствие порочности говорят не то, что думают“»172.
Способность говорящего быть честным по отношению к аудитории высоко ценилась в древних культурах. Это качество сохранило высокую оценку и в Средние века, что доказывает недавно вышедшая монография нидерландского культурного историка Ирен ван Ренсвуд. В ту эпоху, как показывает исследовательница, правители толерантно относились к резким инвективам в свой адрес, потому что верили: в здоровом обществе критик монарха «должен быть искренним». С точки зрения ван Ренсвуд, тогдашнее отношение предвосхитило нынешнее почитание свободной, вольной речи как признака «смелости, подлинности, нонконформизма и искренности» такими политиками-популистами, как, скажем, Герт Вилдерс в Нидерландах173.
В традиции паррезии и «искреннего критика монарха» вопрос о том, честен ли человек по отношению к внешним инстациям, был прнципиальным, – но вопрос о том, верен ли говорящий своей собственной «личности», оказывался менее важным174. Ситуация выглядела иначе в период раннего христианства, когда знаменитые исповедальные сочинения апостола Павла и Блаженного Августина способствовали более сложным представлениям о человеческом «я», в которых неспособность быть «верным себе» заняла центральное место. Однако вопрос о том, честен ли говорящий, выдвинулся на первый план только в культуре ранней модерности, когда слова sincerité и sincerity появились сначала во французском, а затем и в английском языке. Оба слова происходят от латинского термина sincerus – «чистый», «настоящий» или «незапятнанный», – который первоначально служил указанием на несмешанность материальных объектов (чистое, неразбавленное вино) или на чистоту теологических понятий (нефальшивая доктрина)175. В новых концепциях личности и субъективности, которыми отмечено мышление ранней модерности, – по известному выражению Стивена Гринблатта, в эпоху Ренессанса «имелись как „я“, так и идея, что его можно формировать»176, – понятие искренности вскоре стало представлять собой проблему. «Что значит быть искренним?» Этот вопрос все чаще задавали мыслители того времени, сталкиваясь с ошеломляющим разнообразием переходных культурных явлений. Радикальные социальные смены беспрерывно заставляли их менять прежние взгляды и стирали традиционные различия между частным и общим. Я имею в виду и возникновение театра как вида искусства, и переход от рукописной к печатной книге, и постоянно ширившиеся нападки на «лицемерное» католичество, и характерный для Ренессанса рост городов. Появление предназначенных для постановки пьес, возникновение стандартизированных средств коммуникации, популярность кальвинистских антиклерикальных призывов отдавать сердце Богу «ревностно и искренне», а также быстрый рост социальной мобильности – все эти общественные факторы способствовали подъему интереса к личности, истине и правдивости177. По словам Сьюзен Розенбаум, они порождали «новое недоверие», для которого «риторика искренности» должна была выступить в качестве посредника178.
В публичных дебатах того времени искренность зримо присутствует, например, в реакциях на радикальные изменения в средствах коммуникации. Мике Бал и Эрнст ван Алфен считают, что с появлением книгопечатания и профессионального театра «искренность оказалась вовлечена в медийные формы, которые усложняли… интегрированное семиотическое поле, в котором тело и разум считались чем-то единым»179. Эти новые медийные формы отнюдь не были встречены единодушным одобрением. Историки СМИ показывают, что появление нового средства коммуникации всегда вызывает всплеск социальных надежд, фантазий и страхов180. Это верно и по отношению к медийным нововведениям эпохи Ренессанса: они порождали сильную озабоченность судьбой искренности. Повсеместное распространение книгоиздательского пиратства, например, ставило издателей перед серьезными проблемами, навлекая на них недовольство покупателей и провоцируя кризис доверия. Критики обвиняли печатные книги в «неподлинности», «заурядности» и, как следствие, в меньшей искренности181 – словом, в том, что они лишь искусственная копия рукописных книг. Историк книжности Адриан Джонс показал, что издатели пытались обелить свою продукцию тем, что старательно «проецировали аутентичность в область книгопечатания»182. Для достижения этой цели они придумывали остроумные средства: сознательно имитировали манускрипты, используя квазирукописные шрифты. В результате возникали несовершенные с виду книги, выдающие себя за те «искренние» образцы, которые так ценят покупатели183.
Как я покажу в четвертой главе, схожие тенденции – проецировать искренность в сферу «старых» медиа и видеть в эстетическом несовершенстве гарантию человеческой искренности, реализуемую в рамках новых медийных технологий, – мы встречаем в российском и глобальном дискурсе о дигитализации184. Но риторика искренности времен ранней модерности предвосхищала постсоветский дискурс об искренности и в другом отношении. Я имею в виду ее всеобъемлющую политизацию.
С одной стороны, понятие «искренность» – неотъемлемая часть «персональных» концепций личности, строившихся на императиве «оставаться верным самому себе». С другой стороны, едва поставив вопрос о семантических корнях искренности, мы сразу же попадаем в другую, совсем не частную, а скорее общественную и несомненно политическую область185. В раннемодерной культуре рождение понятия «искренность» совпало с появлением «идеи общества»186, и новое слово сразу же стало встречаться в контекстах, относящихся к публичной сфере. Историк Джон Мартин показал, как в рамках ренессансной концепции человеческого «я» граждане могли выбирать между «внешней», «благоразумной» личностью, следовавшей правилам общественной или придворной жизни, и «внутренним» идеалом искренности187. Искренность, таким образом, исходила из сферы приватного, однако при этом не должна была замыкаться в ней. Для английских кальвинистских богословов, например, «частный» идеал искренности оказывался неразрывно связан с гражданским действием политической оппозиции: они гордились тем, что публично выражали свои личные взгляды на властей предержащих188.
Своей установкой на публичное выражение личных чувств кальвинизм продолжал знакомые нам риторические традиции греческой паррезии и средневековой свободной речи. В этих традициях искренность связывалась с политической оппозиционностью (особенно, но не только со стороны интеллектуальной элиты), а лицемерие – с политическим статус-кво (воплощенным, например, в государственной власти или в католицизме). Помимо английских кальвинистов, схожих взглядов на человеческое «я» придерживался и современный им немецкий культ искренности. Историк литературы Инго Штёкманн описывает, как в начале XVII века так называемая старогерманская оппозиция позиционировала себя как образец искренности, противопоставленный лицемерному французскому двору. Представители этой оппозиции выдвигали понятие искренности в качестве ответа на историческую необходимость формировать политические сообщества189. Сходную консолидирующую функцию понятие искренности сыграло в подъеме Голландской республики. Ее адепты противопоставили искренность и притворство как мерило проверки и доказательства преданности правителя своему народу190. Наконец, в ту же эпоху во Франции драматурги выдвигали искренность как спасительное средство против разложения двора и всепроникающего лицемерия придворной жизни191.
Мой последний пример – французская антипридворная риторика – послужил прообразом крайне политизированного культа искренности, распространившегося во Франции конца XVIII века. К этому культу мы вскоре вернемся, пока же отмечу только одно: как и другие вышеприведенные примеры из раннего модерна, ему была свойственна риторическая манера резко противопоставлять искренность и лицемерие как качества конкурирующих политических или социальных групп – групп, чье взаимное неприятие стремились подчеркнуть ораторы. Как будет показано во второй главе, современный российский язык искренности немыслим без этого социополитического использования термина. Однако, прежде чем обратиться к сегодняшнему дню, нам надо продолжить путешествие сквозь время. Теперь это путешествие ведет нас в Россию.
РОССИЯ: ДЕРЗНОВЕНИЕ И ИСКРЕННОСТЬ
Как я уже отметила, многие авторитетные исследования риторики искренности полагают, что это явление имеет несомненно западное происхождение. На самом деле проблематика выражения искренних чувств человека, разумеется, никогда не ограничивалась Западной Европой и Соединенными Штатами. В начале этой главы мы уже упоминали Китай, обратимся теперь к России.
По мнению группы российских лингвистов, возглавляемых Анной Зализняк, одной из восьми «ключевых идей», формирующих русскую языковую картину мира, является «идея, что хорошо, когда другие люди знают, что человек чувствует»192. К числу слов, выражающих эту мысль, принадлежит и прилагательное «искренний»193. Зализняк и ее коллеги не одиноки в предположении, что данное слово в русском языке всегда имело уникальный статус. Лингвист Анна Вежбицка утверждает, что русское существительное «искренность» покрывает куда больший диапазон значений, чем обычно используемое для его перевода английское слово «sincerity»; по ее мнению, оно включает понятия «kindness (добросердечие)», «innocence (чистосердечие)» и «depth of feeling (душевность)»194. Наконец, известный историк литературы Светлана Бойм в своем исследовании российской повседневности утверждала, что «русское слово „искренность“ предполагает родство, близость, интимность, этимологически восходя, вероятно, к слову „корень“ – все это придает русскому понятию искренности известную „крайность“. <…> <Это слово> предполагает не столько чистоту, сколько душевное родство и проявляется в общепринятых ритуалах, которые русскими воспринимаются как искренние, но которые иностранцам могут казаться чересчур театральными»195. Добавляя к этимологии антропологические наблюдения, Бойм продолжает: «Русские коды искреннего поведения гораздо более эмоциональны и открыто экспрессивны по сравнению со своими западными аналогами»196.
Выводы Бойм и ее коллег соответствуют старому стереотипу относительно внутреннего мира русских людей. По словам историка культуры Катрионы Келли, когда иностранцы говорят о «русских эмоциях», они обычно подразумевают «выражение чувств, которое кажется естественным, искренним, непредсказуемым, идущим от сердца или… „из глубины души“»197. Показательным для этого представления оказывается понятие «русская душа» – стойкий миф о русском национальном характере, якобы менее рациональном и более непосредственном, чем темпераменты других народов198.