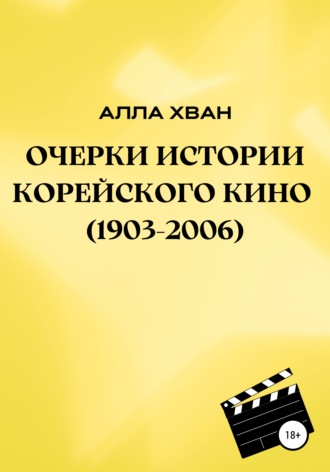
Полная версия
Очерки истории корейского кино (1903–2006)
До экономического кризиса количество коммерческих фильмов намного превышало выпуск тенденциозных картин. Тенденциозные фильмы с классовым подходом не сумели всерьез заинтересовать публику и не стали идеологическим «оружием классовой борьбы». Большинство киностудий подчинились военному положению и по заказу японской колониальной администрации выпускали прояпонские фильмы. Малейшее подозрение в антияпонских настроениях приводило к постоянным переделкам фильмов, штрафам и арестам.
Несмотря на ужесточившиеся условия в 1932 году в прокат выходит фильм «Лодка без хозяина» (A Ferry Boat that Has No Owner \ Ferryboat with no ferryman \ The Ownerless Ferry Boat, Imja-eobsneun nalusbae \ Imjaeomneun narutbae \ Imja'omnun Narupae, 1932) первый фильм режиссера Ли Гюхвана (Lee Gyu-hwan, 1904–1982), снятый по его собственному сценарию. Мелодрама «Лодка без хозяина» пользовалась большим коммерческим успехом.
Содержание фильма. История о крестьянине Сусаме (Soo-sam), который после наводнения в поисках заработка отправляется с больной женой в Сеул, совершает воровство, попадает в тюрьму, а, освободившись, узнает, что жена ему изменяла. Сусам возвращается с маленькой дочерью в родную деревню и работает лодочником на речной переправе. Через десять лет начинается строительство моста. Постаревший Сусам остается без работы. Он заметил, что молодой архитектор, занятый на строительстве моста, откровенно заигрывает с его повзрослевшей дочерью. Сусам отправляется к архитектору, чтобы поговорить с ним. Но в перепалке Сусам яростно бросается на архитектора и погибает в драке.
А в это время от опрокинутой керосиновой лампы загорается дом Сусама. И его дочь погибает в огне. А на реке одиноко качается лодка без хозяина.
Роль лодочника Сусама сыграл На Унгю. Он специально побрил голову для этой роли, что придало его персонажу необычный и запоминающийся вид. А роль его дочери сыграла юная актриса-дебютантка Мун Эбон (Moon Yae-bong \ Mun Ye-bong, 1917–1999).
Японская газета «Хотти симбун» в отзыве на фильм, отметила высокий профессиональный и художественный уровень «Лодки без хозяина»[259]. Режиссер-дебютант Ли Гюхван стал знаменит и популярен.
Режиссер Ли Гюхван родился в 1904 году. С 7 лет он жил в Сеуле вместе с матерью. С 14 лет Ли Гюхван учился в школе городе Тэгу, где занимался в художественной молодежной студии. С 18 лет он стал членом этой студии. Сначала Ли Гюхван мечтал стать композитором, но популярность звезды экрана корейского актера и режиссера На Унгю заставила его пересмотреть свои планы.
Ли отправился в Сеул, а оттуда в Японию, на учебу. Проработав год на японской киностудии, Ли Гюхван решил уехать в Голливуд. Изучать английский язык он отправился в Шанхай. Возможно, из-за нехватки средств для путешествия в Голливуд, Ли Гюхван вернулся из Китая в Японию, где работал и учился у одного из лучших японских кинорежиссеров, приверженца симпа (новой драмы) Кэндзи Мидзогути (Kenji Mizoguchi, 1898–1956)[260]. В своих фильмах о японских женщинах Мидзогути «мастерски воплощает на экране стойкость и активный протест против жестокого угнетения»[261], которому подвергались служанки, проститутки, фрейлины, попавшие в немилость т. п. По всей вероятности, под влиянием лучших японских фильмов в корейском кино также закрепилась тема сочувствия к женщинам.
Вернувшись в Корею, Ли Гюхван работал кинообозревателем в газете «Чосон ильбо» и писал роман «Жизнь улучшается». В Сеуле он познакомился с На Унгю и пригласил его на главную роль своего будущего фильма. В 1932 году Ли пишет сценарий по мотивам своего романа, в окончательном варианте, фильм выходит под названием «Лодка без хозяина». Фильм был создан на деньги корейской молодежной группы, выступавшей за просвещение деревни[262].
По базе данных корейских фильмов в 1933–1939 годы Ли Гюхван снял шесть фильмов на разных киностудиях: «Жизнь улучшается» (Getting Better Life, Balg-aganeun insaeng, 1933), «Море, поговори со мной» (Sea, Talk to Me, Bada-yeo malhara, 1935), «Последние слова Ли Монрёна» (Epilogue of Lee Mong-ryong, Geu hu-ui, (Lee)dolyeong, 1936), «Радуга» (Rainbow, Mujigae, 1936), «Скиталец» \ «Путник» (Wanderer, Nageune, 1937) и «Новое начало» \ «Новый старт» (A New Start, Sae-chul-bal, 1939)[263].
Все фильмы Ли Гюхвана были сняты в период освоения производства звукового кино. Судя по кратким аннотациям, это были современные мелодрамы и семейные драмы. Например, семейная драма «Новое начало» пользовалась большим успехом и собрала сто тысяч зрителей[264].
Первые корейские мелодрамы
Большинство корейских мелодрам немого периода снимались по одной драматургической схеме новой драмы симпха: любовь, разлука, встреча – и снова разлука (часто, тюрьма или бродяжничество). Зрители сочувствовали героям – хорошим людям, попавшим в тяжелое положение (преследование полиции или подлецов, трагические обстоятельства, недоразумения и т. д.). Финал всех мелодрам, по требованию цензуры, один – герои уходили прочь или погибали.
По Ким Хва, в 1933 г. в прокат было выпущено три фильма. Большим успехом пользовалась мелодрама Ким Гванчу (Kim Gwang-ju, 1910–1973) «Прекрасная жертва» / «Замечательная преданность» (Beautiful Devotion, Aleumda-un huisaeng, 1933) о рыбаке, пропавшем в море. Через много лет он возвращается и узнает, что у его жены другая семья. Рыбак не беспокоит любимую жену и тайно покидает родные места.
В 1934 году зрители посмотрели шесть корейских фильмов. Самыми удачными были мелодрамы Ли Чхангына (Lee Chang-geung, 1908–1999) «Возвращение души» (Returning Spirit, Dol-a-oneun yeounghon, 1933) о тяжелой жизни корейских крестьян, умерших на чужбине (в Китае) и «Грустная песня города» (The Elegy of the City, Dohoe-ui biga, 1936) о парне, вернувшемся из города в родные места.
Немой фильм режиссеров Ли Мёну (Lee Myoung-woo \ Lee Myeong-u, 1901-) и японца Токихико Ямасаки (Tokihiko Yamasaki) «Сказание о Хонгильдоне» (The story of Hong Gil-dong, Hong Gildongjeon, 1935) о сыне помещика и наложницы, корейский аналог Робина Гуда, пользовался большим успехом. Фильм посмотрели сто тысяч зрителей[265]. На следующий год Ли Мёну получил возможность снять свою версию «Истории о Хон Гильдоне» (Story of Hong Gil-dong, Hong Gildongjeon, 1936). Возможно, фильм Ли Мёну был звуковой.
Мелодрама Ан Чонхва (Ahn Jong-hwa, 1902–1966) «Перекресток молодости» (Turning Point of the Youngsters, Cheongchun-ui sibjalo, 1934) о девушке из бедной семьи, выданной замуж за богатого старика. Девушка уходит от нелюбимого мужа и становится кисэн[266]. По базе данных корейских фильмов, это история о взаимоотношениях парней и одной девушки, приехавших на работу в Сеул[267].
Период немого кино в Корее был отмечен успехом двух классических фильмов: «Ариран» На Унгю и «Лодка без хозяина» Ли Гюхвана. Эти фильмы, так же как и другие корейские мелодрамы, созданные во времена японской оккупации, были объединены «темой разделенного страдания»[268], основанной на мелодраматических образцах демократически настроенной новой японской драмы симпа, но с учетом антияпонских настроений корейцев, поддерживавших организации, выступавшие за независимость страны. Фильмы, насколько это было возможно, отражали реальные условия жизни в Корее: преследования людей, подозреваемых в антияпонских или левых настроениях, бедность, настороженность и недоверие.
Страдали только положительные герои – хорошие люди, искренне сочувствующие и бескорыстно поддерживающие друг друга, что помогало им переносить преследования японской охранки, которую в кино часто подменяли несправедливыми ударами судьбы. Зрители с особенным чувством сопереживали незаслуженно обиженным женщинам, благородным героям, оказавшимся в трагически неразрешимых ситуациях, разлученным влюбленным, не способным защитить свою любовь и т. п.
Большинство зрителей по личному опыту знали о тяжелой участи тех, кто попадал в немилость или в застенки японской охранки. Причем, несмотря на сложившееся мнение о том, что мелодрамы предпочитают женщины, практика развития современного южнокорейского кинематографа доказывает, что желание сострадать, сочувствовать, сопереживать свойственно и мужчинам. В отличие от боевиков и триллеров, в первых корейских мелодрамах главный герой был не просто мужчиной, он олицетворял мужество, отвагу и доброту корейцев. И это очень отличало корейские фильмы этого жанра от японских мелодрам о несчастной любви благородной гейши и ее слабохарактерного любовника.
По данным Корейского киноархива (KOFA), «в период с 1910 по 1920 год было произведено семь отечественных фильмов, а с 1920 по 1930 год – 61 фильм. Но в Корейском киноархиве нет копий фильмов, снятых между 1910 и 1930 годами»[269].
Период звукового кино (1935–1949)
Звуковой период в корейском кино начался с появления первой корейской версии знаменитой легенды «Сказание о Чхунхян» (The Story of Chun-hyang, Chunhyangjeon, 1935), выпущенной 4 октября 1935 года братьями Ли – Ли Пхильу (Lee Phil-woo, 1897–1978) и Ли Мёну (Lee Myoung-woo \ Lee Myeong-u, 1901-). Совершенно очевидно, что братья Ли смогли снять первый звуковой фильм Кореи только благодаря финансовой и технической поддержке японской киностудии «Кёнсан \ Гёнсан» (Kyeong Sung Studio \ Kyungsung Studio).
По базе данных корейских фильмов, сценаристами фильма были Ли Гисэ и Ли Гуён, режиссером и кинооператором Ли Мёну, а Ли Пхильу занимался световыми и звуковыми эффектами. Музыкальное оформление было доверено Хон Нанпха (Hong Nan-pa, 1898–1941). Роль Чхунхян исполнила корейская актриса Мун Эбон, исполнившая роль дочери в знаменитом фильме «Лодка без хозяина» Ли Гюхвана.
Первый фильм на корейском языке «Сказание о Чхунхян» (Ch'unhyang-jon, 10 бобин, 35мм) посмотрело 150 тысяч зрителей![270]
В то же время режиссер На Унгю работал над третьей серией своего знаменитого «Арирана» (Arirang (part 3), Alilang<3pyeon>, 1936) в звуковом варианте, но закончить фильм удалось только в начале 1936 года[271]. Понятно, что независимым корейским продюсерам и кинорежиссерам, к числу которых относился На Унгю, было очень трудно конкурировать с теми, кто сотрудничал с японскими оккупационными властями.
В 1937 году японские войска вторглись в Китай. Японцы никогда не скрывали, что аннексия Кореи – только этап в завоевании обширных территорий на материке. Подавление культуры, порабощение населения в Корее были подчинены одной цели – завоевать северо-восточную часть Китая. «С начала японо-китайской войны в 1937 году и до 1945 года производство фильмов в Японии полностью находилось под контролем Министерства внутренних дел и Отдела массовой информации имперской армии. Строгая цензура предыдущих лет еще более ужесточилось с принятием в 1939 году «Закона о кино». Теперь и Министерство внутренних дел, и армия, в значительной степени субсидировавшие индустрию кино, могли принудить выйти из игры любую строптивую кинокомпанию, увольнять актеров, делать внушения режиссерам. Официальные лица просматривали не только каждый сделанный фильм, но ввели также цензуру сценария»[272].
Корейская киноиндустрия была трансформирована в инструмент японской военной пропаганды[273]. К тому же большинство корейских режиссеров столкнулись с серьезными финансовыми и техническими трудностями, связанными с производством звукового кино. На киностудиях продолжали снимать немые фильмы. Из шести фильмов, выпущенных в 1936 г., уже четыре были звуковыми.
Самый удачный – музыкальный фильм «Поющая Корея» (Songs of Joseon, Nolaejoseon, 1936) режиссера Ким Санчина (Kim Sang-jin, 1905). Режиссер Ли Гюхван на японской киностудии «Новая кинема» осваивает звуковое кино и снимает мелодраму «Радуга» (1936).
По базе данных корейских фильмов, драма «Радуга» была снята на киностудии «Ённамфильм» (Yeong Nam Film Co.). Возможно, это была студия с японским капиталом и техникой, такая же как «Чосон Кинема» или «Чосонфильм» (Cho Sun Film Co.), на которой Ли Гюхван снимал свой коммерчески успешный фильм «Новое начало» (1939)[274].
К сожалению, почти все корейские фильмы немого и начала звукового периода были утрачены.
«Сладкие грёзы» Ян Чунама
«Сладкие грёзы» (Sweet dream \ Lullaby of Death / Death's Lullaby, Mimong, 1936) – дебют режиссера Ян Чунама (Yang Ju-nam \ Yang Joo Nam, 1912).
Ян Чунам родился в Сеуле в 1912 году. В 1932 с помощью братьев Ли Пхильу и Ли Мёну поступил на киностудию «Кёнсан \ Гёнсан» (Kyeong Sung Studio) и обучался профессии монтажера. В 1936 году Ян Чунам работал монтажером фильма На Унгю «Ариран. Часть третья» (1936). Вскоре Ян Чунам стал помощником режиссера.
В сентябре 1936 года Ян Чунам выпускает в прокат свой режиссерский дебют – мелодраму «Сладкие грёзы» или «Колыбельная смерти» / «Смертельная колыбельная». Этот фильм снял первый корейский профессиональный кинооператор Ли Пхильу.
Содержание фильма. Действие фильма «Сладкие грёзы» разворачивается в Сеуле 1930-х годов. Главная героиня красавица Асун (Ae-sun) – жена чиновника. У них есть дочь – 10-летняя Ёнхи (Jeong-hui). Асун ругается с мужем, она недовольна тем, что ей нечего надеть. Она хочет другой жизни. Муж выгоняет ее. Дочь пытается помирить родителей, остановить мать. Но Асун уходит.
У Асун есть любовник, молодой мужчина зловещей внешности с противными усиками. Он любит Асун, они живут в европейской гостинице. Но вскоре она узнает, что ее любовник – вовсе не из богатой семьи, а грабитель. Асун сама увидела, как он со своим напарником выбегал из чужого номера гостиницы. Асун разоблачает любовника прямо перед тем, как в их номер входят двое полицейских. Во всех газетах пишут об Асун. Ее муж узнает об этом. После ареста любовника Асун отправляется в Пусан. Она едет в праворульной машине, просит водителя прибавить скорости. Она спешит на отходящий поезд. Несмотря на пустынную дорогу, водитель сбивает Ёнхи. Асун выбегает из машины. Она узнает свою дочь, рыдает, трясет девочку. Но та не приходит в сознание.
В больнице Асун у кровати Ёнхи. Врачи сообщают, что Ёнхи поправится. А девочка бредит: «Мама, мама». Ёнхи приходит в себя, видит мать и просит не оставлять ее. Асун обещает. Она лежит на кровати рядом с кроватью Ёнхи. Девочка счастлива и спокойно засыпает. Но Асун не находит себе места, плачет и выпивает яд. В палату вбегает разъяренный муж. Он держит в руке револьвер. Но Асун замертво падает с кровати. Отец подходит к кровати дочери, которая снова бредит во сне: «Мама, мама». Револьвер выпадает из рук отца. А на полу лежит мертвая мать девочки.
Второе название фильма «Смертельная колыбельная» (Lullaby of Death), возможно, цензоры или прокатчики настояли на втором названии, чтобы привлечь публику, намекая на трагическую смерть героини в финале.
Критики отмечают, что в своем фильме режиссер Ян Чунам выражает негативное отношение к «Новому Поколению Женщин», широко распространенное в то время[275]. Трагический конец таких распущенных, тщеславных и безнравственных Новых Женщин показан в образе Асун. Она, как ее реальные прототипы, легкомысленно относится к своему мужу и дочери, и спокойно уходит от маленькой дочки к любовнику.
Главную роль в фильме «Сладкие грёзы» исполнила самая популярная актриса того времени Мун Эбон (Moon Yae-bong \ Mun Ye-bong, 1917–1999). После Корейской войны она стала самой известной киноактрисой в КНДР[276].
Возможно, из-за творческого и коммерческого провала своего кинодебюта Ян Чунам двадцать лет работал монтажером с такими режиссерами как Чхве Ингю (Choi In-kyu \ Choi In-gyu, 1911), Юн Ёнгю (Yun Yong-gyu, 1913) и др.
Сегодня фильм «Сладкие грёзы» смотрится как исторический киноматериал о жизни корейцев в 1930-х годах. Мужчины, представители среднего класса, в фильме, возможно, как и в жизни, одеты в европейские костюмы. А женщины, в основном, носят традиционную одежду – ханбок. Но некоторые девушки в театрах и на улице в европейских платьях и с короткими стрижками. В театре есть телефон-автомат. И в европейской гостинице в номере есть телефон. На улицах Сеула немноголюдно, машины все черные, похожи на американские «Форды».
Особенно ценны кадры окрестностей Сеула 1930-х годов и динамичная сцена гонки автомобиля и поезда. Но желание молодого режиссера показать все снятое, привело к путанной истории о легкомысленной красавице Асун. Нельзя не согласиться с комментариями южнокорейского кинорежиссера Ким Суёна (Kim Soo-yong) о фильме «Сладкие грёзы»: «Фильм «Сладкие грёзы» должен стать ценным уроком для тех молодых режиссеров, которые пытаются плохо копировать западные фильмы»[277].
О том, что фильм был в прокате во время японской оккупации свидетельствуют вертикальные титры на японском языке, находящиеся на экране справа. Других намеков на то, что фильм снят во время японской оккупации нет.
Копия звукового кинофильма «Сладкие грёзы» была обнаружена в 2006 году в Китае представителями Корейского Киноархива (Korean Film Archive (KOFA). По данным 2006 г., этот фильм является старейшим корейским фильмом, сохранившимся на кинопленке.
В рамках проекта ЮНЕСКО «Память мира» в Республике Корея действует система регистрации культурного наследия. В 2006 году начались дискуссии о регистрации старых корейских фильмов. В 2007 году «Сладкие грёзы», единственный фильм, снятый до обретения независимости (вместе с шестью другими фильмами, снятыми уже после обретения независимости) был зарегистрирован как культурная ценность Кореи[278].
Ужесточение требований к производству корейских фильмов
С 1936 года генерал-губернатор Кореи Дзиро Минами (Jirõ Minami) проводил жесткую политику, что сказалось и на корейской киноиндустрии. Всем корейским режиссерам было предписано снимать фильмы о «человеческих чертах в японских солдатах», «восхвалении воинственного духа» в подданных японского императора. Корейцы по возможности старались не принимать участия в производстве военно-пропагандистских японских агиток и занимались экранизацией японской и корейской литературы.
В 1937 г. из пяти корейских фильмов три были звуковыми: «О, Моннё» На Унгю, «Скиталец» Ли Гюхвана и «Сказание о Симчхон» Ан Сокёна (An Seok-yeong, 1901–1950). В 1938 г. были выпущены четыре фильма: немой «Река Хан» (Han River, Hangang, 1938) Пяк Унхена (Baek Un-haeng, 1906) и три звуковых – «Молодежный отряд» (Corps of Youth, Cheongchunbudae, 1938) Хон Гэмёна (Hong Gae-myeong, 1906-), «Военный поезд» (Military Train, Gun-yong-yeolcha, 1938) Со Гвончэ (Seo Gwang-je, 1906-), «Записки по выживанию» (Dosaengrok, Dosaenglog, 1938) Юн Бончхуна[279].
С 1938 года японские власти «в рамках национальной политики» (кокусаку эйга) упразднили городскую любовную историю – мелодраму, один из наиболее доходных жанров в кино. В 1939 г. помимо фильмов опытных режиссеров («Лампа рыбака» (Fisherman's Fire, Eo-hwa, 1938) Ан Чхольёна (An Cheol-yeong, 1909-), «Песня горькой любви» Ким Юёна, «Новое начало» \ «Новый старт» Ли Гюхвана, состоялся режиссерский дебют Чхве Ингю (Choi In-gyu, 1911-) «Граница» (Frontier, Guk-gyeong, 1939) – попытка сочетать военно-патриотические настроения с элементами мелодрамы[280].
По замыслу японских колонизаторов, корейцы должны были стать «народом-слугой» Империи. Постоянные массовые аресты и преследования корейских журналистов, писателей и поэтов лишили большинство кинематографистов гражданской воли. В основном это были молодые люди, как Чхве Ингю, родившиеся после начала японской колонизации Кореи, закончившие школу на японском языке и получившими образование в Японии.
В феврале 1938 г. был опубликован закон о «добровольном» наборе корейцев в имперские сухопутные войска. В эти войска шли неимущие выходцы из деревни, доведенные до состояния крайней нищеты японской колониальной политикой. В апреле 1938 г. в Корее был опубликован Закон «О всеобщей мобилизации во имя государства», согласно которому «японская колониальная администрация могла использовать любые материальные и трудовые ресурсы. Около 667 648 корейцев были привлечены к самым разнообразным работам, главным образом на рудниках, оборонных заводах, строительстве оборонительных сооружений. Нередко, в целях соблюдения «секретности» после завершения работ корейских рабочих убивали[281].
Первый корейский кинофестиваль
После 1926 г. было снято более сорока[282] фильмов, но вероятно, не все из них можно было назвать собственно корейскими. По каким критериям определялись подлинно национальные фильмы в Корее в те годы не известно. Вероятнее всего, киносообщество, в основном, находившееся в Сеуле и Пусане, прекрасно знало о творчестве каждого режиссера[283].
26-28 ноября 1938 г. общенациональная газета «Чосон ильбо» организовала в Сеуле первый национальный кинофестиваль[284]. В конкурсе участвовали 10 немых и 10 звуковых корейских фильмов. Среди них, немые картины: «Ариран» (На Унгю), «Лодка без хозяина» (Ли Гюхван), «Перекресток молодости» (Ли Гёнсон), «История о Чанхва и Хонрён» (Ким Ёнхван), «Три друга» (Ким Ёнхван).
В списке звуковых фильмов были «Сказание о Симчхон» (Ан Сокён), «О, Моннё» (На Унгю), «Скиталец» (Ли Гюхван), «Записки по выживанию» (Юн Бончхун), «Сказание о Хонгильдоне» (Ли Мёну), «Ариран» (3 серия, На Унгю), «Река Хан» (Пяк Унхен).
Первый приз среди немых фильмов был заслуженно вручен сценаристу, режиссеру и актеру На Унгю за фильм «Ариран» (1926). Лучшей звуковой картиной была признана картина «Сказание о Симчхон» (The Story of Shim Cheong, Sim Cheongjeon, 1937) Ан Сокёна[285].
Вероятно, отбор фильмов был достаточно строгим, поэтому в конкурсе приняли участие всего двадцать фильмов. Примером принципиального подхода к участию в конкурсе может служить не отобранный в конкурс немой вариант сказки «Сказание о Симчхон» (1925) режиссера Ли Гёнсона, не имевший коммерческого успеха, но и, вероятно, не отличавшийся художественными достоинствами.
Такое же строгое отношение к отечественным фильмам сохранилось в Республике Корея и наши дни. Критики, историки, обозреватели, журналисты и кинематографисты коллегиально выбирают фильм для участия в конкурсе МКФ в Пусане, а лучшие работы южнокорейских кинематографистов иногда (но не всегда) открывают этот кинофестиваль.
По всей вероятности, оккупационные власти, разрешившие проведение первого национального кинофестиваля, всерьез были озабочены антияпонским настроением участников и зрителей этого общенационального, культурного события. В рамках «теории» об общих корнях японцев и корейцев 16 августа 1939 г. приказом создается так называемая Ассоциация корейского кино, которая в 1940 г. включается в состав Ассоциации японского кино. Из 12 членов квалификационной комиссии было назначено два корейца[286]. Помимо дискриминационных настроений, по всей вероятности, корейское кино того периода было менее разнообразным, чем японское.
Без финансовой и административной поддержки киноиндустрия в Корее находилась в крайне тяжелом положении. Удивительно, что в таких сложных условиях корейцы упорно развивали собственный национальный кинематограф, снимая тенденциозные и коммерческие фильмы. К сожалению, широкого проката эти фильмы не имели, японским колониальным властям достаточно было запретить показ фильмов в городских кинотеатрах. Вполне возможно, подпольные организации борцов за независимость Кореи распространяли не только листовки, но и проводили нелегальные просмотры корейских фильмов по всей Корее, разумеется, при содействии корейских кинематографистов и кинопредпринимателей.
Насильственная японизация
Оккупационные власти продолжали репрессии. Корейских писателей заставляли писать на японском языке. В школах и семьях разрешалось говорить только по-японски, изучение родного языка и истории было строго запрещено. Были арестованы все члены Общества корейского языка, обвиненные в участии в подпольных национально-освободительных организациях. Закрылись все научные общества. Всем корейцам в обязательном порядке предписывалось посещение японских молелен. Открыто протестовавших корейцев арестовывали, пытали и казнили.
В конце 1939 г. в Корее был распространен указ, согласно которому с 11 февраля 1940 г. началась кампания «чханси-кёмён» (ch'angssi-kaemyng)[287] по замене корейских фамилий на японские. Вместе с фамилией нередко приходилось менять и имя. Таким образом, по замыслу инициаторов кампании, на территории Корейского полуострова все корейцы должны были «стать японцами». Акт замены фамилий явился огромной трагедией для населения Кореи, практически каждый знал свою генеалогию на многие столетия вглубь веков и гордился этим. Замена фамилий лишала корейца его национального лица, и не давала возможности совершать многочисленные конфуцианские ритуалы и церемонии годового и жизненного циклов, такие как, например, ежегодные церемонии жертвоприношений духам предков. Поэтому многие корейцы, в особенности люди среднего и пожилого возраста, не соглашались менять фамилии даже под страхом смерти.

