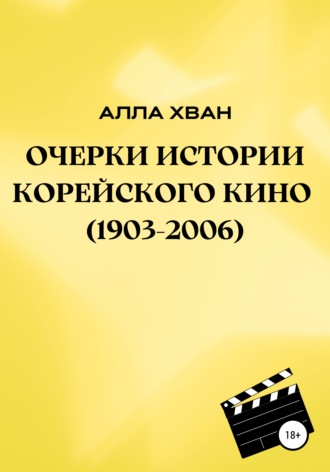
Полная версия
Очерки истории корейского кино (1903–2006)
После провала переворота Ю Гильчун был схвачен и провел в тюрьме шесть лет, где написал трактат «Что я видел и слышал на Западе» (Союкёнмун \ Seoyu Gyeonmun \ Observations on a Journey to the West). Он использовал смешанную графику (корейскую азбуку с применением китайских иероглифов) и был убежден, что вызовет недовольство королевского двора, но надеялся, что «потомки смогут оценить его попытку создания серьезного произведения на основе родного языка и письменности»[20]. Его трактат «Что я видел и слышал на Западе» вышел в свет в 1895 году[21].
Важными условиями в активном развитии литературы в Корее на рубеже XIX–XX вв. были крупные социальные движения «Новое образование» (sirhak) и «Движение корейского языка и литературы» (Korean Language and Literature Movement). В 1884 году реформы Кабо (по китайскому календарю Кабо – 1894 г.)[22] представили новый западный стиль образования. В 1895 году корейский язык был признан официально. Корейская графика и алфавит стали более доступны для изучения, чем китайские иероглифы.
Пример Ю Гильчуна вдохновил многих молодых корейских литераторов, создававших национальную литературу в эпоху корейского «Просвещения (kaehwa kyemmong)»[23]. В то же время появились совершенно «новые средства массовой информации» – газеты. В 1883 г. вышел первый номер ежедневной корейской газеты «Хансон» (Hansong Sunbo)[24]. В 1896 году появился первый номер газеты «Независимость» (The Independent \ The Independence News, Tognip sinmun, 1896–1899), «который был полностью издан на хангыле». Позже появились и другие корейские газеты[25]. В ежедневных газетах начали печатать анонимные повести, которые представляли корейскую литературу как «отражение индивидуального восприятия писателем окружающего мира»[26].
Первые кинематографисты Кореи были воспитаны именно на такой общедоступной национально-патриотической литературе, публиковавшейся в ежедневных газетах.
В те годы в корейской литературе появился новый жанр «новая проза» – синсосоль (shinsosol). В новой прозе писатели ввели новые понятия: патриотизм, общественное благо, свобода любви, равенство и страдания простого человека. Новые литературные герои призывали «к борьбе за национальный суверенитет, за коренное обновление системы народного образования, за равноправие женщин». В рассказах новой прозы все события происходили в настоящем времени (как в кино), в диалогах соблюдалось единство разговорного и описательного языков[27].
В 1906 году в газете «Независимость» (The Independence News) писатель Ю Бичик (Yi Вe-Jik) начал публикацию романа «Слезы крови» (Hyol ui nu) в стиле новой прозы. В 1907 году был опубликован роман Чан Чиёна (Chang Ji-yon) «Сказка о патриотичной даме». По названиям понятно, что оба литературных произведения выполняли конкретную миссию: формировать национальное самосознание и патриотизм корейцев.
Возможно, первый этап корейского Просвещения был прерван в начале японского протектората. Японская колониальная администрация пыталась «доминировать во всех аспектах корейского культурного существования»[28].
По мнению Ч. Монтгомери, в истории современной корейской литературы за периодом Просвещения последовал период колониальной культуры, затем период разделенной нации (pundan munhak), после – литература эпохи «Чуда на реке на Хан» и нынешний период постмодерна»[29].
Периодизация Ч. Монтгомери вполне применима и к истории корейского кино. Но называть 35-летний отрезок пяти тысячелетней корейской культуры «колониальной культурой» нет никаких оснований. При всех сложностях и опасностях, которые испытали и пережили свободолюбивые корейские писатели и кинематографисты, это было бурное развитие национального творчества, и благодаря, и вопреки японской оккупации.
Благодаря потому, что многие литературные произведения не были бы экранизированы, если бы не финансовая и техническая поддержка японских чиновников, коллег и друзей. И вопреки потому, что дискриминация, унижения и насилие на всех уровнях, которое испытывали корейцы, преобразовывалось в мощную творческую энергию и давала блестящие результаты в виде рассказов, повестей, романов и кинофильмов, по праву ставших нетленной классикой корейской культуры.
Во времена японского колониализма корейские интеллектуалы использовали корейский язык как главное культурное достояние, ставшее основной национальной идентичности. Язык небольшой, но гордой страны, оказавшейся в плену у более сильного соседа, трансформировался для того, чтобы активно влиять и формировать национальное сознание и достоинство корейцев.
Так «корейский язык постепенно стал языком публицистики»[30]. А корейская литература долгие годы выполняла образовательно-воспитательную функцию и была нацелена на возвышенную назидательность, «моральный дидактизм: зло наказывалось, а добро вознаграждалось, персонажи были архетипичными, а не личностями»[31].
Активными борцами против японской колонизации были молодые литераторы, считавшие, что обновление литературы и развитие культуры поможет корейцам восстановить национальную независимость. Новая повествовательная литература – кэхва (keahwa), написанная на корейском языке (hangul), была промежуточным звеном между средневековой литературой на родном языке и современной корейской литературой. Писатель в Корее был и учителем, и трибуном, и заступником народа.
В 1907 году в Корее японской колониальной администрацией был введен «Закон о газетах», а в 1909 году последовал «Закон о публикациях», «который строго ограничивал круг лиц, которые могли публиковать»[32] свои литературные произведения. Таким образом в Корее была введена государственная цензура в литературе. Возмущение корейских писателей и борцов за независимость Кореи из-за происходящего социально-политического насилия и стало причиной народных выступлений в 1919 году, получивших название «Движение 1 марта».
Партизанская война Армии справедливости
Другой формой сопротивления корейцев против закабаления своей страны Японией стала партизанская война Армии справедливости (Ыйбён \ Euibyong, Righteous armies). Национальное сопротивление захватило все слои населения.
Началом деятельности антияпонской армии Ыйбён стали стихийные партизанские отряды, в которые собирались корейцы под руководством дворян (янбан \ yangban) классической конфуцианской школы. В 1894–1895 гг. поводом для возмущения в стране стало убийство королевы Мин (Min) и указ об обязательной стрижке волос для мужчин. Дворяне, возмущенные вызывающим поведением японских военных и прояпонски настроенных придворных объединились в отряды сопротивления под лозунгом: «Уважать короля, вытеснить варваров». Японцы с точки зрения корейцев также относились к категории «варваров». В основном, боевой силой партизан были крестьяне. Но король Кочон укрылся в российской дипломатической миссии и отменил те указы, которые вызвали народное возмущение.
В 1905–1906 гг. во многих провинциях, возмущенные появлением японских войск на территории Кореи, крестьяне вели свою партизанскую войну под знаменем Армии справедливости (Ыйбён). Дворянин Мин Чонсик (Min Jeong-sik) вступил в бой с японскими войсками со своим отрядом в 500 человек. Бывший высокопоставленный сановник Чхве Икхён (Choe Ik-hyeon) во главе 400 человек атаковал японские и правительственные войска. Но оба отряда потерпели поражение. Простолюдин Син Дольсок (Shin Dol-seok) вел успешную партизанскую войну в горных районах провинций Канвон и Кёнсан (совр. Республика Корея). Отряды Сина объединяли около трех тысяч человек[33].
В 1907 г. император Кочон был силой смещен с трона. Новый император Сунчон (Sunjong, 1874–1926) подписал декрет о роспуске всех королевских войск. Новая волна антияпонской вооруженной борьбы началась с вооруженных выступлений не подчинившихся декрету Сунчона столичных гарнизонов. Корейские военные вступали в уличные бои с японскими войсками. В провинции военных поддержали крестьяне, торговцы, шахтеры. Армия справедливости из непрофессиональных, плохо вооруженных отрядов быстро превратилась в серьезную, хорошо вооруженную силу.
Во главе партизан встали кадровые военные, имевшие ружья и пушки. Впервые с 1890-х годов армия Ыйбён действовала в центральной и южной частях Кореи, подчиняясь единому командованию. Действия партизан были скоординированы и имели главную цель – взятие Сеула и изгнание японцев из страны. В общей сложности, в Армии справедливости было более 10 тыс. человек. Три тысячи из них – бывшие кадровые военные. Но поход на Сеул не удался. Единого командования создать не удалось. «Слишком велика была местная обособленность отдельных партизанских групп и отрядов с их разнородным социальным составом»[34].
Отдельные подразделения Армии справедливости (100–500 человек) вели свою партизанскую деятельность самостоятельно. Они совершали «налеты на линии железных дорог, разрушали японский телеграф, уничтожали мелкие японские гарнизоны. К концу 1907 г. не было ни одного уезда, где бы не действовали партизаны, правительственные чиновники не имели никакой власти, а предатели трепетали. С сентября 1907 г. по август 1908 г. 966 предателей были казнены партизанами»[35].
По приблизительным оценкам, в 1908 г. в Армии справедливости сражалось около 70 тыс. человек. В 1909 г. численность Ыйбён была 25 тыс. человек, в 1910–1911 гг. Армия справедливости уменьшилась с двух тысяч до двухсот человек. «Как и просветительное движение, национально-освободительная борьба Ыйбён возглавлялась, за редкими исключениями, выходцами из среды дворянства. Они были далеки от народа, а потому и не могли выдвинуть такой программы борьбы, которая действительно защищала бы социальные и экономические интересы народных масс. Дворянские революционеры не забыли о крестьянской войне 1894 г., они стремились приглушить классовую борьбу крестьян»[36].
Резкое сокращение вооруженного антияпонского движения также было связано с особой жестокостью японцев. В районах, где крестьяне помогали своим вооруженным соотечественникам, японцы совершали массовые казни, отнимали продовольствие, сжигали целые деревни. В результате карательных акций погибли и получили ранения около 50 тыс. человек. К 1911 г. Армия справедливости не исчезла бесследно. Повстанцы переправились на территории России и Китая, в которых уже действовали отдельные отряды корейских партизан, совершавших рейды на приграничные районы Кореи. Корейский народ не смирился с фактом японской колониальной экспансии[37].
После объявления тщательно подготовленной аннексии первый генерал-губернатор Тэраути Масатакэ (Terauchi Masatake, 1852–1919) проводил жесткую репрессивную политику. Страна была опутана сетью тотальной слежки. За малейшее неосторожное слово корейцы жестоко преследовались. Без суда произвольно японские чиновники, считавшие всех корейцев потенциальными преступниками, наказывали палками, подвергали штрафам, арестовывали и пытали. Все корейцы, интересовавшиеся политикой, считались опасными бандитами[38].
Часть «корейских дворянских и буржуазных националистов» избрали индивидуальный террор. Они убили одного из пяти министров-предателей, подписавших договор о протекторате. В 1908 г. в поезде, следовавшем из Сан-Франциско в Вашингтон, был убит бывший советник, пособник японцев в установлении протектората в Корее – Д.В. Стивенс. В 1909 г. Ан Чунгын / Ан Джунгын (An Jung-geun \ Ahn Jung-geun, 1879–1910) на Харбинском вокзале (Китай) убил первого генерал-резидента в Корее Ито Хиробуми (Itō Hirobumi, 1841–1909).
Партизанская война Армии справедливости и террористические акты возмездия корейцев-патриотов были примерами всеобщего неподчинения японской колониальной политике и создали «традицию» открытого и подпольного сопротивления японским колониальным властям. В таких неспокойных условиях формировалось сообщество первых корейских кинематографистов. Об активной антияпонской борьбе в Корее знали все, Неудивительно, что первые режиссеры и актеры принимали активное участие не только в культурно-просветительском движении, но и были бойцами в вооруженной партизанской войне против японских колонизаторов.
Ранний период истории корейского кино
Первые киносеансы в Корее
В начале XX в. в Корее все чаще стали появляться не только китайские и японские купцы и солдаты, но также толпы европейцев. Самыми активными предпринимателями в освоении новых рынков были американцы, в том числе и первые кинематографисты. После премьеры «Прибытия поезда» 28 декабря 1895 г. в Париже, уже в 1896 году в Индии и Китае (Шанхай) показывали первые киноролики. В Корее в 1897 г. американская компания «Ист Хаус» показала «подвижную картину» при помощи газовой лампы в китайском чайном домике в Намдэмуне (Namdaemun – Великие Южные ворота Сеула)[39]. В 1899 г. американец Элиас Бартон Холмс (Elias Burton Holmes, 1870–1958), снимавший многосерийную киноэнциклопедию, прибыл со своей небольшой съемочной группой и снял первый документальный фильм о Корее. Он был приглашен ко двору, где продемонстрировал киноролики членам королевской семьи[40].
По другой версии, Элиас Бартон Холмс осуществил свой азиатский проект, путешествуя по транссибирской магистрали, открывшейся в 1900 году. Его путешествие началось из Москвы, по регионам Дальнего Востока и во время этой экспедиции он посетил Сеул в 1901 году. В 10-м томе «Лекций Бертона Холмса», опубликованном в 1901 году, в главе «Сеул, столица Кореи», Б.Холмс описывает свой визит в Сеул. Американского кинопутешественника принял Ли Чэсун (Lee Jae-sun), министр короля Кочона. Он посмотрел фильмы Холмса в своей резиденции, а затем попросил Холмса принести во дворец короля его небольшой проектор. Первыми кинозрителями в Корее стали члены королевской семьи и их приближенные[41].
По материалам Корейского киноархива, в сохранившейся газете «Хвансон Синмун» от 14 сентября 1901 года, в передовой статье сообщалось, что состоялся просмотр фильма о восстании боксеров (в Китае). Это была первая статья в Корее, в которой упоминался термин «кинофильм». Но, судя по содержанию статьи, можно уверено утверждать, что термин «кино» уже был известен в Корее[42].
В те годы в Корее уже была первая электрокомпания Хансон (Hanseong Electric Company). Она была основана и управлялась императорской семьей на инвестиции короля Кочона, который проявлял большой интерес к электрификации Сеула. Особенно королю Кочону хотелось запустить трамвай на электротяге, какие уже ездили с 1895 в Киото (Япония)[43]. Но, не имея технологий и опыта для запуска трамваев, компания Хансон пригласила американцев Генри Коллбрана (Henry Kollbran) и Г.Р. Ботсвика (H.R.Boatwick), владельцев первой в Корее железнодорожной ветки Кёнгин (Gyeongin).
Первый трамвай был пущен в Сеуле 17 мая 1899 года. Вагоновожатыми были приглашенные из Японии специалисты, имевшие опыт вождения модного общественного транспорта. А кондукторами были корейцы. Но через неделю в центре Сеула под колесами трамвая погиб четырехлетний мальчик. Корейцы были уверены, что вагоновожатый-японец специально задавил малыша. Толпа разъяренных горожан сожгла два вагона. Японцу удалось избежать расправы, но после этого случая всем вагоновожатым выдавали револьверы для самообороны[44]. А корейцы стали панически бояться трамваев.
С помощью американцев электрокомпании Хансон все же удалось переломить неприятие нового общественного транспорта и привлечь больше пассажиров. С помощью нового зрелища – синематографа. Компания Хансон стала показывать публике американские кинофильмы в импровизированном летнем кинотеатре на конечной остановке трамвайного маршрута – в депо в Тондэмуне (Tongdaemun \ Dongdaemun). Платные показы для публики начались с июня 1903 года. В газете «Хвансон» (Hwangseong sinmun) было опубликовано объявление о первом общественном кинопоказе в Корее, который состоялся 23 июня 1903 года на сеульском рынке Тондэмун[45].
До официально заявленного Японией «протектората» над Кореей единственными конкурентами японцев в Корее были американцы. К радости предпринимателей и авантюристов Нового Света корейцы, как индейцы, давно курили. Табак и табачные изделия были самой доходной статьей американского экспорта. В качестве рекламы американские торговцы стали использовать новый аттракцион – «синематограф». Одними из первых «подвижные картины» (морские волны, движущийся поезд, пейзаж) были использованы, в качестве рекламы, владельцами англо-американской табачной фирмы. Желающие увидеть новый аттракцион должны были предъявить 20 пустых пачек сигарет «Золотая рыбка» (Goldfish) или «Герой» (Hero)[46].
В 1905 г. в Тондэмуне, в одном из центральных районов Сеула, трамвайное депо Сеульской электрической компании (Seoul Electricity Company), организованное для строительства новых трамвайных линий, было переоборудовано под кинотеатр и стало называться «Тондэмун Хвальдонсачжин» (Tongdaemun \ Dongdaemun Hwaldongsajin). «Хвальдонсачин» – в переводе с корейского «движущиеся картины»[47]. В новом помещении ежедневно, с неизменным успехом, показывались американские немые фильмы. Позже этот кинотеатр был переименован в «Хвальдосачин Кваламсо» (Hwaldongsajin Kwalamso), что в переводе с корейского – «дом с экраном, по которому движутся картинки» или просто «кинотеатр».
Три кинотеатра, которые одновременно работали и как фотоателье, назывались одинаково «Хвальдон Сачинсо» (Hwaldong Sajinso) и постепенно стали популярными. Самым солидным зданием кинотеатра (из кирпича) было «Фотоателье Мачон» (Majon Photo Shop). Известно, что 1905 году француз Мачон (Мартин), управляющий отелем «Палас отель» (Palais Hotel), выкупил и переименовал его в «Астор Хаус» (Astor House). Его также называли Мачон Ёгван (Majeon Yeogwan), в честь имени владельца, написанного на фасаде китайскими иероглифами. Начиная с 1907 года, отель был известен показами кинофильмов[48].
Сохранилась публикация в газете «Тэхан мэиль синбо» (Daehan Maeil Sinbo) от 2 июля 1907 года о французе Мачоне, показывающем французские фильмы в кирпичном доме, к востоку от Седаримока (Saedarimok), недалеко от Сэмуна (Saemun)[49]. К сожалению, точно неизвестно, речь в статье идет о «Фотоателье Мачон» или об отеле «Астор Хаус».
В основном, все кинотеатры в Корее показывали «западные» фильмы, которые привозили японские оптовики из Тяньцзиня (Tienjin) и Шанхая. Некоторые импортеры обеспечивали экспорт американских и французских кинофильмов[50].
Возникновение и развитие киноиндустрии в Корее совпало со сложным периодом разложения феодального государства и последующим захватом страны Японией. В начале XX века Корея была насильственно переориентирована с китайских средневековых образцов, на освоение новой, в основном, западно-европейской культуры, активно осваиваемой в Японии.
Антияпонское национально-освободительное движение в Корее приобрело две основные формы: мирную и малоэффективную – образовательно-культурное просветительство, и вооруженную, но жестоко подавленную японскими войсками, партизанскую войну. Растерзанная, упирающаяся в сохранении своей идентичности и независимости средневековая Корея все-таки, как и «Япония отбросила феодализм и ринулась навстречу современности столь поспешно, что битва старого и нового шла на всех уровнях общества. И поскольку в кино новые веяния были наиболее яркими и живыми, обратившись именно к его истории, мы станем свидетелями самых волнующих моментов этой битвы»[51].
Рассвет корейского кино (1903–1922)
Новый корейский театр
На протяжении долгой истории корейский и японский народы, как часто происходит между соседними государствами, не испытывали друг к другу особой симпатии. Постоянно воевали, воспитывались в духе враждебности, считали друг друга «варварами». В начале XX в. средневековая Корея оказалась не способна отстоять собственную независимость. Еще до официального объявления об аннексии Япония начала проводить пропаганду идей «единых корней» японского и корейского народов и объявила корейский язык и культуру «ветвью» японского языка и культуры. Корейцы отнеслись к этой идее по-разному. Одни подчинились сложившимся обстоятельствам, а другие продолжали упорно сохранять и развивать национальную культуру, особенно новые, совершенно непривычные для средневековой патриархальной культуры, виды искусства: театр и кино.
В Сеуле появилось совершенно новое зрелище – европейский театр. В первых театральных труппах «Хёксиндан» (Hyeoksi-dan) и «Мунсусон» (Mungsu-son) работали молодые корейцы, получившие образование в Японии. В 1908 г. был открыт первый театр западного образца – «Вонгакса» (Wongaksa), в переводе «Придворный театр». Постановки театральной труппы были популярны в Сеуле. Но в ноябре 1909 г. театр закрылся[52]. А с 1910 года, начала оккупации Кореи, жесткая цензура и полное безразличие к культурным потребностям населения захваченной страны, лишили корейцев свободы слова и собраний.
В 1910–1911 г. по подозрению в покушении на генерал-губернатора в Корее Тэраути Масатакэ в Сеуле было арестовано более 700 человек. Позже стало известно, что среди арестованных 105 человек из нелегальной организации «Новое народное общество» (Синминхве, Sinminhoe), возникшей в 1907 г. Члены этого общества – издатель газеты «Тэхан мэиль синбо» / «Корейская ежедневная газета» (Daehan Maeil Sinbo \ The Korea Daily News) Ян Гитак (Yang Gi-tak, 1871–1938), историк Чон Тхэкки (Jeong Taek-ky), видный общественный деятель Ан Чханхо (Ahn Changho \ An Chang-ho, 1878–1938), офицеры в отставке Ли Донхви (Lee Donghui), Ли Гап (Lee Gap), Ли Сынхун (Lee Seung-hun) и др., – основали предприятие по изготовлению керамики для развития экономики, учредили школы и издательство по выпуску книг и учебников, и вели подготовку к вооруженному сопротивлению. Всех 105 членов Синминхве жестоко пытали. Это событие в истории сохранилось как «Дело 105-ти» (105-Man Incident \ Seoncheon Incident)[53].
Неудивительно, что единственный Корейский национальный театр был запрещен. Неизвестно, чем бы занимались корейские актеры театра Вонгакса, если бы не новомодное развлечение – кинематограф.
Первые кинотеатры
В 1909 г., кроме кинотеатров Кодан Ёнигван (Kodung Yonyegwan), Чханганса (Changansa), Ёнхунса (Yeonhungsa) и Дансонса (Dansongsa), только в Сеуле работали более десяти кинопередвижек, показывавшие фильмы на открытых площадках по вечерам, когда не было дождя. Владельцами всех кинотеатров были японцы. Репертуар состоял из американской, французской и японской кинопродукции.
С 1909 года в Корее кино стали показывать регулярно в качестве рекламы. Англо-американские предприниматели построили трамвайные линии в городе, но корейцы упорно отказывались садиться в вагоны, предпочитая немногочисленных извозчиков или пешие прогулки. Трамвайное депо компании Хансон, находившееся в районе Тондэмун (Восточные ворота), стало первым постоянным местом показа американских фильмов в Сеуле. По всей вероятности, это была открытая площадка с передвижным кинопроектором в одном конце и импровизированным экраном – побеленной стеной, в другом конце. Правом входа на киносеанс был объявлен трамвайный билет. А остальным любопытным, но боязливым пешеходам, необходимо было заплатить (10 чон). Возможно, трамвайные билеты в первое время выдавали бесплатно.
В основном, первыми кинозрителями кинотеатров под открытым небом были мужчины и подростки, как и во всем мире, составлявшие толпы зевак на любом рынке или площади. По вечерам самая активная часть мужского населения Сеула стала активно посещать открытые кинотеатры и кататься на первом трамвае[54]. Неудивительно, что во всех таких кинотеатрах было разрешено курить и распивать горячительные напитки. Первые кинотеатры или кинопередвижки больше напоминали шумные городские харчевни, только без низеньких столиков и скамеечек. Корейцы устраивались прямо на полу или сидели на корточках. А первые кинопрокатчики экономили на лавках и были очень довольны привычкой корейцев обходиться без стульев и лавок.
Со временем, с увеличением желающих посмотреть «заморское зрелище» после проезда в трамвае, владельцы трамвайных путей пытались расширить свой бизнес, но военно-политическая обстановка в Корее вынудила британцев и американцев, а также других европейских предпринимателей, отказаться от развития кинопроката или строительства собственных кинотеатров.
Аннексия Кореи и «военное правление» Японии
В 1908 г. было создано «японско-корейское» «Восточное колонизационное общество», бесплатно захватившее корейские земли, на которых поселились японские переселенцы – «военные резервисты»[55]. В апреле 1908 г. и феврале 1909 г. были изданы указы о печати, по которым контроль над издательским делом перешел в ведение японской администрации. Еще в 1907 г. японцы закрыли почти все корейские издания. К 1910 г. сохранилась только «Ежедневная корейская газета» /«Тэхан мэиль синбо», учредителями которой были кореец Ян Гитак (член «Нового народного общества» (Синминхве) и английский публицист Эрнст Томас Бетелл (Ernest Thomas Bethell, 1872–1909). Британия считалась союзницей Японии и газета не подверглась японской цензуре. У входа в редакцию висело объявление: «Японцам вход запрещен». Газета выходила на корейском языке с английским приложением «The Korea Daily News». Издание Яна и Бетелла пользовалось огромной популярностью. В газете было опубликовано обращение императора Кочона к народам мира, в котором тот признавался, что «договор о протекторате» был подписан против его воли и просил защиты у западных держав.

