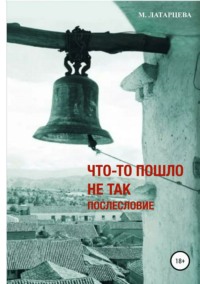полная версия
полная версияЧто-то пошло не так
– Вы кто?
В дверном проеме стоял пожилой человек с шипящей яичницей на тяжелой чугунной сковородке в руке. По виду ему было лет за семьдесят. Он вяло, как-то обреченно, махнул рукой и устало произнес:
– А-а… Случилось…
Что именно случилось, мужчина не объяснил, но было понятно, что появление Богдана он воспринял с какой-то неизбежной безысходностью.
– Заходите, молодой человек. Располагайтесь. Будьте, как дома. Что вам показать? А-а… Да что там показывать – сами найдете… Только прошу вас – не испугайте её, – мужчина снова обреченно махнул рукой и ушел.
Ситуация была, вне всякого сомнения, непонятной. Вслед за хозяином Богдан прошел в комнату. Закрытые плотные шторы создавали в помещении полумрак. Остро пахло лекарствами. На разложенном диване лежала пожилая женщина. От скрипа половиц её глаза широко распахнулись.
– Богдан? Мальчик мой, как я по тебе соскучилась!
«Снова это «Богдан», откуда?»
– Здравствуйте. Извините, пожалуйста…
– Вы кто? Где мой племянник? Саша! Сашенька!..
Женщина закричала, сделала попытку встать, но сразу же упала, едва не свалившись с дивана. К ней тут же бросился муж. Он мрачно посмотрел на незваного гостя и принялся укладывать больную поудобнее.
– Успокойся, дорогая, все в порядке… Успокойся… Я здесь, я рядом, успокойся…
Женщина обессиленно затихла, но продолжала цепляться за руку мужа, а тот укоризненно вздохнул:
– Я же просил… Э-э, да что там просить, когда за окнами такое творится… Вы что же молчите, молодой человек? Давайте хоть познакомимся. Меня Сашей зовут, Александром Израилевичем, как ни странно это звучит, – мужчина горько улыбнулся. – А это – жена моя, Ниночка. Нина Ивановна. Мы вообще-то племянника ждали – его уже несколько дней не было, беспокоимся, и телефон «вне зоны», а тут – вы…
– Вы извините меня, Александр Израилевич, за вторжение. Я не хотел вас напугать. Понимаете, я тут… я… – Богдан чувствовал себя провинившимся школяром. – Я помыться пришел… То есть, я хотел попросить вас… Попросить… разрешить… мне…
Он совсем запутался, что-то неловко мычал в свое оправдание, а двое старых людей, не давая ему ни малейшего шанса, осуждающе смотрели не мигающими глазами, заглядывая, кажется, в самую душу, да так, что оставалось только повернуться и убираться восвояси.
Борец за свободу страны неожиданно понял, что у свободы есть ещё одна сторона, противоположная, другая, и его визиту в этом доме совсем не рады. Процесс одевания занял не больше минуты, но этого времени хватило, чтобы хозяева успели пообщаться.
– Молодой человек, вернитесь! Что же вы, так и будете чумазым ходить? – донеслось из комнаты. – Да и познакомиться не помешало бы – мы до сих пор не знаем, как вас зовут.
– Богданом меня зовут. Богдан Зиновьевич… Костюшко, – поправился гость с Майдана, с удивлением отмечая, как поднимается вверх правая бровь хозяина.
– Вот ведь как! Да вы, оказывается, тёзка двух непростых людей, Богдан. Как знать, как знать, к чему такое совпадение… Ну что же, приятно с вами познакомиться.
Ещё через час заношенная одежда Богдана крутилась в стиральной машине, а сам он, вымытый до скрипа, сидел за столом с хозяевами и пил чай. Точнее, за столом сидели мужчины, и чай пили только мужчины, а Нина Ивановна, удобно облокотившись на высокие подушки, внимательно слушала гостя, время от времени задавая ему вопросы.
Сначала Богдан чувствовал себя неловко, словно под рентгеном, или под микроскопом, но постепенно растерянность и смущение прошли, слова лились рекой, догоняя друг друга, а иногда и перегоняя, путались, наслаивались, но всё равно не успевали за мыслями, рвущимися наружу бурными потоками. В отличие от слов, мысли его были ясными и трезвыми. Ему даже казалось, что до сих пор они просто складировались в голове и впервые за сорок семь лет его жизни взбунтовались, требуя немедленного выхода.
– Ну вот, кажется, все.
В ответ не последовало ни вопросов, ни замечаний.
Возвращался на Майдан Богдан чистым, как после исповеди. Нет, он не изменил своим принципам, не изменил своим убеждениям, да никто и не просил его об этом, но сейчас все казалось немного другим, не таким основательным, как прежде. А еще… Еще появилось ощущение зыбкости, зыбкости и фальши происходящего.
Он оглянулся окрест, увидел дымящиеся костры посреди площади, посреди когда-то величавой главной площади страны, копошащихся вокруг них мелких суетных человеков, и вдруг ему захотелось развернуться на сто восемьдесят градусов и бежать, бежать обратно, бежать в чистую, теплую квартиру с запахом лекарств и жаренной яичницы, бежать к двум немощным, больным старикам за помощью, за защитой. Богдан остановился в растерянности, не зная, что делать, куда идти…
– Бодя? Ты чего такой бледный? Что-то случилось? С детьми все в порядке? С Натальей?.. Может, с пани Ядвигой недоброе произошло? – его сосед, Вадим, с участливый видом пытался узнать причину паники, слишком явственно проступавшей на лице Богдана.
– Да нет, все нормально. Спасибо, Вадим, – очнулся Богдан. – И с родными, слава Богу, все в порядке.
– Вот и ладненько, а то я запереживал. Так что же мы стоим? Там народ к сцене подтягивается, обещали «Океан Эльзы» подвезти! Да и Руслана сегодня в форме – во, как соловьем заливается! Зацени!..
«Океан Эльзы» – это, конечно, здорово, ему нравилось слушать их песни, неторопливые и мудрые, как само время. Хорошо пели ребята, душевно, поэтому, наверное, и нравились не только жителям западных областей, но и всей Украине без исключения.
Нравился и сам Святослав Вакарчук – умный и не по годам степенный. Ходили, правда, слухи, что на прошлом Майдане он напел своему отцу должность министра образования, но, по мнению самого Богдана, все это от зависти, людям рот не закроешь, поговорят, да и успокоятся.
Старший Вакарчук, Иван Александрович, действительно, после Помаранчевой революции возглавил министерство образования, но удивляться тут нечему – до этого он долгие годы был ректором Львовского университета. И образование подходящее имел, и опыт работы – не с улицы ведь в министерство пришел.
Да и самому Святославу никто не закинет, мол, таланта у него нет, слушать его – одно удовольствие, тем более, занимается человек тем, что знает и умеет, в политику не лезет.
Не чета ему Руслана – постоянно нервная, дерганая и вечно сердитая, будто ей весь мир должен. Да и странновато как-то выглядит, когда молодая женщина с перекошенным от злобы лицом исторгает из себя проклятья в адрес других людей. Неприкаянная она какая-то, заблудшая. И с депутатством у нее не сложилось, однако. Кажется, что же здесь трудного – сиди себе в тепле-добре, только зарплату успевай получать, ан, нет, не срослось. Теперь, поговаривали, за должность министра культуры старается.
К сцене мужчины подошли уже во время исполнения гимна. Пели все. Хором. С придыханием. С восторгом. Рука на сердце. Глаза на небо.
Неожиданно вспомнился фильм с Лайзой Минелли. «Кабаре», кажется… От невольного сравнения Богдана бросило в пот. Он виновато оглянулся, будто его только-что поймали с поличным на чем-то постыдном. Что с ним? Неужели он разочаровался в Майдане? Нет, здесь, в Киеве, совсем не то, что в фильме! Там, в далеком тридцать третьем, в Германии, фашизм был, а на Украине… А на Украине – борьба народа за свои права, справедливая борьба, мирная…
Короткий спич Вакарчука, за ним – выступление «Океана Эльзы» и лидеров оппозиции понемногу успокоили мятущуюся душу галичанина, а уже к вечеру он совершенно забыл прежнюю крамолу. Вернулась к Богдану и былая уверенность в силу Майдана, в его справедливость, в непогрешимость его истин и идей, да и как не верить, если у людей осталась последняя надежда изменить страну, последняя возможность заставить власть повернуться лицом к народу…
Тогда, месяц назад, все было по-другому, ясно и понятно, без лишней суеты и лжи… Да, это было так давно – целый месяц назад, но именно с тех пор несколько раз в неделю спешил он в уютную квартиру на Крещатике, где за сомнительной защитой тонких кирпичных стен жили два старых мудрых человека. Там его не спрашивали о затянувшемся митинге, не надоедали расспросами о политике, о патриотизме, не спорили об убеждениях и не пытались убедить в обратном. Там просто жили, и были ему рады – он видел это по глазам.
Вот и сегодня путь его прежде всего лежал на Крещатик – не хотелось вечером, на встрече с Петром Васильевичем, выглядеть грязной невежественной деревенщиной, да и по знакомым своим он соскучился, тем более, Нина Ивановна в последнее время неважно себя чувствовала.
Возле нужного ему подъезда стоял длинный крытый грузовик, из которого рабочие выгружали ящики с мебелью. Обе створки входных дверей были открыты настежь. Обрадовавшись, что не надо никого беспокоить, Богдан буквально вылетел на второй этаж. Он уже подходил к квартире Александра Израилевича, когда тихонько скрипнула, приоткрываясь, соседняя дверь, и оттуда показалась седая женская голова с указательным пальцем у рта.
– Ш-ш-ш, – неожиданно зашипела она и так же неожиданно исчезла.
Мужчина оглянулся – никого. Прислушался. Из квартиры глухо звучали голоса. Он прислонился ухом к двери, но разобрать, что говорили, не смог. Мелькнула мысль: «Может, племянник Нины Ивановны наконец нашёлся? Что ж, познакомимся». И вдруг он услышал женский крик. Не медля ни секунды, Богдан рванул в квартиру.
Кроме хозяев, в комнате было трое мужчин. Один из них держал на прицеле пистолета Александра Израилевича, второй – за руку лежащую на диване Нину Ивановну. Третий мужчина, почему-то в двух очках сразу, бледный, как лист бумаги, трясущимися руками подсовывал женщине какие-то документы.
Мгновение – и пистолет оказался в руках Богдана, двое неизвестных – на полу, а плешивый мужичок, не успев сообразить, что же происходит, продолжал тыкать бумаги Нине Ивановне. «Вот оно – то самое «случилось», о котором говорил во время первой встречи Александр Израилевич, – мелькнуло в голове. – А я-то, дурень этакий, не понял, что он имел ввиду!»
Через несколько минут, когда непрошеные гости, крепко связанные бельевыми веревками, лежали на полу, а их подельник – допрошен и отпущен восвояси, хозяева квартиры во всех подробностях рассказали о случившемся. У Богдана от ужаса зашевелились волосы на голове, он представил себе, что произошло бы, если бы сегодня он не пришел.
Незваные гости практически обыскали весь дом, собрали все ценное – деньги, ювелирные изделия, шубы, не забыв при этом про теплые вещи и продукты, и сейчас все это добро бесформенной кучей лежало посреди комнаты на покрывале.
Но самым странным и самым страшным оказалось присутствие в этой воровской компании настоящего киевского нотариуса с бланком самой настоящей «дарственной» на квартиру, в которую оставалось вписать только нужные данные.
Мужички были мелкими, неказистыми, но пистолет в руках одного из них круто менял суть дела. Десятки подобных этим людям рыскали по Майдану. Они не слушали выступлений депутатов, не пели гимн, не кричали «Слава Украине!», они играли свою игру, отдельную от политики. А еще без зазрения совести выполняли мелкие поручения местных сотников, не гнушаясь особо деликатных – избить, запугать, заставить, иными словами, «направить на путь истинный». Все эти услуги, как правило, хорошо оценивались и без промедления оплачивались, так что число уголовников на Майдане быстро росло.
В квартире Александра Израилевича «гости», скорее всего, появились не случайно, а под чьим-то чутким руководством. Не так давно Богдан сам слышал, что о жильцах близлежащих домов на Майдане собирают информацию. Один знакомый даже похвастался, кивая на сцену: «Эти по-крупному бреют, с размахом, а мы – по-мелкому, но надежно, на хлеб с маслом хватает. Молодежь не трогаем – мало ли что, а вот старье… Старье уже нажилось, набарствовалось, пора и на покой…»
Богдан тогда не оценил его слова по-достоинству, а надо было бы. Возможно, будь он раньше более сообразителен, не случилось бы то, что случилось сегодня, а, с другой стороны, если бы знал, где упадешь…
Связанные мужики ничего, кроме брезгливости, не вызывали, поэтому, забрав пистолет, он отпустил и их. Александр Израилевич долго вздыхал, будто сомневался, рассказывать, или нет, своему молодому другу последние новости. Потом собрался с духом:
– Знаешь, Богдан Зиновьевич, тут бабки в подъезде шепчутся… Не знаю, может, правда, а, может, брехня, но люди судачат, что ваши с Майдана не только приворовывают по квартирам, но и…
Пожилой человек снова замолчал, подбирая подходящие случаю слова.
– Да что тут говорить, пропадать люди стали, Богдан. Такие, как мы с Ниной, старики… Никому не нужные старики… Эх, времена настали! И не пожалуешься ведь никому, не поверят… Мы тут вот что с Ниночкой подумали… Даже не знаю, как сказать. Ну, может, ты согласишься у нас пожить, пока здесь находишься? И тебе удобнее будет, и нам сподручнее.
Александр Израилевич тоскливо заглянул Богдану в глаза:
– Не хочется как-то на помойке гнить, не заслужили мы этого…
Уходил Богдан от своих знакомых неохотно. Покоя не давали последние слова Александра Израилевича, тем более, что после вчерашних событий на Грушевского гарантий на мирное разрешение Майдана уже не было…
За пять минут до назначенного утренним гостем времени, в палатку заглянул Вадим.
– Так что, прошвырнемся немного?
– Куда? Да и встреча у меня, не могу сейчас.
– Вот-вот, я и говорю – встреча, – твердо подчеркнул односельчанин, после чего у Богдана исчезли все вопросы.
В Доме профсоюзов царила деловая атмосфера. Люди сновали туда-сюда, как в муравейнике. Сразу стало ясно, что Вадим был своим в этой тусовке. Знал его и Петр Васильевич, пригласивший на встречу Богдана.
– Вот это приятно, – вышел он из-за стола, подавая руку прибывшим. – Сейчас народ подойдет, присаживайтесь.
Народ, действительно, начал подтягиваться. Серые хмурые лица осторожно смотрели на новичка, будто ощупывая его. Заметив это, Петр Васильевич представил его:
– Знакомьтесь, Богдан Зиновьевич, наш человек, львовянин. Надеюсь, у нас все сложится. Не так ли, Богдан Зиновьевич?
Бровь старшего вопросительно поднялась, а жесткий взгляд буравил душу, требуя немедленного ответа. Словно под гипнозом, Богдан сказал:
– Я? Конечно… Я не подведу.
Присутствующие разом выдохнули. К нему потянулись руки – то ли для поздравления, то ли для приветствия. Дальше всё происходило очень быстро. Вкратце обрисовав ситуацию в стране, Петр Васильевич начал давать задания на следующий день. Разошлись через полчаса. Каждый уходящий привычно брал со стола увесистый пакет, аккуратно завёрнутый в коричневую оберточную бумагу. Интересоваться, что это, для кого, Богдан не стал.
А на улице вовсю бушевала революция. Со сцены звучали настойчивые призывы защитить страну от вмешательства России. Другие лозунги уже давно потеряли свою актуальность и отошли на задний план.
На следующий день после полудня ему позвонила Наталья:
– Богдан, срочно приезжай – маме плохо.
Дорога заняла почти всю длинную зимнюю ночь. И большую её часть он пролежал на верхней полке плацкарта, ни с кем не общаясь. Хотелось отдохнуть, собраться с мыслями, понять, что дальше делать и как жить. А ещё из головы его не шёл вопрос, что будет с новыми его знакомыми?
Сейчас, на расстоянии, он ничем не сможет им помочь, а племянник Нины Ивановны, его тёзка, за месяц так ни разу и не объявился. Богдан вспомнил тоскливые глаза Александра Израилевича, когда тот узнал, что их друг с Майдана вынужден возвращаться домой, и его последние слова: «В жизни, Богдан Зиновьевич, у каждого своя дорога, и мы благодарим судьбу, что наши с тобой дороги пересеклись. Пусть ненадолго, на короткое время, но это были, поверь, приятные минуты. Даст Бог, ещё придется свидеться. Здоровья матушке и всем твоим родным».
Поезд прибыл на станцию рано утром, а еще через час, поздоровавшись с Натальей и детьми, он вошел в комнату матери.
Мама лежала с закрытыми глазами, прямая, как натянутая струна.
– Вот так и лежит третий день. Лежит и молчит, – шепотом рассказывала встревоженная жена. – В воскресенье из церкви пришла, уставшая, бледная. «Наталья, – говорит, – позвони сыну моему, скажи, пущай домой едет». Легла после этого. Третий день лежит, не ест, не говорит, воды вот только попросила… Может, доктора позвать, как ты скажешь?
– Не шепчись, Наталья, это неприлично, я не бревно, живой человек. Жива пока, так что, пожалуйста… И доктора звать не надо, – все еще с закрытыми глазами громко произнесла лежащая. – Не болеть я собралась, дорогая, а помирать. Время пришло.
– Да…
– Не перебивай, дочка, – мама открыла глаза, строго посмотрела на Богдана. – Приехал? Хорошо. Нечего по столицам шляться. Что ты там забыл? Не твое это дело – политика. Иди, умойся с дороги. Потом придете. Сейчас я отдохну. Устала.
Сколько помнил себя Богдан, мама всегда была жесткой и бескомпромиссной, никому не давала спуску, всегда требовала неукоснительного выполнения каких-то правил, норм, законов, и контролировала это, начиная с себя. Соседи называли её не иначе, как пани Ядвига, и в глаза, и между собою, и побаивались её крутого нрава.
Единственный сын тоже не имел поблажек, но знал, что мама никогда не поругает и не накажет даром, без причины – пани Ядвига была до последней капли справедлива, и в людях ценила прежде всего справедливость. А ещё он помнил, как отчитав его за какую-нибудь оплошность, она всегда говорила: «Чтоб жидким не был – ни душой, ни телом» или: «Когда ты родился, я поблагодарила Пресвятую Богородицу».
…Вернувшись из армии, недели две Богдан втайне от матери бегал на почту, чтобы позвонить в Краснодар, боялся ей признаться, что влюбился, как говорили во Львове, в москальку: кто знает, как мама отреагирует, а вдруг запретит общаться, с неё станет. Но шила в мешке не утаишь. Однажды вечером, тихонько пробираясь в свою комнату, он услышал спокойное:
– Таки люди не брешут.
Заикаясь от неожиданности и страха, глотая слоги и слова, несостоявшийся конспиратор принялся рассказывать о Наталье. Объяснение заняло минут пять, не больше, и Богдан даже ушам своим не поверил, когда услышал:
– И чего ты сиднем сидишь? Езжай за девушкой, коль обещался, нельзя людей обманывать, не гоже это, не по-человечески.
– Как? Ехать? А…
– Обыкновенно, поездом. Взять билет, сесть на поезд и ехать, – медленно, будто несмышлёнышу, объяснила мама ошалевшему от счастья сыну…
– Богдан, – в комнату зашла жена. – Мама хочет нас видеть. Я уже и девочек позвала.
Пани Ядвига лежала все в той же позе, что и утром, словно за день даже не двигалась с места.
– Собрались, – не то спросила, не то подтвердила она. – Буду кратка. Вы должны вернуться в город. Девочки уже взрослые, им общение надо. Обо всем мирском я уже позаботилась, вам осталось только батюшку позвать. Отца Василия не зовите – тяжкий грех на нем… Не гоже в храме господнем к насилию призывать. Бог с ним, с Василием, пусть живёт, отца Сергия попросите панихиду отслужить. Стар он уже, немощен, но и я не молодуха, так что друг дружке подойдём…
– Мама… – попыталась вставить слово Наталья.
– Не мешай, дочка.
– Но, как же так? При хорошем здоровье и ясной памяти…
– Наташа, – мама сделала ударение на имени снохи. – А ты бы хотела, чтобы я больной помирала?
– Но, мама…
– Девочки, будьте добры, оставьте меня наедине с сыном.
Пани Ядвига закрыла глаза. Казалось, что она уснула. Впервые в жизни Богдан видел маму слабой, более того, своего состояния она не стеснялась и не прятала.
– Устала я. Сил нету больше смотреть, что в мире творится… Будто все вместе с ума сошли. Богдан, возьми на столе письмо, после смерти моей прочитаешь, а сейчас уходи.
Вечером пани Ядвиги не стало. Панихида прошла тихо, без лишних слез и причитаний, сухо и сдержанно, как прежде жила усопшая.
После похорон Богдан позвонил Александру Израилевичу. Телефонную трубку подняли так быстро, словно звонка ожидали, сидя возле аппарата. Незнакомый мужской голос вопросительно произнес: «Здравствуйте, чем могу быть полезен?» Почти тут же из глубины комнаты послышался голос хозяина квартиры: «Бодя, кто там звонит?»
«Слава Богу, все в порядке. Племянник Нины Ивановны в обиду своих родственников не даст». Вместо ответа он молча положил трубку.
После поминального обеда Богдан открыл мамино письмо. Оно было написано четким почерком и содержало перечень обязательных требований ко всем домашним. Казалось, мама просто уехала на недельку-две, попросив поливать драцену и герань, кормить кота и не забывать о курочках.
Еще в конверте лежал ключ от шкатулки. Эту шкатулку, больше похожую на маленький чемодан, Богдан когда-то сам смастерил на уроке труда и подарил маме в день её рождения. С тех пор подарок занял почетное место возле швейной машинки, где стоял и по сей день.
Замок был совсем крохотный, почти миниатюрный, зато блестящий, не потемневший даже с годами. Он тихо щелкнул, открывая нутро шкатулки. Там царил невообразимый кавардак – катушки ниток вперемешку со шпульками и наборами иголок, ножницы, мелки, пуговицы, бусы, кусочки ткани, инструкции… Легче было назвать, чего там не было, чем было. Брови Натальи удивленно поползли вверх, ведь большей аккуратистки, чем её свекровь, она в жизни не встречала, и увиденное в её святая святых было сродни шоку.
Среди всего этого бардака лежал старый, пожелтевший конверт. Памятуя о письме, Богдан вынул его содержимое: два сложенных листа бумаги разных времен, такую же давнюю фотографию и совсем свежую записку на вырванном из школьной тетради листе.
Читать начал с записки. «Дорогой сынок! Прости мне мои прегрешения перед тобою. Знаю, что рос без ласки, без любви, но что поделаешь, по-другому у меня не получалось…» У мамы был всегда предельно аккуратный, каллиграфический почерк, но сейчас буквы плясали, ложились в разных направлениях, будто писавший человек пребывал в волнении. Слезы застлали глаза Богдана. На мгновение ему показалось, что он беседует с мамой, просто беседует, как должны беседовать мать и сын. Прежде, при жизни матери, такое было невозможным.
Он продолжил чтение: «Не хочу быть прорицателем, но времена меняются, что-то нехорошее готовится в стране. Даже в церкви, в храме Господнем, призывают к войне. Богдан, спасай семью, не жди беды. Дом и квартиру продавайте. Уезжайте отсюда, сынок, Бога ради, уезжайте, прошу тебя».
Взял старую черно-белую фотографию. Повертел в руках. Мужчина на ней, как две капли воды, был похож на Богдана – то же лицо, нос, брови, широко поставленные глаза… Наверное, мамин родственник. Развернул сложенный вдвое пожелтевший лист. На нем крупными, выцветшими от времени буквами был записан адрес. И город, расположенный на востоке страны, и фамилия автора записки были Богдану неизвестны.
Третий лист содержал имена потенциальных покупателей дома и квартиры, с адресами и телефонами. Мама, как всегда, была предусмотрительной. Прочитав письмо, решили сельский дом продать, самим возвращаться в городскую квартиру, а дальше, как Бог даст.
В городе было спокойно. Большая политика игнорировала периферию, сосредоточившись в основном в столице. Малым городам разрешалось довольствоваться только объедками с главного революционного стола, наблюдая за происходящим на Майдане по телевизору или в интернете. Такая перспектива его ничуть не огорчала, ведь при любом раскладе худой мир лучше доброй войны, но вскоре оказалось, что время не стоит на месте, и, в конце концов, отголоски протестов посетили и их безмятежную гавань.
О захвате областной госадминистрации Богдан узнал от своего соседа. Неестественно возбужденный, словно окрыленный, Николай с восхищением приветствовал происходящие в стране перемены и с нескрываемым восторгом рассказывал о новой жизни, которая, вне всякого сомнения, должна была начаться уже завтра:
– Ну, вот и мы дождались! Теперь покатит – не остановишь! Надо менять!.. Все, к черту, менять!.. Надо жить, надо творить! Созидать!.. Надо гореть, а не дымить попусту! Надо в Европу, к людям, к настоящим европейцам, а не к восточным их аналогам! Только они могут нам помочь, только они научат, как нужно жить!
Коля нервно потирал руки, суетливо строил планы на будущее и уже видел себя европейцем – степенным немецким бюргером или франтоватым пижоном-французом, но пока-что своим видом и поведением больше был похож на задиристого воробья – мелкую птицу без роду, без племени.
–…А что?.. Нормально все! Да что нормально?! Превосходно! Подумать только – идём в Европу!
Сделав выразительную паузу, чтобы в который раз прочувствовать всю важность предстоящего момента, Николай вполслуха произнес:
– Идём в Европу!
И даже пожевал, будто пробуя свои слова на вкус, прикрыв при этом глаза от удовольствия. Продолжалось его благостное состояние ровно мгновение, стремительно сменившись театральной окрыленностью,