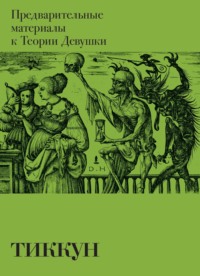Полная версия
Введение в гражданскую войну

Тиккун
Введение в гражданскую войну
TIQQUN
INTRODUCTION
À LA GUERRE
CIVILE
TIQQUN
Organe de liaison au sein du Parti Imaginaire
Paris

Перевод с французского Тимофея Петухова
под редакцией Степана Михайленко
Примечания Степана Михайленко
Публ. по: Tiqqun. Organe de liaison an sein du Parti Imaginaire. Zone d’Opacite Offensive. Paris. 2001. P. 2—37
На обложке: Антонио дель Поллайоло. Сражение обнажённых. Ок. 1465—1475

© Книгоиздательство «Гилея», перевод на русский язык, 2022
Предисловие
У нас – у других, у декадентов – хрупкие нервы.
Всё, или почти всё нас ранит, а что не ранит, то может вызвать лишь раздражение, и потому мы делаем всё, чтобы нас не трогали. Мы способны выдерживать правду во всё меньших и меньших дозах: их уже пора изменять в нанометрах, – и мы предпочитаем им полные до краёв стаканы противоядия. Картины благоденствия, богатство уже знакомых чувств, нежные слова, гладкие поверхности, привычные эмоции и уютные интерьеры, в общем, наркоз килограммами, и главное: чтоб без войны, лишь бы не было войны. Вся эта обстановка, в которой спокойно, как в материнском лоне, проявляется в виде жажды позитивной антропологии. Нам необходимо, чтобы ЛЮДИ[1] сказали нам, что такое «человек», кто «мы» такие, чего нам позволено желать и кем позволено быть. Эта эпоха фанатична во многих аспектах, но особенно в отношении этого самого ЧЕЛОВЕКА, посредством которого ЛЮДИ сублимируют бесспорность существования Блума[2]. Антропология, в её господствующем в наши дни виде, позитивна не из-за своего миролюбивого, немного простоватого и ненавязчиво католического взгляда на человека, а прежде всего потому, что позитивистски наделяет «Человека» качествами и предопределёнными свойствами, субстанциональными предикатами[3]. Вот почему даже пессимистичная англосаксонская антропология с её одержимостью интересами, потребностями и struggle for life[4] становится частью общего замысла, направленного на поддержание в нас надежды, потому что подкидывает несколько доступных объяснений по поводу сущности человека.
Но нам, тем, кто не хочет никакого удобства и комфорта, у кого, конечно, хрупкие нервы, но кто твёрдо намерен их укреплять, закалять, – нам нужно совсем другое. Нам нужна радикально негативная антропология, несколько достаточно пустых, достаточно прозрачных абстракций, чтобы запретить себе судить о чём-либо заранее, нужна такая физика, которая сохранит возможность чуда в каждой ситуации. Нужны концепты-ледоколы, чтобы пробить путь, расчистить место для опыта. Чтобы мы стали его вместилищем.
Мы не можем сказать ничего о людях, то есть о их сосуществовании, что не прозвучало бы подчёркнуто успокоительно. Непредсказуемость этой неумолимой свободы вынуждает нас говорить о ней неопределёнными терминами, бессмысленными словами, какими обычно ЛЮДИ обозначают то, чего совершенно не понимают, потому что и не хотят понять: понять, что мир взывает к нам. Гражданская война — вот нужное выражение. Это тактический ход; нужно превентивно реапроприировать те слова, под которыми неизбежно будут скрываться наши действия.
Гражданская война и формы-жизни
Кто во время смуты в государстве не станет с оружием в руках ни за тех, ни за других, тот предаётся бесчестию и лишается гражданских прав.
Закон Солона в Афинах11 Элементарная человеческая единица – это не тело (индивид), а форма-жизни[5].
2 Форма-жизни – не то, что находится за пределами голой жизни[6], а скорее результат её глубокой поляризации.
3 На всякое тело его собственная форма-жизни влияет подобно клинамену[7], склонности, влечению, пристрастию. То, к чему склоняется тело, в свою очередь склоняется к нему навстречу. И так заново в каждой ситуации. Все притяжения взаимны.
примечание: На первый взгляд может показаться, что Блум являет собой обратное: тело, лишённое склонностей, притяжений, противящееся всякому влечению.

Арент ван Болтен. Из книги «Гротески»
На практике же мы наблюдаем, что то, к чему приходит Блум, это не отсутствие пристрастий, а пристрастие к отсутствию. Лишь это пристрастие даёт понять, сколь активные усилия прикладывает Блум, чтобы оставаться Блумом, чтобы держать на расстоянии то, что к нему склоняется, и отвергать любой опыт. Как верующий, будучи не в силах противопоставить «этому миру» какую-то иную мирскую жизнь, вымещает свою не-принадлежность к нему критикой всего мирского, так и Блум стремится в своём бегстве к исходу из мира, вне которого нет ничего. И в каждой ситуации он будет так же выпутываться, выскальзывать из ситуации. Потому Блум есть тело с явным стремлением к небытию.
4 Это пристрастие, этот клинамен можно или устранить, или принять. Принятие формы-жизни – это не просто знание об этой склонности, но мышление о ней. Я называю мышлением то, что превращает форму-жизни в силу, в ощутимую действенность.
В каждой ситуации проглядывает линия, отличная от всех прочих, линия возрастания силы. Мышление есть способность выявить её и следовать за ней. Тот факт, что форму-жизни можно принять лишь следуя линии возрастания силы, приводит к следствию: всякое мышление является стратегическим.
примечание: По нашему запоздалому мнению, устранение всякой формы-жизни собственно и являет собой судьбу Запада. И в цивилизации, которую мы уже не можем назвать своей, не согласившись тем самым на устранение нас самих, главный способ такого устранения проявляется парадоксальным образом в жажде формы, в погоне за архетипическим сходством, за Идеей себя, которую выносят вперёд, ставят перед собой. И разумеется, везде, где этот волюнтаризм идентичности проявлялся в сколь-либо значимых масштабах, ему больших трудов стоило заслонить ледяной нигилизм и стремление к тому ничто, которое является его стержнем.
Но есть и более редкий, более изощрённый способ устранять формы-жизни, – он называется сознательность, а в своём апогее – просветлённость; все те «добродетели», которые ЛЮДИ особенно жалуют потому, что ими сопровождается бессилие тела. Отныне «просветлённостью» ЛЮДИ называют способность к такому бессилию, при котором нет ни малейшей возможности его преодолеть.
Таким образом, принятие формы-жизни полностью противоположно сознательности или силе воли, как и их результатам.
Скорее, принять – значит отрешиться: это, так сказать, сразу и падение и вознесение, движение и состояние покоя.
5 «Моя» форма-жизни – это не то, кем я являюсь, а то, как я являюсь тем, кто я есть.
примечание: Эта фраза осуществляет некоторое смещение. Смещение в сторону выхода из метафизики. Выйти из метафизики – это не философский императив, это физиологическая потребность. Расширившись до нынешних пределов, метафизика сжимается до общепланетарного предписания: отсутствовать. Империя требует от каждого примириться не с общими законами, а только со своей собственной идентичностью; потому что именно на сращивании тел с их предполагаемыми качествами, с их предикатами и основывается способность Империи контролировать эти тела.
«Моя» форма-жизни – это не то, кем я являюсь, а то, как я являюсь тем, кто я есть, иначе говоря: она присутствует как пропасть между сущностью и её «качествами», как единичный опыт, который я извлекаю из неё в конкретном месте, в конкретный момент. На беду Империи, форма-жизни, оживляющая тело, не содержится ни в одном из его предикатов – высокий, белый, сумасшедший, богатый, бедный, столяр, нахал, женщина, француз, – но лишь в своеобразном способе собственного присутствия, в неискоренимом факте его присутствия[8]. И именно там, где предикация действует особенно рьяно – в зловонной сфере морали, – её провал особенно фееричен: когда, например, мы сталкиваемся с существом предельно презренным, но его манера быть презренным настолько трогает нас, что даже заглушает отторжение, тем самым доказывая, что презренность сама по себе является достоинством.
Принять свою форму-жизни значит следовать в первую очередь своим склонностям, а не предикатам.
6 Вопрос, почему на то или иное тело действует именно эта форма-жизни, а не другая, настолько же лишён смысла, как и вопрос о том, почему есть что-то, когда могло не быть ничего. Он лишь демонстрирует отказ, а иногда страх признавать случайность. Тем более – участвовать в ней.
примечание α: Более достойный внимания вопрос: как тело соединяется с мыслящей субстанцией[9], приобретает полноту, вбирает в себя опыт. Что нас заставляет испытывать то тяжёлую поляризацию с далеко идущими последствиями, то слабую, поверхностную? Как вычленить себя из рассеянной массы блумовских тел, из этого всемирного броуновского движения, в котором наиболее живые переходят от одного микроотрешения к другому, от одной ослабленной формы-жизни к другой, неизменно соблюдая предосторожности: никогда не превышать определённый порог плотности силы? И главное, как тела смогли дойти до такой прозрачности?
примечание β: Есть целая блумовская концепция свободы как свободы выбора, и будучи планомерным абстрагированием от всякой ситуации, она становится лучшим противоядием от любой реальной свободы. Потому что единственная значимая свобода – это следовать линии возрастания силы нашей формы-жизни до конца, до той точки, где она исчезает, высвобождая в нас высшую силу: способность испытывать влияние иных форм жизни.
7 Упорство, с которым тело стремится попасть под влияние одной и той же формы-жизни, несмотря на всё многообразие ситуаций, в которых оно оказывается, напрямую зависит от его внутреннего надлома. И чем сильнее у тела надлом, то есть чем длиннее и глубже трещина, тем меньше поляризаций совместимо с его выживанием, и тем сильнее стремление воспроизводить ситуации, где оно оказывается вовлечённым в уже знакомые поляризации. С ростом надлома в телах растёт и степень отсутствия в мире, и дефицит склонностей.
примечание: «Форма-жизни» обозначает: моё отношение к себе всего лишь частичка моего отношения к миру.
8 Опыт одной формы-жизни по поводу другой формы-жизни не может быть сообщён последней, даже если он, в принципе, мог бы быть переведён; и всем нам прекрасно известно, как бывает с переводами. Продемонстрировать можно лишь факты: поступки, жесты, то есть – толки[10]; формы-жизни не оставляют между собой зазора для нейтральной позиции, тихого укрытия универсального наблюдателя.

примечание: Разумеется, желающих свести формы-жизни к объектному новоязу «культур», «направлений», «образов жизни» и прочих релятивистских туманностей – полно. Мотивы же этих несчастных, напротив, совсем не туманны: задача, как обычно, в том, чтобы вернуть нас в великую одномерную игру соответствий и различий. Так проявляется самая болтливая враждебность ко всякой форме-жизни.
9 Сами по себе формы-жизни нельзя пересказать, описать, – только указать, назвать, непременно в единичном контексте. Их игра же, напротив, если брать её локально, подчиняется строгому и постигаемому детерминизму. Будучи осмысленным, этот детерминизм становится правилами, то есть тем, что поддаётся исправлению. Каждый раунд этой игры ограничен со всех сторон событием. Событие выводит игру за её пределы, создаёт в ней зазоры, отменяет прежний детерминизм, на его основе предсказывает следующий и требует интерпретировать себя согласно ему. Во всех случаях мы начинаем с окружения.
примечание α: Собственно говоря, дистанция[11], необходимая, чтобы описать форму-жизни такой, как она есть, это дистанция вражды.
примечание β: Сама идея «народа» (расы, класса, этноса, нации) как массового восприятия формы-жизни всегда опровергалась тем фактом, что этические разногласия внутри каждого «народа» всегда оказывались более значимыми, чем между самими «народами».
10 Гражданская война – это свободная игра форм-жизни, принцип их сосуществования.
11 Война – потому что в каждой единичной игре между формами-жизни никогда нельзя исключить возможность жестокой конфронтации и использования насилия.
Гражданская – потому что формы-жизни сталкиваются не как Государства, то есть соединения территорий и населения, а как партии, в том значении, в каком это слово понималось до пришествия новых Государств, то есть (поскольку нынче это надо напоминать) как движущие силы партизанской войны.
И наконец, гражданская война – потому что формы – жизни не делают различий между мужчинами и женщинами, политической и голой жизнью, гражданскими и военными;
потому что нейтралитет – это лишь ещё одна партия в свободной игре форм-жизни;
потому что у игры этой нет ни начала, ни конца, который можно объявить, кроме физического конца света, о котором объявлять будет уже некому;
и в особенности потому, что я не знаю тел, которые не были бы безвозвратно втянуты в безумный и гибельный бег этого мира.
примечание α: Насилие – историческое новшество; мы, другие, декаденты, первыми познакомились с этой диковинкой: с насилием. Традиционные общества знали кражу, богохульство, отцеубийство, похищение, жертвоприношение, оскорбление и месть; современные же Государства, стоя перед лицом дилеммы квалификации разных поступков, склонны признавать теперь только факт нарушения Закона и наказание, которое должно его исправить. Но при этом не забывают о войнах за пределами страны и авторитарном дисциплинировании тел в её границах. И, по сути, только Блумы, эти боязливые атомы имперского общества, считают «насилие» абсолютным и уникальным злом, скрывающимся за бессчётным числом масок, за которыми критически важно быстро его распознать, чтобы наиболее полно искоренить. На самом же деле для нас насилие – это то, что было у нас отнято, и что теперь необходимо себе вернуть.
Когда Биовласть[12], комментируя дорожное происшествие, говорит о «насилии на дорогах», понятно, что под насилием имперское общество понимает лишь зов к его собственной гибели. Оно выдумало этот негативный концепт, чтобы отрицать всё, что ещё обладает в этом обществе какой-то силой. Во всех своих образах имперское общество и само всё отчётливей видит себя как насилие. И потому в облаве, которую оно ведёт, выражается его собственная тяга к исчезновению.
примечание β: ЛЮДИ не любят говорить о гражданской войне. А если и говорят, то только чтобы определить её место и ограничить во времени. И получается «гражданская война во Франции» (1871), в Испании (1936–1939), гражданская война в Алжире и, может, скоро в Европе. Заметим, к слову, что французы, по своей кастратской натуре, переводят американскую “Civil War” как Guerre de sécession[13], чтобы лучше подчеркнуть свою решительность всегда и безусловно принимать сторону победителя, особенно если это ещё и сторона Государства. Что касается привычки приписывать гражданской войне начало, конец и географические границы – словом, делать её исключением из нормального порядка вещей, вместо того, чтобы рассматривать, как она перетекает, преобразуясь, сквозь времена и пространства, – отделаться от этой привычки можно лишь разоблачая скрытую под ней махинацию. Так, например, вспомним, что те, кто в начале 60-х намеревался положить конец ге-рилье в Колумбии, первым делом дали имя “la Violencia” («Насилие») тому историческому эпизоду, который они хотели завершить.
12 Рассуждать с точки зрения гражданской войны – X значит рассуждать с точки зрения политики.
13 Если два, тела, находящиеся под воздействием одной и той же формы-жизни, встречаются в определённый момент в определённом месте, они объективно чувствуют, что между ними возникает согласие, предшествующее всякому решению. И это – опыт общности. примечание: В потере этого опыта следует винить ту старую фантазию метафизиков, которая до сих пор тревожит западное воображение: идею человеческого сообщества, известную части парабордигистской публики также под именем Gemeinwessen2. Только из-за того, что западный интеллектуал лишён доступа к реальному сообществу, из-за крайней своей обособленности он и смог склепать себе для развлечения этот маленький фетиш: человеческое сообщество. Неважно, влезет ли оно в фашистско-гуманистский мундир «человеческой природы» или в обноски простушки-антропологии, сосредоточится ли на идее сообщества, чья власть стала совершенно бесплотной, или бросится сломя голову в более грубую идею «универсального человека»[14] – что сведёт воедино все человеческие предикаты, – всё это тот же страх даже подумать о своей единичной, детерминированной, законченной ситуации, от которого и укрываются в этой утешительной выдумке всеобщности, мирового единства. Последующие абстракции могут зваться массами, мировым гражданским обществом или человеческим родом, но это значения не имеет: важен сам принцип. Все последние глупости про кибер-коммунистическое общество и кибер-единого человека набирают размах стратегически весьма уместно: как раз когда по всему миру поднимается движение, чтобы их опровергнуть. В конце концов, социология родилась именно тогда, когда в недрах общества появился самый непримиримый конфликт всех времён, и именно там, где этот конфликт – борьба классов – проявлялся с особой неистовостью, во Франции второй половины XIX века, иными словами: в ответ на него.
Сегодня, когда само «общество» уже не более чем гипотеза, причём не из самых правдоподобных, делать вид, что защищаешь его от фашизма, латентно присущего любым сообществам, – такие стилистические упражнения пропитаны лицемерием. Потому что кто ещё называет себя в наши дни «обществом», как не имперские граждане, которые объединились, или, точнее, сбились в банду по отрицанию очевидного и окончательного разрушения Империи, по отрицанию онтологической очевидности гражданской войны?
14 Нет сообщества за пределами единичных отношений. И никогда не существует конкретного сообщества, лишь сколько-то текучей сообщности.
примечание α: Сообщество всегда подразумевает не группу тел в отрыве от окружения, а определённую природу отношений тел между собой и тел по отношению к их окружению. Как только сообщество хочет оформиться в отдельный субъект, в самостоятельную реальность, хочет материально воплотить границу между внешним к ней и внутренним, она наталкивается на собственную невозможность. Эта невозможность и определяет сообщество. Тотальное самосознание[15] сообщества – общность – совпадает с полным распадом всякого сообщества на уровне единичных отношений, когда отсутствие сообщества становится ощутимым.
примечание β: Всякое тело находится в движении. Даже оставаясь на месте, оно всё ещё присутствует, вводит в игру свой собственный мир, идёт навстречу судьбе. Также, некоторые тела движутся вместе, тянутся, клонятся друг к другу: между ними – сообщество. Другие отталкиваются, не состыковываются, бранятся между собой. В сообщество каждой формы-жизни входят также сообщества вещей и жестов, сообщества привычек и чувств, сообщество мыслей. Несомненно, тела, лишённые принадлежности к сообществу, тем самым лишены и вкуса: они не видят, что одни вещи идут вместе, а другие нет.
15 Не может быть сообщества просто собравшихся k^J здесь.
примечание: Всякое сообщество – это одновременно и действие, и потенциал, возможность действия, то есть когда имеет место только действие, например, Тотальная Мобилизация[16], или только потенциал, как в высочайшей изолированности Блума, тогда общности нет.
16 Сообщество, т. е. результат встречи с телом, находящимся под действием той же формы-жизни, что и я, позволяет мне соприкоснуться с моим собственным потенциалом.
17 Смысл — элемент Общего, то есть каждое событие, как смысловой раздражитель, вводит нечто общее.
Когда тело говорит «я», на самом деле оно говорит «мы».
Поступок или высказывание, несущее смысл, выделяет из массы тел определённое сообщество, и нужно сперва принять его, чтобы иметь возможность принять этот поступок или высказывание.
18 Если встречаются два тела, в одном месте и в один и тот же момент движимые совершенно чуждыми друг другу формами-жизни, они испытывают опыт неприязни. При этой встрече не создаётся никаких отношений, скорее наблюдается заведомое не-отношение.
Неприятель, чужак может быть легко замечен и положение его определено, но при этом сам по себе он, единичный, останется непознанным. Неприязнь – это именно неспособность тел, которые не сходятся вместе, видеть друг в друге единичные тела.
Всё, с чем знаком как с единичным, избегает сферы неприязни, становится либо другом, либо недругом.
19 Для меня предмет неприязни, неприятель, – это небытие, которое требует своего устранения: либо перестав вызывать неприязнь, либо перестав существовать.
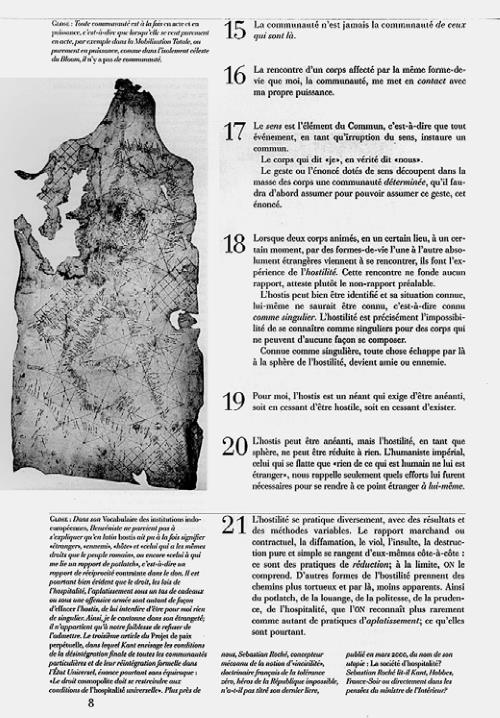
Страница журнала “Tiqqun” с оригинальным текстом
20 Неприятель может быть устранён, но саму не-приязнь как сферу к нулю не свести. И когда имперский гуманист льстит себя надеждой, что «ничто человеческое ему не чуждо», он лишь напоминает нам, сколько труда понадобилось ему, чтобы стать настолько чуждым себе.
21 На практике неприязнь может выражаться по-разному, как в методах, так и в результатах. Будь то рыночные отношения, контракты, клевета, надругательство, оскорбление или простое и прямое уничтожение – всё это стоит с ней в одном ряду, как практики приведения к единому знаменателю; но, в конце концов, их-то ЛЮДИ прекрасно понимают. Иные формы неприязни выбирают куда более извилистые, а потому неочевидные пути. Среди них – потлач, похвалы, учтивость, осмотрительность, гостеприимство, которые ЛЮДИ куда реже признают практиками выравнивания; хотя это именно они.
примечание: В своём «Словаре индоевропейских социальных терминов» Бенвенист не удосуживается объяснить, что на латыни слово «неприятель» – “hostis” могло сразу значить и «чужак», и «враг», и «гость», и «тот, кто имеет те же права, что и римлянин», или даже «тот, с кем я связан через потлач», то есть через вынужденно взаимные дарственные отношения. В то же время совершенно очевидно, что право, законы гостеприимства, выравнивание горой подарков или бомбёжкой – лишь разные способы устранить этого “hostis”, запретить ему быть для меня чем-то единичным. Так я заключаю его в рамки его чужеродности; и если мы отказываемся это признать, то лишь из слабости. В третьей статье трактата «К вечному миру», в которой Кант говорит об условиях конечного распада всех отдельных сообществ и их формальное объединение в Единое Государство, прямым текстом написано; «Право всемирного гражданства должно быть ограничено условиями всеобщего гостеприимства»3. Если ближе к нашим дням, то разве Себастьян Роше4, непризнанный теоретик понятия «неучтивости», французский поборник нулевой толерантности, герой нынешней Невозможной Республики3, не назвал свою последнюю книгу, вышедшую в марте 2000 года, именем своей утопии: «Общество гостеприимства»? Не знаю, читает Себастьян Роше Канта, Гоббса, “France-Soir”6 или напрямую мысли министра внутренних дел?
22 Ничего из того, что мы обычно обозначаем словом «безразличие», не существует. Либо форма – жизни мне не известна, и тогда она для меня – ничего, то есть даже не безразлична. Либо она мне известна, и существует для меня так, будто не существует, – в этом случае у меня к ней, очевидно, неприязнь.