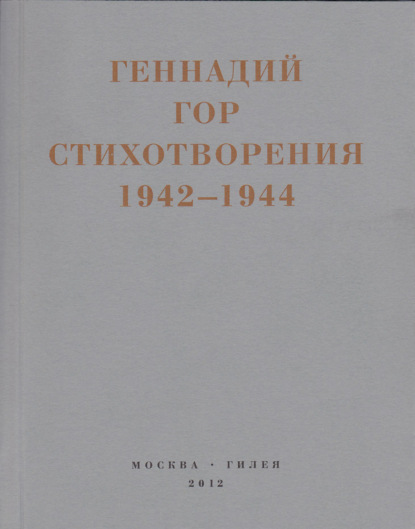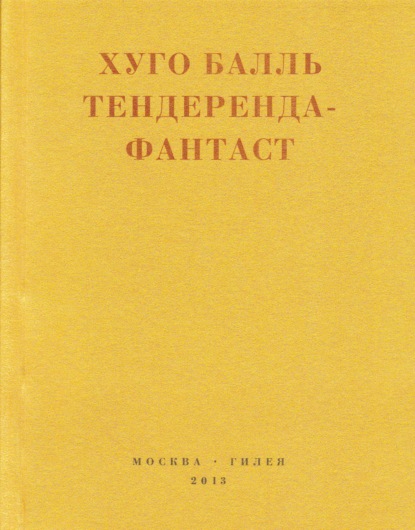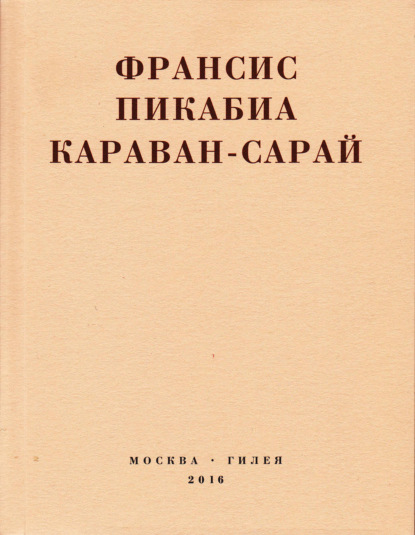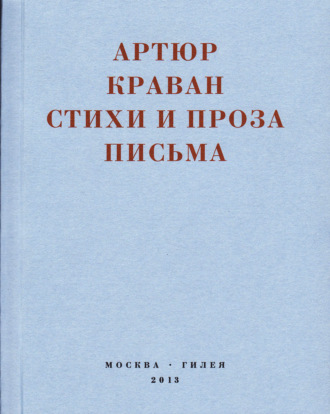
Полная версия
«Я мечтал быть таким большим, чтобы из меня одного можно было образовать республику…» Стихи и проза, письма
Где-то в этот период к нам приехал месье Ллойд, которого мы звали лондонским папой, чтобы отличать его от лозаннского папы; последнего же мы ещё называли папелло. Он остановился в отеле, куда нас и привела гувернантка. Не помню, чтобы мы очень обрадовались. Мы накупили самых скверных конфет, которые только продавались, и когда отец признался, что вкус у них был не слишком приятным, мы принялись запихивать их ему в рот, кривляясь и вообще ведя себя, мягко говоря, невежливо. Он отвёз нас в Женеву и не поскупился на все
Яркая жизнь, funiculi, funicula[38]
развлечения Выставки[39], которая тогда только открылась в городе. Я помню, с каким экстазом я забирался в кабину канатной дороги или сидел на сиденье вращающейся комнаты[40]. Эта поездка продлилась не больше четырёх-пяти дней.
В начальной школе я потихоньку осваивал чтение. Учиться же мне не нравилось вовсе. Любовь к знаниям нам прививали две учительницы – престарелые монашки. Одной было около семидесяти, и она обучала балбесов младшего возраста, среди которых был и я, а другая, лет, наверное, пятидесяти, занималась с учениками постарше и готовила их к вступительному экзамену в среднюю школу. Хорошие оценки мы приносили домой исключительно потому, что воровали из столов старух жетоны, служащие для подсчёта заработанных баллов. Школа находилась на улице Бург в двух шагах от нашего дома, и замкнутый её мирок состоял сплошь из мальчиков, которые к тому же принадлежали к зажиточным семьям Лозанны. Именно в таком кругу нам пришлось заводить первых приятелей и выбирать первых жертв. У моего брата наблюдалась некоторая склонность к рисованию, но, как и я, он только и ждал, что часы пробьют полдень и можно будет, пиная мяч, носиться по улицам или драться с мальчишками. Ещё мы ходили клянчить конфеты у продавца бакалейной лавки: потолок магазинчика был по совместительству полом нашей классной комнаты, а несколько служебных помещений занимали часть второго этажа, так что одна стена была смежной со школьной. Обычно мы получали горстку мятных леденцов, продекламировав следующее приветствие:
Попугайчик – пёстрый хохолок,Расскажи-ка поскорей стишок —Дам тебе конфетку я, дружок.К десяти или одиннадцати годам во мне стала пробуждаться чувственность. Слепо следуя инстинкту, я запирался в туалете; не снимая одежды, я ложился на живот и на полу пытался воспроизвести любовные телодвижения – процесс доставлял мне удовольствие и заканчивался слабым оргазмом. Меня возбуждал свежий запах мочи, исходящий от стен, и это действо стало повторяться каждый день. От такой привычки мне было немного не по себе, и однажды вечером я всё рассказал Отто, который, расхохотавшись, тут же научил меня более простому способу мастурбации. Первая попытка закончилась неполным удовлетворением и лёгким раздражением полового органа.
В то время мой брат посещал классические занятия в средней школе кантона и учил азы латыни: к концу первого триместра он уже был третьим в классе по успеваемости, и мать, предвкушая долгожданное оправдание всех своих надежд, несказанно гордилась тем, что воспитала, как ей казалось, великую личность. Разочарование не заставило себя долго ждать. На протяжении некоторого времени Отто по секрету показывал мне всевозможные мелочи, которые он торжественно извлекал из карманов. То календарик за пятнадцать сантимов, то на удивление дорогая ручка, то пистолетик или даже мяч, появление которых меня порядком озадачивало, ведь мне было прекрасно известно, что денег ему давали столько же, сколько и мне, а именно – тридцать сантимов в неделю.
Однажды, сияя от радости и собственной значимости, он поведал мне, что всё это он украл, и предложил мне тоже извлечь пользу из его воровства. Он стал по дешёвке продавать мне разные вещицы, и поначалу я с восторгом участвовал в этих сделках, но через несколько дней пыл мой поубавился, и тогда я решил, что и сам без труда могу стащить всё, что мне только приглянется. Когда я поделился с ним этим соображением, он тотчас же со мной согласился и в ярчайших подробностях рассказал мне о своих подвигах. «Это, – утверждал он, – проще простого! Знаешь ту канцелярскую лавку М.? Ещё сегодня утром я украл там блокнот; а чего только мы вместе с К. не прикарманиваем в универсальном магазине! Позавчера мы украли по пистолету и по десять коробок наживок каждый. Помнишь тот большой красный мяч, а? Угадай, где я его взял? Всё в том же универсальном магазине! Поверх него куртка сильно топорщилась, и К. боялся выходить. Но всё-таки это очень легко. Только полный дурак не станет воровать. Хочешь, можем прямо сейчас вместе попробовать». (6-й день) По его совету для первой вылазки я выбрал бакалею, которая была чуть ли не напротив нашего дома. Я попросил лакричной воды на пять сантимов, а пока мне её наливали, я дрожащей рукой стянул маленькую упаковку какао стоимостью в десять сантимов. К несчастью, когда я подошёл к кассе и объявил цену покупки, меня поймали. «Нет-нет, – поправил меня кассир, – Вы ошиблись, Вы должны пятнадцать сантимов с учётом того, что у вас в рукаве». Я густо покраснел, вернул товар и в полном смятении вышел на улицу. Мой брат, поджидавший меня во дворе нашего дома, покатился со смеху, услышав рассказ о моём провале. Урока из этого я не извлёк, и уже на следующий день вновь взялся за дело, но только в другом месте, где всё прошло гораздо удачнее. Воровали мы обычно втроём: я с братом и школьный приятель по имени К. – маленький, бледный и замкнутый мальчик, у которого умер отец (на могилу покойного, мы, кстати говоря, бегали мочиться забавы ради). У К. была какая-то деформация полового органа – скорее всего, сужение уретры – в результате чего он мог пи́сать невероятно длинной струёй, и моча его под напором долетала аж до стёкол фонарей. Мы всегда с нескрываемым любопытством смотрели, как он пи́сал, а его член раздувался, словно шарик. Вместе мы любили устраивать всевозможные глупые розыгрыши. Например, в книжном магазине мы просили продать нам немного бензина, в другой лавке – полкило дырок от кренделя. А любимая шутка над галантерейщиком состояла в том, чтобы задать вопрос: «Нет ли у Вас арабских сук… онных рукавиц, месье?» И наконец, мы коверкали английское слово “plumcake”[41] и спрашивали у продавцов плумовую каку. Я помню, что как раз при выходе из одной кондитерской, где у К. были знакомые, мы, представившись потенциальными покупателями плумовой каки и давясь от хохота, так суматошно, по-хулигански проталкивались к выходу, что Отто разбил первые свои часы, которые ему подарили накануне.
Мать К. заподозрила, что её сын что-то скрывает, проследила за ним и в итоге узнала, откуда берутся новые вещи. К тому же пойманный с поличным мальчик тотчас во всём сознался, не забыв, однако, переложить ответственность за содеянное на Отто, который, мол, его подговаривал на кражи. Эта милейшая женщина в мгновение ока оказалась у нас дома. Моя мать побеседовала с ней, и сперва не поверив своим ушам, затем огорчившись, позвала нас для очередной порции нотаций. Вернувшись в детскую, мы заговорили о том, что ждало нас дальше: о палке. Поняв, что вразумительные беседы с нами ни к чему не приводили, отчим, посовещавшись с супругой и окончательно отчаявшись повлиять на наши бунтарские души иным способом, решился, наконец, нас поколотить – даже несмотря на всё то отвращение и смущение, которое он испытывал при мысли о необходимости взять на себя обязанности полноправного отца. И это наказание было далеко не первым в нашей жизни. Тем временем мы гадали, кого как накажут: «Ты старший, и тебе достанется не меньше двадцати ударов, а мне – только десять». Брат говорил: «Запомни, о бумажнике ни слова! Как бы тебя ни упрашивали, ты должен всё отрицать. Я хочу быть первым – так я смогу от души повеселиться, когда будут пороть тебя, ох, братец, как тебя отделают! Пропала твоя бедная задница! Ты самое малое четыре дня не сможешь пукат-ё, вот смеху-то будетё-ё-ё!» И несмотря на мучительное состояние, в котором мы пребывали, каждый из нас умудрялся больше всего радоваться несчастью брата, что, впрочем, не мешало нам готовиться к казни и запихивать в штаны носки и платки. Знакомый скрежет ключа в замке известил нас о приходе палача. Сердце ушло в пятки, но мы всё ещё изо всех сил пытались смеяться. Мы представляли себе: duck плачет, папелло ищет палку, нам крышка.
Чуть позже мы услышали шаги, направляющиеся в нашу сторону, брат быстро сел, делая вид, что читает, а я стал сосредоточенно глядеть в окно. Дверь отворилась и вошёл отчим:
– Отто, Фабиан, идите сюда, – приказал он, пряча за спиной палку. – Отто, что это такое? Приходила мадам К. Так ты, значит, воруешь в магазинах? И не стыдно тебе? Подумал бы о нашей репутации! Ты довёл маму до слёз (этот аргумент всегда безотказно действовал на моего брата), вы самые настоящие хулиганы, по вам и вправду палка плачет.
Он схватил брата за руку и приступил к исполнению наказания. Отто поплакал и покричал для виду, чтобы показать, как ему больно, но в целом выдержал расправу стоически. Со мной всё произошло иначе. Я покорно выслушал обвинения, но как только палка взмыла в воздух, я принялся истошно кричать: «Нет, не надо, клянусь тебе, я больше не буду», переходя на жалобные: «Хватит, хватит» и душераздирающие «Ай-яй-яй, ты бьёшь по ногам». Вдобавок я изо всех сил выкручивался, отпрыгивал вперёд, пытаясь увернуться от палки, и катался по полу. Как только процедура завершилась и нас оставили одних, мы принялись делиться впечатлениями.
– Мне ни чуточки не было больно, – хвалился брат, – по мне даже и не попали, разве что один удар пришёлся на место рядом с носком. А вот тебе-то как досталось! Хотя и ты тоже не сильно орал, а когда тебя били по заднице, было даже не смешно.
– Ой, ну что ты, я и почувствовал-то всего два удара: по заднице и по икрам.
Исправить нас было решительно невозможно. Эмму уволили за безнравственное поведение; несколькими годами позже мои родители выступали в качестве свидетелей на суде в Эвиане. Наша бывшая гувернантка оказалась замешана вместе с каким-то бандитом в деле об ограблении, и её приговорили к двум годам тюрьмы. Тогда стало известно, что и наших родителей она обокрала, и что лозаннский ростовщик, который не удосужился заручиться гарантиями, обязуется полностью возместить им стоимость золотых часов и различных драгоценностей. Мисс Карри тоже уже давно от нас ушла, так и не научив нас ни единому английскому слову. Новую гувернантку звали Мартой. Её предшественница проработала у нас в доме так недолго, что упомянуть её следует лишь в связи с забавным случаем, который характеризует необычайную эксцентричность моего отчима. Он потребовал, чтобы она называла его господином Маркизом Бельвильским – на этот титул у него, разумеется, не было никакого права – и чтобы она обращалась к нему, к его жене и детям исключительно в третьем лице. За малейшее пренебрежение сиим требованием он её крайне строго отчитывал, что совершенно выводило служанку из себя: подобные притязания казались ей немыслимыми – тем более в Швейцарии, где взгляды были настолько либеральными, что во многих семьях хозяева сажали прислугу за свой стол. В общей сложности эта комедия продлилась две недели.
Уж не помню, с ней ли было дело, но однажды я получил пощёчину и так взбесился, что вонзил ей в ляжку зубцы садового инструмента.
Остались только Марта и кухарка, которую, правда, первая вскоре после какой-то ссоры потребовала выгнать, грозясь, что уйдёт от нас, и уверяя, что и сама может прекрасно справиться со всеми делами по хозяйству, включавшими в себя, помимо приготовления пищи, приём пациентов, поддержание чистоты в квартире и, прежде всего, присмотр за нами.
И вот к нам снова приехал лондонский папа. Он отвёз нас в Глион, и я помню, что во время поездки на фуникулёре по направлению к деревне я сидел напротив само́й императрицы Елизаветы Австрийской, которой позже было суждено погибнуть от рук убийцы в Террите. Месье Ллойд сказал, что мы сильно выросли и очень изменились. И ещё бы!
Впечатления от озера и гостиницы
С ним мы себя вели самым неподобающим образом, давая волю всем своим дурным наклонностям. Мы дёргали его за бороду, забирались к нему на колени специально так, чтобы отдавить ему мошонку, а когда он пытался нас сфотографировать, мы передразнивали его физический дефект. Ему постоянно приходилось делать нам замечания: “Don’t be rude, don’t be rude, Fabian” – «Не груби, Фабиан, не груби!», – но мы и слушать ничего не хотели, доводя разнузданное поведение до предела. Перед отъездом он подарил нам, помнится, по десять франков. Позже он написал матери письмо из Англии, в котором сообщил, что наше здоровье показалось ему превосходным, но что его сильно расстроила испорченность наших характеров – тут он задавался вопросом, в кого мы пошли – и полное отсутствие воспитания.
Затем из Японии приехала одна из наших тётушек и остановилась у нас в доме на несколько дней. Мне запомнилось, как мы сидели в гостиной и она рассказывала нам тысячи историй из своих путешествий, которые меня сильно впечатлили. Она сидела по-восточному и ела палочками. Ещё она подарила нам золотую монету в десять франков, которую я потратил на уменьшенную модель двигателя, так как намеревался тогда стать великим инженером. Позже приехала мадам Уайльд и тоже пробыла у нас несколько дней. Её мужа уже тогда похоронили. Я помню, что она прихрамывала на одну ногу, а с лица у неё не сходило выражение бездонной грусти, хотя моим самым ярким воспоминанием о ней было то, что она подарила нам всего лишь сто су на двоих и что она вообще была страшно скупой.
Какое-то время у нас гостила супруга женевского художника Давида Эстоппе[42], с которой моя семья познакомилась на курорте (7–8-й день). Каждый раз, когда она сажала меня к себе на колени, я исхитрялся пукнуть – это со мной случалось так часто, что меня прозвали мастером пленительных ароматов. Близилось Рождество, и я воровал всевозможные безделушки и перепродавал их ей. Нам с братом даже удалось украдкой вынести из магазина ёлку, накрыв её простыней. Каждый раз, как я что-нибудь крал, то испытывал сильнейший восторг – я до сих пор помню это пронзительное чувство, когда оказываешься один в подвале какого-нибудь магазина. Столько всего можно было стащить, что у меня разбегались глаза, и я совершенно не мог ничего выбрать, так что мне даже приходилось звать Отто, чтобы тот занялся делом, пока я собираюсь с мыслями.
За несколько дней до Рождества мы так перевозбудились, что не могли больше спать. В праздничный вечер мы спрятали спички и свечи и, притаившись в кроватях, ждали до полуночи, пока мать не зашла на цыпочках в комнату и не положила на стулья подарки. Едва за ней закрылась дверь, как мы тут же вскочили, зажгли свет и принялись распаковывать свёртки. Брат, как и хотел, получил в основном книги, не считая одной-двух игрушек, мне же подарили одни игрушки, поскольку чтение казалось мне тогда самым скучным занятием на свете. В одиннадцать лет я был чрезвычайно рослым, всего на каких-нибудь два-три сантиметра ниже моего брата, и являл собой отменный образец маленького дикаря, безгранично ленивого телом и духом. Когда играть мне надоедало, я просто садился в кресло и так и сидел там без дела – ни разу меня не осенила идея полистать книгу или заняться чем-нибудь ещё. И всё же, когда однажды за столом отчим произнёс – уж и не припомню по какому поводу – имя Виктора Гюго, и я спросил, кто это такой, а он ответил: «Это великий поэт», то эти три слова странно меня взволновали и расшевелили во мне новые мысли и чувства.
Каждое лето с наступлением жарких дней мать увозила нас в горы, но тогда вот уже несколько лет подряд мы ездили в Ориен-де-л’Орб, деревушку в долине Жу. Мы останавливались в гостинице. Именно там я впервые познал платоническую и в некоторой мере физическую любовь. Однажды после ужина гости устроили один из таких любительских спектаклей, которыми часто заканчиваются вечера в приятном обществе. Юные сёстры-американки показывали живые картины, и, ослеплённый красотой старшей, я безумно в неё влюбился. Этой девушке было около двадцати лет, то есть примерно вдвое больше, чем мне. Там же я играл с английскими детьми, и однажды с одной девочкой мы решили снять одежду и заняться сексом. Мы заперлись в туалете, разделись догола, и я стал наугад прижимать к ней свой член. Она сказала мне, что моя плоская попа нравится ей куда больше её собственной, начавшей уже приобретать женственные формы. Желая поделиться нежданно перепавшей мне удачей с Отто, я сбегал его позвать, и он пришёл с твёрдым намерением заняться любовью. Когда задвижка на двери щёлкнула, он тут же принялся показывать девочке своё хозяйство, нацелившись на её маленькую дырочку. Ему даже, наверное, удалось бы её совратить, не появись в тот момент моя мать, которую позвал заподозривший неладное брат девочки.
Все каникулы напролёт мы катались на лодках, плавали и удили рыбу, а ещё дрались с деревенской ребятнёй. Во время перемирий мы с особым рвением пытались перенять у них местный говор – наверное, самый протяжный во всем кантоне Во. А когда мы с ними враждовали, то дрались палками, пинались, а порой дело доходило и до настоящих сражений, и в ход шли камни: мы прятались в крепостях, которые были построены из толстых досок, прибитых к ветвям сосен, и выдерживали атаку тридцати-сорока мальчишек. Выгнать нас из этих бастионов было невозможно, особенно учитывая то, что наши враги ходили в школу, и к определённому часу им всё равно приходилось прекращать осаду.
Вернувшись в Лозанну, я успешно сдал экзамены, благодаря которым передо мной открывались двери в среднюю школу кантона. Экзамены были, судя по всему, не слишком сложными, ведь я был таким неучем, что поставь меня перед картой Швейцарии, я бы в жизни не нашёл Невшательское озеро. Моя мать страшно волновалась, когда вела меня на экзамен. Изучение латыни увлекло меня на день или на два, а вот история и французский с его грамматикой и сочинениями сразу же наскучили мне до смерти. Как раз в одном из таких сочинений я с полной уверенностью написал, что мой дедушка, которым я очень гордился, был шесть метров ростом. Я зачитывал это вслух, а мои одноклассники покатывались со смеху и расхохотались пуще прежнего, когда преподаватель удивлённо переспросил меня о сверхъестественных размерах этого представителя семьи Ллойдов, а я вновь убеждённо заявил, что при жизни он был точно не ниже шести метров.
Артюр КраванЖурнал «Сейчас»
(1912–1915)
Сейчас
1 год № 1
Свисток[43]
Трансатлантический лайнер качается в ритм океана,В воздухе дым извивается, будто бы веретено.Протяжно свистя, могучий корабль к берегу Гавра пристанет,Матросы-атлеты на суше медведями станут.Нью-Йорк! О, Нью-Йорк! Как хотел бы в тебе я жить!Смотрю, как науке и технике здесь сужденоСлиться в одноВ пышных, нетленныхДворцах современных,Где глаза ослепляютСтеклянные конусы светаСнопами ультрафиолета,Где вездесущ американский телефон,И неслышно и мягкоДвижутся лифты в шахтах.Дерзкий корабль Английской компании,И я, в восхищеньи всходящий на борт:Там – роскошь, красота, турбины,Электрифицированный комфорт,Ярчайшим светом залиты кабины,Колонны колышутся медленно в медном огне,И руки мои опьянённые, словно во сне,К прохладе металла, дрожа, прикоснулисьИ в животворящий поток окунулись.Зелёный оттенок запаха свежего лакаУносит меня без оглядки в то время, когда́ я,Забыв о долгах, яйцом катался в неистово яркойЗелёной траве. В экстазе одежды я мог ощущать,Как тело твоё, о природа, дрожь покрывает.Мне бы на волю, конём бы пастись, по полю бежать!Палуба с музыкой в такт блаженно раскачивается,И холод сильней и пронзительнейв новом физическом качествеС каждым вдохом и выдохом!Я стал тосковать: ведь там негде ржать и некуда плыть,Можно лишь чинно гулять, с пассажирами говоритьИ смотреть, как колеблется ватерлиния, пока впереди неЗасверкают трамваи, бегущие в утренней синейМгле, а на стенах домов не запляшут белые отсветы.Мы блуждали семь суток размеренным ходомПод дождями, под солнцем, под звёздной россыпью.Лихое, юное чутьё в торговле стало мне опорой.Продавая консервы и изделия марки Гла́дстон[44],Я заработал богатство: восемь миллионов.Теперь я владелец десятка судов многотонных.Под стягами, расшитыми моим гербом, плывут они по свету,Рисуя на волнах и на ветрах мою торговую победу.У меня есть и первый локомотив, которыйФыркает, пар выдыхая, как лошадь в мыле,И гордыню свою в руках машиниста оставив,Он мчится, отдавшись безумной восьмиколёсной силе.Он влечёт за собой в приключение длинный состав —В зелень Канады, в бескрайнюю глушь лесов,И аркады мостов под рессоры свои подмяв,Он летит сквозь поля в тишине предрассветных часов.И если вдруг среди звёзд он увидит огни городов,По долине разносится эхо протяжных свистковОтголоском мечты о приюте под небом стеклянным вокзала.А пока он везёт на буксире по зарослям рельс и столбовУпругое облако дыма и грохот колёс по шпалам.Артюр КраванНеизданные материалы об Оскаре Уайльде
Оскар Уайльд – человек, коего многие считают обладателем необычного лба, сильно выступающего поверх надбровных дуг, но выше стремительно утрачивающего выразительность, в то время как его череп благородной яйцевидной формы расширялся ближе к затылочной части – говорил, что источником способностей человека является не передняя, а именно задняя часть черепа. Он также утверждал, что у истинно талантливых людей мысли зарождаются в… затылке.
В действительности же лоб у Оскара Уайльда был вовсе не низким, а даже довольно высоким, сильно выраженным, но без излишней бетховенской мускулатуры. В профиль он немного напоминал Байрона. К тому же голова Оскара Уайльда представляла собой образчик греческих пропорций – не таких, как у статуй, а скорее как у фигур, изображённых на вазах и медальонах.
Голубые глаза, подёрнутые лёгкой дымкой и темнеющие каждый раз, когда взгляд его оживлялся, были искусно вставлены в оправу надбровных дуг, над которыми суверенной аркадой возвышались широкие брови. Вместе с тем невозможно представить себе большего разнообразия в выражении глаз, способных казаться настолько тусклыми и замкнутыми на внутренних поэтических переживаниях и настолько же открытыми и устремлёнными во внешний мир.
Что же касается аристократического носа, то его широко открытые и подрагивающие ноздри жили своей, полной жизнью.
Бледные и мясистые губы вряд ли можно было назвать «милым ротиком». Рот у него и вправду казался весьма грубо скроенным, но притом отнюдь не бесформенным, а наоборот, чётко очерченным: посередине линия губ шла вровень с лицом, а уголки уходили вглубь, решительно загибаясь, словно прорезанные в античной маске.
В щеках его не было и намёка на худобу – они представали во всём своём пышном великолепии.
В общем, как уже упоминалось прежде, отличительной чертой его внешности был греческий профиль. Анфас же Оскар Уайльд хоть и сохранял это сходство с греческими фигурами, но в основном лишь в верхней, наиболее пропорциональной и гармоничной части лица. В нижней части, при плотно сомкнутых губах, прослеживалось скорее нечто египетское: таинственность, непреклонность, монументальная невозмутимость – своего рода сдержанная беспощадность.
В спокойном состоянии Оскар Уайльд излучал силу; это впечатление дополнялось нескрываемой уверенностью в себе, что, в свою очередь, придавало ему несколько надменный вид, однако и внутренние качества его естества не оставались незамеченными: чувственность, любвеобильность, лёгкость и непринуждённость, готовые сию же минуту проявиться в действии.
С прямой и величественной осанкой, унаследованной от его матери леди Уайльд, Оскар Уайльд подавался к собеседнику и осыпал его остротами, язвительными замечаниями и афоризмами. Произведя должное впечатление, Уайльд откидывал голову назад, словно говоря: «И что же Вы на это можете возразить?» В остальном одно его молчаливое присутствие в гостиной наполняло её целиком, а если тому сопутствовала ещё и речь, то, не повышая тона, Оскар Уайльд совершенно естественным образом занимал ведущее место в любой происходящей вокруг дискуссии.
Он покорял окружающих своим голосом, блистательно владея всеми возможными оттенками интонации: иногда его речь была торопливой, оживлённой и задорной, чаще – размеренной, даже чересчур выразительной, а порой и откровенно томной. Произношение у него было мягким, округлым, слегка гортанным, и это будто придавало словам больше выразительности. Говорил он нарочито отчётливо, вдумчиво, как по книге. Он преувеличенно чётко выговаривал сдвоенные согласные в таких словах, как adding и yellow, что нечасто встречается в Англии; гласные он задумчиво растягивал, словно любуясь ими. В целом, содержание собственных высказываний приводило Оскара Уайльда в восторг, но и звучанием, устным выражением своих мыслей он наслаждался не меньше.
Кроме того, Оскару Уайльду было свойственно разговаривать, если так можно выразиться, всем телом: игривость плеча и предплечья сменялась чарующей плавностью движений локтя и руки, а кисть между тем изгибалась с выразительной, лебединой элегантностью – именно этой особенностью Оскар Уайльд наделил героя «Дориана Грея» лорда Генри.