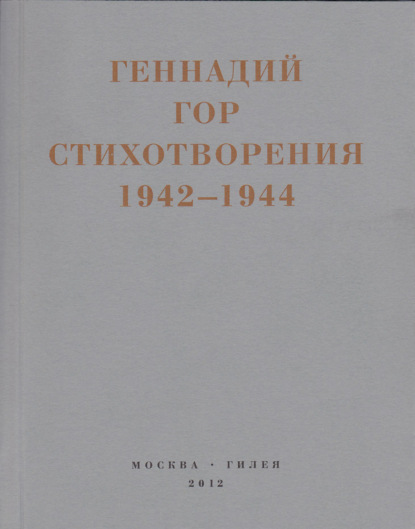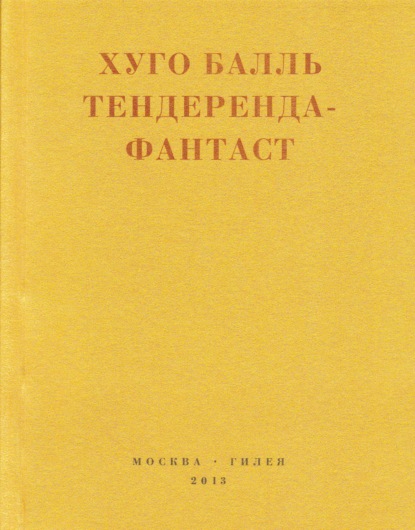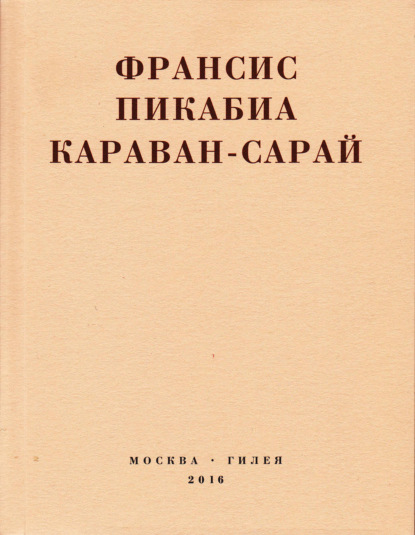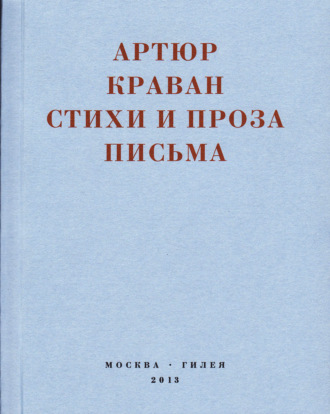
Полная версия
«Я мечтал быть таким большим, чтобы из меня одного можно было образовать республику…» Стихи и проза, письма

Артюр Краван
«Я мечтал быть таким большим, чтобы из меня одного можно было образовать республику…»
Стихи и проза, письма
Благодарим парижскую галерею «1900–2000» и лично Марселя Флейсса и Родику Сиблейрас за предоставление иллюстраций для издания

Артюр Краван. Нью-Йорк, 1917
Предисловие
Позвольте, – говорили мне все вокруг, – Вы что, о нём не слыхали? Неужели Вы до сих пор не знакомы с этим боксёром, который пишет стихи?»[1]
Действительно, жить в десятых годах XX века в Нью-Йорке (как, впрочем, и в Париже, Барселоне, Мехико и т. д.) и ни разу не слышать об Артюре Краване было, пожалуй, невозможно: этот человек олицетворял провокацию и эпатаж. Кравана ругали и хвалили, его считали прохвостом и гением, его сажали за решётку и обожествляли, над ним смеялись и его уважали. Одно известно точно: он мало кого оставил равнодушным. Андре Жид, Марсель Дюшан, Франсис Пикабиа, Гийом Аполлинер, Андре Бретон, Робер Делоне, Альфред Стиглиц, Тристан Тцара, Мина Лой, Блез Сандрар (всех перечислить вряд ли удастся) – эти имена причудливо переплелись в его короткой, но экстравагантной жизни, которая до сих пор остаётся загадкой.
Артюр Краван родился в 1887 году в Швейцарии, став вторым сыном в зажиточном семействе английских подданных. Отец его, Отто Холланд Ллойд, приходился шурином Оскару Уайльду, и этим родством вся семья несказанно гордилась. Вскоре, однако, родители развелись, и мать, Нелли Синклер, вышла замуж за швейцарского врача Анри Гранжана, обеспечив своим сыновьям безбедное детство в Лозанне. Надо сказать, что в ту пору Кравана звали Фабианом Авенариусом Ллойдом, но уже тогда он начал примерять на себя путь мятежника и нонконформиста. Впрочем, окружающие считали его всего лишь несносным ребёнком, всячески пытаясь воспитать из него приличного человека: «…его выгоняли отовсюду: из школы, из лицея, а затем и с работы»[2]. Вырвавшись из-под опеки родителей и учебных учреждений, Краван пускается во все тяжкие, разъезжая по свету.
Так, в 1903 году он, по слухам, собирает апельсины в Калифорнии, а в 1904 году приезжает в Германию и, как утверждает Жюльен Леви, не остаётся там незамеченным:
«Он однажды работал в Берлине на сахарном заводе, опрокинул в канаву автомобиль, в котором вёз своего начальника, а затем пешком отправился восвояси, указав всё тому же начальнику на машину: “Сами как-нибудь поставьте её на колёса!” Он частенько прогуливался по Берлину с четырьмя проститутками, висевшими у него на плечах. Когда же полицейские приказали ему покинуть город, он спросил, на каких основаниях должен починиться. Ему ответили, что никакой конкретной вины ему вменить не могут, кроме того, что “Sie sind zu auffalend” – “Вы привлекаете слишком много внимания”»[3].
После Берлина следует череда поездок: Англия, где он устраивается работать истопником на грузовом судне, Австралия, где он рубит лес, снова Германия, затем Италия… Все свои «должности» (наполовину реальные, а наполовину выдуманные) он тщательно коллекционирует, чтобы впредь дополнять этим послужным списком, напоминающим не то легенду циркового артиста, не то биографию маститого академика, свой звучный псевдоним: «Артюр Краван, рыцарь промышленности, тихоокеанский матрос, погонщик мулов, заклинатель змей, гостиничный вор, племянник Оскара Уайльда, дровосек в исполинских лесах и т. д. и т. п.». К слову, эту фамилию он взял в честь французской деревушки Краван, откуда была родом его первая жена Рене Буше, а имя Артюр он выбрал, как утверждают исследователи, отдавая дань уважения Рембо.
Наконец, в 1909 году он приезжает в Париж. Там выходит в газете его первая статья “To be or not to be… American”, которую он всё ещё подписывает своим настоящим именем, но постепенно Фабиан Авенариус Ллойд превращается в того самого Артюра Кравана, которого Андре Бретон впоследствии назовёт «сюрреалистом в душе». Он занимается боксом и участвует в боксёрских соревнованиях, проходящих в Париже и в других городах Франции, – судя по газетным хроникам, с переменным успехом. Сухие, но весьма благосклонные отзывы в прессе о боях Кравана перемежаются с заметками подобного рода:
«Вам знакомы эти простенькие марионетки, управляемые при помощи затейливой конструкции из ниток, за которые непрерывно дёргают, пытаясь создать иллюзию жизни? Господа Рико и Ллойд производят на меня абсолютно такое же впечатление. Иногда они даже замирают в воинственных и весьма неприглядных позах и в течение долгих секунд продолжают лишь медленно сопеть, точно кашалоты»[4].
Однако в 1910 году он всё же получает звание чемпиона Франции в любительском боксе. Он находит жильё по соседству с ателье Кееса Ван Донгена и знакомится со многими художниками и литераторами, регулярно посещает вечеринки и балы и всячески пытается привлечь к себе внимание парижского общества, откровенно заявляя о своём тщеславии, ибо «каждый великий художник наделён даром провокации». В Париже в те годы нередко можно было увидеть афиши, гласящие, что «поэт Артюр Краван (племянник Оскара Уайльда), чемпион по боксу весом 125 кг и ростом 2 м и суровый критик будет рассказывать, боксировать и танцевать»[5]. Ни одно из таких публичных выступлений не проходит без скандала, Краван или не является вовсе, или приходит в нетрезвом виде, начинает раздеваться прямо на сцене и осыпает зрителей оскорблениями. Вот, например, как описывает появление Кравана на публике журналист одной газеты:
«Прежде чем начать говорить, он несколько раз выстрелил в воздух из пистолета, а затем стал то ли в шутку, то ли всерьёз рассказывать уму непостижимые нелепости об искусстве и о жизни. Он хвалил спортсменов, во всех отношениях превосходящих художников, а также превозносил гомосексуалистов, грабителей Лувра, сумасшедших и т. д. Он читал стоя, покачиваясь и время от времени бросая в зал крепкие ругательства. Зал, казалось, благосклонно принимал сие несуразное выступление. Однако всё чуть было не испортилось, когда этому Артюру Кравану взбрело в голову со всей силы запустить в первый ряд зрителей папкой для рисунков, которая лишь по случайности никого не задела»[6].
Однажды он даже решает сказаться мёртвым, чтобы его творчество, наконец, оценили по достоинству («тогда создадут какую-нибудь комиссию для посмертной публикации моих работ»[7]), и, недолго думая, объявляет о запланированном самоубийстве на одном из своих выступлений, но, конечно же, обещания этого не сдерживает.
Кроме того, с 1912 по 1915 год он издаёт собственный журнал «Сейчас» и сам же продаёт его с тележки на улицах города. Там под разными рубриками и псевдонимами появляются его стихи, рассказы, размышления и критика. Именно так называемая критика и принесла журналу скандальную известность: четвёртый номер Краван составляет в виде разбора творчества, а точнее, в виде дерзких, упоительно грубых и комичных комментариев к работам художников, участвующих в парижском Салоне Независимых. Отпечатав журнал в достаточном количестве, поэт-боксёр отправляется продавать его прямо к дверям салона, полагая, что сами же художники «купят <…> журнал лишь для того, чтобы увидеть свои имена в печати». Желаемого результата («позлить моих собратьев, чтобы добиться известности и заставить мир заговорить обо мне») он достигает, судя по воспоминаниям Габриэль Бюффе-Пикабиа, достаточно быстро:
«Все посетители спешили купить журнал и сразу же начинали его читать, прыская со смеху. Но некоторые, самые возмущённые, задумали устроить ему <Кравану> взбучку. Стоит признать, что выглядели они, мягко выражаясь, некрасиво. Решив, что сила в большинстве, они собрались в группу из десяти-двенадцати человек и напали на него при выходе. Всё это завершилось в полицейском участке и не в пользу Кравана. Аполлинер, обожающий дуэли, а точнее, само действо, не мог упустить такой замечательной возможности и направил понятых к оскорбителю Мари Лорансен[8]»[9].
Дабы загладить инцидент, Краван охотно выпускает «Новое дополненное издание» с исправлениями, в которых, тем не менее, не прослеживается ни толики раскаяния. Призвав читателей прислать ему деньги и подарки, а также анонсировав шестой номер «Сейчас», он бросает журнал, свою жену Рене Буше и опостылевший ему Париж и снова отправляется в путь. Первая мировая война застаёт его на Балканах (впрочем, версии о его местонахождении в это время расходятся), но Краван неутомимо продолжает переезжать из одной страны в другую. Он систематично меняет паспорта и, кажется, не имеет никакого стабильного заработка. Его знакомые и друзья теряются в догадках: одни говорят, что Краван во Франции, другие утверждают, что он где-то в центральной Европе, а среди документов вдруг находится афиша афинского театра, в которой объявляется о первом в истории Греции бое между «канадским чемпионом Артюром Краваном и призёром олимпийских игр, боксёром Георгием Калафатисом» – в общем, Краван бежит от мобилизации. Он категорически против войны:
«Ваша война <…> будет последней, если она только когда- нибудь закончится. А закончится она намного раньше, чем все предполагают. Появилось уже достаточно много оголодавших людей. Только вот не стоит особенно рассчитывать на то, что всё вернётся на круги своя. Эта война оставит после себя полную разруху. Весь мир, к примеру, ждёт крах, и – запомни мои слова – крах этот продлится не мгновение и даже не десять лет, а возможно, целых двадцать»[10].
В 1916 году он оказывается в Барселоне и даже остаётся там на некоторое время: общается с семейством Пикабиа, даёт уроки бокса и выходит на ринг с чемпионом мира Джеком Джонсоном. Однако вскоре военная смута начинает ощущаться и в Испании, и Краван – виртуозный дезертир – немедленно уезжает в Америку:
«Меня не заставишь маршировать! Я не марширую для их современного искусства. Я не марширую для их Великой войны!»[11] – объявляет он.
В Нью-Йорке он продолжает пускать всем пыль в глаза:
«Казалось, он жил жизнью настолько праздной, что все с полным на то основанием считали его богачом. Он часто рассказывал о своей вилле с верандой (которая в конечном счёте оказалась будкой на крыше Пенсильванского вокзала)»[12].
За неимением жилья Краван ночует у проституток, но действуя по тому же сценарию, что и в Париже, он достаточно быстро осваивается в кругах нью-йоркской богемы:
«Он добился немалого успеха на ужине, устроенном в его честь в клубе Н…, спросив у присутствующих: “Почему это вы, американцы, столь невыносимо грубы?” И все тут же ринулись наперебой приглашать его в гости…»[13]
Краван в мгновение ока становится завсегдатаем галерей и разнообразных художественных мероприятий и продолжает с нескрываемым ликованием ловить на себе удивлённые взгляды. Так, на очередном бале-маскараде он появляется в одной простыне, накинутой на голое тело, и, оказавшись в центре внимания, пытается снять свой «костюм».
Он активно общается со Стиглицем, Пикабиа, Дюшаном, Аренсбергом. Последний, кстати говоря, часто выручает Кравана из бесконечных переделок и оказывает ему материальную поддержку. На нью-йоркской выставке Независимых Кравану предлагают прочитать лекцию о современном искусстве, а на следующий день газета “The Sun”[14] выходит со вполне ожидаемым заголовком: «Сенсация у “Независимых”: Артюр Краван, поэт и боксёр, шокирует даже жителей Гринвич Виллидж[15]». В разгар своих нью-йоркских эпатажных похождений Краван знакомится с английской поэтессой Миной Лой и чуть ли не сразу после знакомства делает ей недвусмысленное предложение: «Ты непременно должна пойти жить со мной в такси, – бросил он, – мы могли бы завести кошку»[16]. Важнейший, если верить критериям литературоведов, представитель авангардного направления в поэзии Мина Лой вспоминает слова Кравана: «При первом же удобном случае <…> он <Грин>[17] прижал меня к стенке и принялся горячо поздравлять меня <…> с тем, что мне несказанно повезло жить с величайшей поэтессой, которую только носила земля… Естественно, дорогая, – прибавил Колосс с нежностью в голосе, – я не стал ему говорить, что для меня твои стихи – это какашки»[18]. Их роман стремительно закручивается, но Краван, хоть он и влюблён, всё равно боится оставаться в Нью-Йорке, где уже вовсю идёт призывная кампания. Сначала он колесит по Америке, а затем отправляется вместе со своим другом художником Артуром Фростом в Канаду, надев для отвода глаз солдатскую униформу. Об этом походе с иронией вспоминает Франсис Пикабиа в книге «Иисус Христос Авантюрист»:
«Артюр Краван переоделся в солдата, чтобы не быть солдатом, он поступил так, как поступают все мои друзья, которые претворяются честными людьми, чтобы честными людьми-то и не быть»[19].
Таким образом он добирается до Ньюфаундленда, где устраивается работать матросом на датском рыболовном судне, а ещё спустя некоторое время он оказывается в Мексике. Едва освоившись в этой стране, он в очередной раз пытается заставить мир заговорить об Артюре Краване, и, кажется, ему это в очередной раз удаётся. Его мексиканский период очень удачно суммирует тот же Пикабиа в журнале «391»:
«Краван, преподаватель физической культуры в атлетической академии Мехико, собирается в ближайшее время выступить там с лекцией о египетском искусстве»[20]. Всё это время он пишет любовные письма Мине Лой. В 1918 году поэтесса приезжает, наконец, к Кравану, и они женятся. Вместе они путешествуют по Мексике, Бразилии и Перу. Мина Лой ждёт от него ребёнка, и они собираются уехать в Буэнос-Айрес, как вдруг Краван исчезает при невыясненных обстоятельствах. Мина Лой разыскивает его, но в итоге, потеряв всякую надежду, возвращается в Англию, где появляется на свет его дочь Фабьен.
Меж тем по Европе молниеносно распространяются слухи о смерти Кравана, в которую, по сути, никто не верит. Кораблекрушение, мафиозная авантюра, побег от полиции с перестрелкой, драка в баре – с каждым днём появляются всё новые и новые версии, имя Кравана обрастает легендами. Дадаисты пишут ему эпитафии и посвящают ему колонки в своих изданиях[21], и вскоре бунтарь-Краван, который всегда говорил, что «окультуриваться» не собирается, становится мессией авангарда. Взять, к примеру, хотя бы оду Кравану владельца нью-йоркской галереи Жюльена Леви:
«И вновь этой летней ночью в ателье Ива <Танги>, где мы говорили о тебе, ты в который раз, порхая, влетел через окно. Чтобы тебя сохранить, мы закрыли тебя в банке из-под варенья. Жан Кокто считал тебя гением, он возвёл тебя в рыцари своего Круглого стола. Марсель Дюшан думал, что ты один из Марселей Дюшанов»[22].
А сама жизнь Кравана постепенно превращается в точку отсчёта дада.
Игра в жизнь«Его жизнь, в той мере, в коей она участвовала в организации человечества, была жизнью призрака, появляющегося лишь в пред назначенный для него час», – пишет Мина Лой[23]. Знакомые Кравана утверждают, что в быту он вёл себя скромно, почти неприметно, и лишь оказавшись перед публикой, он превращался в хулигана и скандалиста. В итоге большинство окружающих видели в Краване дикаря – амплуа, которым он гордился и которое всеми силами старался поддерживать. Он говорил, что «всегда старался видеть в искусстве средство, а не цель», и потому не упускал случая рассказать о своих подвигах в письменном виде: автобиографичность его текстов имеет мало общего с классическим переплетением авторского «я» и персонажа. Для Кравана любая деталь из личной биографии – возможность громко заявить обществу о себе, своего рода хвастовство, переходящее в эпатаж. Краван – поэт, и первый номер «Сейчас» начинается стихотворением, где герой лирический предстаёт героем нового времени: путешественником, авантюристом, богачом, окружённым техническими новшествами и при том не теряющим связи с природой – это ли не любимая роль самого Кравана? Да, Краван – поэт, но не литератор: он презирает прозу, не признаёт академизм и, выбрав мишенью почитаемого и авторитетного писателя Андре Жида, он блистательно высмеивает литературное ремесло и понятие высокой литературы как таковое. Краван – племянник Оскара Уайльда, и в трёх номерах журнала опубликованы заметки о знаменитом дяде, ведь как не подчеркнуть унаследованную гениальность? Краван – боксёр, чемпион, силач, не чета изнеженным денди из высшего света. Он дерётся с чемпионом мира по боксу Джеком Джонсоном. Точнее, он проворачивает очередную аферу, договорившись с противником об исходе поединка, и, получив аванс, сбегает из страны. Любопытно, что похожий сценарий Краван описывает в пятом выпуске журнала в 1915 году, а поединок с Джонсоном происходит на год позже. И таких «биографических анахронизмов» в произведениях Кравана немало: он с увлечением рассказывает о том, как его дядя приходил к нему в гости в 1913 году, в то время как смерть Оскара Уайльда в 1900 году была общеизвестным фактом; в 1912 году он пишет о путешествии на поезде, мчащемся вглубь канадских лесов, а сам оказывается в Канаде лишь в 1917 году. Что это: дар пророчества, совпадение, сбывшиеся мечты или упорный путь к осуществлению задуманного? Исследователи спорят и по сей день, в каждом тексте пытаясь отделить вымысел от действительности, Артюра Кравана от Фабиана Авенариуса Ллойда, игру в жизнь от самой жизни.
Игра в антилитературуНадо признаться, что искать правдоподобное отражение реальности в произведениях Кравана – задача не из лёгких. Краван бежит от литературы, он отдаёт «несравнимо большее предпочтение <…> боксу, чем литературе», но пишет. Пишет, по собственному выражению, «вещи»:
«Наконец, наконец, наконец-то я работаю с большей уверенностью в себе. Как раз уверенности мне и не хватает; если бы я мог предвидеть собственный успех, я бы трудился не покладая рук; и всё же я могу ошибаться; ведь каждый человек упорно верит, что у него есть поэтическая жилка. Но бывают и дни, когда я прямо-таки мастерски выкручиваюсь»[24].
В отрицании литературных традиций поэт-боксёр постоянно экспериментирует с формами, содержанием и стилистикой. Он смещает контексты, расщепляет семантику и звучание, сталкивает возвышенную лексику и жаргон, ставит в один ряд причудливые эвфемизмы для весьма безобидных понятий и непечатные выражения. Он не пренебрегает ничем, чтобы добиться комизма и максимально шокировать читателей. К примеру, «Неизданные материалы об Оскаре Уайльде», позиционируемые как словесный портрет Уайльда, вполне могли бы сойти за скрупулёзно составленную документальную работу, если бы не навязчивое ощущение, что текст похож на характеристику скорее породы собак или лошадей, а не великого поэта и драматурга. Краван подробнейшим образом обрисовывает ноздри, надбровные дуги, форму губ своего дяди (которого он, кстати, ни разу не видел), используя при этом вычурные, высокопарные словосочетания и за счёт контраста формы и содержания доводя документальность до абсурда. А описание в рассказе «Оскар Уайльд жив!», щедро приправленное такими восторженными эпитетами, как «божественный», «красивый», «загадочный», «музыкальный», заканчивается сравнением Уайльда с гиппопотамом, который «под мелодичное жужжание мух возводит горы экскрементов». Аналогичный эффект достигается в пятом номере «Сейчас», например, при помощи оксюморона «трогательные, повсеместные ароматы пуков» или лирично-неуместного сочетания: «дерьмо заиграет свечением».
Вообще тема физиологических процессов – важный элемент в текстах Кравана, и использует он её, если так можно выразиться, со вкусом. Для него разговор о запретном – это не просто хулиганская попытка нарушить табу или довести благовоспитанных буржуа до обморочного состояния, это в первую очередь необходимость принимать человека во всех его проявлениях, ведь по его словам, только «болваны видят красоту лишь в красивых вещах». Краван же ищет красоту во всем, без исключений и без купюр. Такой истый гуманизм, возводящий телесность в культ, пришёлся по нраву дадаистам, которым претило аморфное, бутафорское эстетство академического искусства.
Однако любовь к людям у Кравана отнюдь не синонимична любви к социуму. Настоящий человек должен быть животным, дикарём, далёким от общепринятых норм и фальшивого общества в целом:
«Он и слышать не хотел о цивилизации. Слово “прогресс” заставляло его давиться со смеху. Единственным видом героизма, который он признавал, был героизм нравственный, то есть в его понимании героизм человека, не боящегося прослыть трусом», – рассказывает Мина Лой[25].
Он не только без страха, но даже с вызовом признаётся в своих «пороках»: лень, эгоизм, жадность, тщеславие, желание жить за чужой счёт, пошлость – всё в пику общественной морали:
«Благодаря своей неувядающей способности избавляться от скуки он был далёк от предрассудков и не имел ни малейшего понятия о шкале ценностей»[26].
Он кичится своим пренебрежением к приличиям и утверждает, что именно таким должен быть человек двадцатого столетия. Комментируя творчество Робера Делоне, Краван пишет: «Рожа у него что надо: физиономия настолько вызывающе вульгарная, что кажется, будто смотришь на пунцовую отрыжку», – и это искренний комплимент. Слова «рожа», «морда», «зверь» и тому подобные для Кравана вовсе не оскорбление, а восхищение природными достоинствами, самим естеством, которое мир так называемых «интеллектуальных» людей нещадно губит:
«Для него человечество дышало всеми теми проникающими элементами, которые заменяли воздух, эфир. Глупость без границ, спонтанная, непроходимая глупость была для него вечным победителем над нашей иллюзорной интеллектуальностью»[27].
Быть дикарём, зверем (а также ослом, гипоппотамом, жирафом, тапиром и т. д.) значит быть гением, уникумом. Он неоднократно повторяет подобные «звериные» метафоры в самых разнообразных контекстах, постепенно вытесняя негативную коннотацию, и в результате эта лексика приобретает новую стилистическую окраску.
В сущности, своих читателей Краван считает «людьми с воображением», и поэтому от души нашпиговывает произведения окказионализмами, каламбурами, парономазиями, гротесками, алогизмами, несочетаемыми лексическими и стилистическими сплавами, нарушая все каноны, устанавливая собственные правила игры, создавая «круг посвящённых» в антилитературную семиотику. Именно главный сюрреалист Андре Бретон был тем, кто восторженно охарактеризовал творчество Кравана как «антилитературное», считая его новым словом в искусстве. А например писатель и поэт Андре Сальмон, который в общем-то был невысокого мнения о Краване, полагал, что ничем, кроме ненависти к литературе позицию Кравана объяснить нельзя:
«Артюр Краван верит в жизнь современную, бурлящую, жестокую! Этот циник – наивный человек и притом интересный поэт, которого “высокая литература” толкает на откровенную ненависть к литературе»[28].
Его работы нельзя объединить стилистически. Краван говорит, что тело человека «населяют тысячи душ», и своим множественным душам он даёт возможность высказаться: цинизм и романтика, грубость и нежность, абсурд и предельная чёткость, оригинальность и банальность – все противоречия гармонично уживаются в одном текстовом организме, и из разнородных страниц, опубликованных под несколькими псевдонимами, рождается «дитя современности». Интересно, что самые дерзкие, шокирующие и нестандартные тексты выходят в журнале «Сейчас» под подписью Артюра Кравана, а более классические (но оттого не менее гротескные) произведения напечатаны под другими вымышленными именами. Кроме того, Краван выводит симулякр на новый уровень, и псевдоним Эдуар Аршинар, впервые появляющийся во втором выпуске журнала, уже в четвёртом выпуске становится личностью, которая вместе с самим Краваном комментирует художественную выставку: «Как сказал бы один мой друг Эдуар Аршинар…»
Стихи Кравана пропитаны авангардными экспериментами: нарочитая сбивчивость ритма, ассоциативные цепочки, поток сознания, сюрреалистичные образы, примитивизм, смешение поэтических и прозаических элементов. То это шуточные, по-детски неровные строфы с простыми, небрежными рифмами – наподобие тех, что появятся потом у Тристана Тцара в «Песенке дадаиста», то глубокие, сложные, мозаичные образы, сплетающиеся, точно сны, из контрастных деталей. Единственное, что отличает все его работы – это лёгкость и естественность. Ведь литература (то есть антилитература) для поэта-боксёра не труд, а игра.
Антилитература или новое искусство?Краван презирает литературу, ненавидит буржуазное общество, отрицает моральные устои, смеётся над интеллектом – эта протестная «идеология» подготовила плодородную почву для дадаистов, предоставила им обширный материал для опытов и вариаций. Но из всего кравановского наследия самым значимым для развития авангарда стал, наверное, выход за рамки одного жанра, приведение нескольких видов деятельности к одному знаменателю. Свой междисциплинарный поход Краван начал с малого: он соединил прозу с поэзией, поэзию с боксом, а литературу с жизнью.
Например небольшой рассказ «Оскар Уайльд жив!», опубликованный в третьем номере «Сейчас», порождает бесконечные споры и буквально сходит со страниц журнала в реальность. Разумеется, не без участия Кравана. Выдумка превращается в факт, обрастает слухами, и вот уже специальный корреспондент «Нью-Йорк Таймс» проводит журналистское расследование в Париже, пытаясь узнать, умер Оскар Уайльд на самом деле или нет. Краван потирает руки: его произведение оживает, становится самосовершенствующимся предметом искусства, а ему лишь остаётся подливать масла в огонь, то заключая пари на баснословные деньги, то требуя от парижской мэрии эксгумации тела.