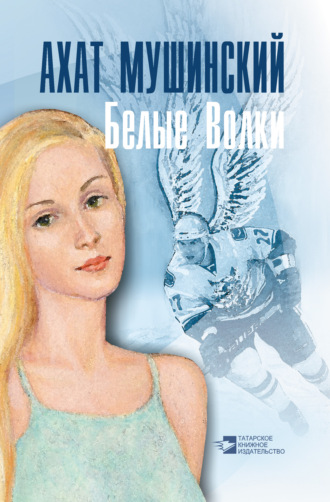
Полная версия
Белые Волки
Тут вставил своё слово Каша:
– А хоккей – это реализм?
– Нет, хоккей – чистой воды абстракция. То есть искусство высшего порядка. Вот, если говорят, архитектура – застывшая музыка, то хоккей, как и футбол, баскетбол, регби, – это визуальная музыка. В движении.
– Здорово! – Это Буля. Он взял омелевший графин, оценил ватерлинию и пошёл к себе в комнату за добавкой.
Я спросил Версту:
– Как же это ты так вылетел из-за автобуса? Не похоже, что просто споткнулся.
– Толкнули.
– Кто?
– Да-а… – махнул он рукой. И в свою очередь спросил: – А баба-то у него где? Вроде, фотографии вот её с сыночком вижу, кивнул он на книжный шкаф, за стеклом которого теснились среди прочих несколько семейных фотографий.
– Развелись они, – ответил я.
Появился Буля с восстановленным в статусе графинчиком.
Спать легли уже не поздно ночью, а рано утром. Верста ещё курил свои вонючие сигареты в лоджии, затем долго-долго кашлял за стеной, в специальной комнате для гостей, которые здесь, у Були не переводились.
26. Лучше дворняжку приюти
Утром было воскресенье. Впрочем, какое это имеет значение? У Були с Кашей-вятичем отпуск, я вообще никогда и ни на какой службе не состоял. Бомжарик наш – тем более.
Спали по разным углам квартиры. Я в детской комнате, Каша в спальной, Буля у себя в кабинете, Верста… Про него говорил.
Я проснулся позже всех. Все надо мной, соней, смеются. Все давно уже слоняются по квартире туда-сюда, занятые каждый своим делом. Один с помазком и безопаской в руках, другой с книгой, третий со сковородкой.
Наконец Буля приглашает на завтрак. Не буду описывать, что было на столе «залы» – большой комнаты квартиры (кулинарные способности моего друга – отдельная тема разговора), скажу лишь, что не было спиртного.
Откровенно говоря, я думал, что Верста попросит себе что-нибудь на лёгкую опохмелку. Нет, ошибся. Он вошёл в комнату последним, свежий, гладко выбритый, благоухающий дорогим, хозяйским одеколоном, с раскрытым томиком в руке, лишь перевязанный лоб напоминал о вчерашнем и о том, кто он такой есть на самом деле.
– Смотрите, как сказано! – воскликнул он и процитировал, оторвав взгляд от книги и устремив его куда-то под раму оконную:
Не умирай! Сопротивляйся, ползай!Существовать не интересно с пользой.Буле это – мёд на душу.
– Что это? – поинтересовался я.
– Поэмка с неказистым названием «Муха». Представляете себе, человек смотрит на медленно ползущую, чудом дожившую до апреля муху, и поднимает гамлетовские проблемы! Сравнивает её с собой… Но главное – «существовать неинтересно с пользой!» – каково, а!
Довольный прочитанным, Верста сложился на тонконогом стуле, опустил, не закрывая, страницами на скатерть, книгу, с удовольствием выпил, по предварительному совету Були, стаканчик кефира натощак, и вилку с ножом брать в руки не торопился.
Каша напомнил дядьке свою просьбу. Ему, оказывается, слетать куда-то надо было, а если точнее, свозить Елену на другой конец города. (Свою машину продал, новую ещё не приобрёл.) Буля сказал, чтобы на обратном пути заехали, Борису перевязку надо сделать. Куда деваться, Каша согласился, если, конечно, Лена не будет против, мало ли какие планы у неё в голове!
– Не будет, – улыбнулся Буля. – Разве такому богатырю вятскому, как ты, можно в чём-то отказать?
После отлёта центрального нападающего мой друг выдал, наконец, идею, которую я с опасением прогнозировал. Он предложил Версте пожить у него, пока тот не поправится и не определится с постоянным жильём. Буле невдомёк было, что Верста ни в чём постоянном не нуждался, и что царапина на его лбу была не смертельной.
Опытный бомж принял предложение спокойно, как что-то заслуженное и само собою разумеющееся, не торопясь с ответом, не спеша с благодарностями. Ему не впервой такое, сам же рассказывал. Потом, улучив момент, я сказал Буле: и одной-то царской ночёвки тут за глаза ему, лучше дворняжку с улицы приюти.
Так уж просто сказал, знал, что бесполезно. Но пусть чует мои тревоги. И если я за столом помалкивал, то из-за чистой деликатности к какому-никакому, но кунаку, то есть гостю.
Часа через два вернулся Каша с прекрасной Еленой. Оба сияющие, красивые, как само счастье на блюдечке. Что ты! Какое-то время ведь вместе провели и заодно съездили к какой-то там её заказчице! Наверное, так и должно быть, когда между мужчиной и женщиной завязывается что-то большое и настоящее.
27. Денди лондонский
Елена наложила новую повязку на лоб Гомера и спросила:
– У вас медицинский полис есть?
– Зачем он?
– На всякий случай, мало ли…
– Откуда у него? – рассмеялся Каша.
– А паспорт? – спросил Буля.
– И паспорта нет, – тяжело вздохнул Верста. – Украли.
– Дела-а… – Филантроп на мгновение задумался, но лишь на одно мгновение. – Ничего, была бы голова на плечах. Остальное восстановим.
После медпроцедуры пили чай – второй завтрак таким образом затеяли. Чаи гоняли с пряниками и не сводили с Елены глаз. В то утро она была особенно прекрасна. Борис Верста, не на шутку вдохновлённый неотразимой красотой гостьи, произносил поэтические комплименты, Буля по возможности не отставал… Красавице всеобщее внимание нравилось. Оно ещё больше по душе было Каше, который безвозвратно потонул в её невозмутимых, карих водоёмах, лишь изредка волнуемых каким-то нездешним ветерком.
На славу почаёвничав, Буля продолжил свои чудачества. Он позвал нас прокатиться по магазинам.
– Зачем? – подозрительно спросил я.
– Хочу с вами, художниками, кое о чём посоветоваться.
Верста накрыл пустую чашку блюдечком и засобирался.
– Где моя сумка? – спросил он, натягивая свой кургузый пиджачок и поправляя античных времён галстук на затрёпанной, когда-то жёлтой рубахе, с загнутыми, как осенние листья, концами воротничка.
– Какая сумка? – спросил Буля.
– Моя, какая!.. – возмущённо произнёс Верста. – Полная такая.
– Полная чего?
– Всего!..
– Я её выкинул.
Немая сцена.
– Куда?
– Это имеет значение?
– Конечно.
– В мусоропровод.
– И ты имел право?
– Что я, битые бутылки не имею права выкинуть?
– Я тебе не про бутылки говорю, а про сумку, в которой они были.
– Так я вместе и выкинул.
– О-хо-хо, – тяжело вздохнул Верста. Для него это, видать, была большая потеря.
Из подъезда он вышел первым. За ним все мы, остальные, виноватые.
– Да я тебе новую куплю, – успокаивал своего нового друга Буля.
– Не в том дело, – бурчал в ответ Верста.
– Да мы давно знали о содержимом котомки этой, – попытался я скрасить положение. – Ещё вчера звенела-гремела на всю ивановскую…
Борис на это ничего не ответил, сломал аккуратно сигарету (сигареты курил он без фильтра), сунул половинку в рот, другую спрятал. Экономный. Пока Буля выгонял свой серебристый джип из гаража, он сходил к тележке с мусором, выставленной у подъезда для разгрузки, заглянул, не обнаружил пропажи и, бросив туда окурок, вернулся к нам.
Подъехал Буля. Вылез из-за руля.
– Всё-таки бампер помяли, – заметил я. – Днём вот видно.
– Есть немного, – ответил он без тени расстройства. – Ну что, поехали?
В дороге он спросил Версту:
– У тебя ещё какие свои шмотки имеются?
– Имеются, – не сразу отозвался обиженный поэт.
– Где они?
– В надёжном месте.
В супермаркете прямиком прошли в отдел кожгалантереи и принялись сообща выбирать для Версты новую сумку. Сам он в этом сначала не участвовал, оскорблённо бойкотировал Булин почин, затем бочком-бочком приблизился к прилавку, стал подавать голос, критиковать сумку за сумкой: в этой то не нравится, в той это… Постепенно сумочки стали задерживаться в его руках, и вот, наконец, одна задержалась бесповоротно. Она и на плече хорошо висела, и в руке удобно держалась, и вместительной была, и с многочисленными кармашками по бокам, а тканью, чёрная, прорезиненная, как засаленная, отдалённо и пропавшую напоминала.
Потопали дальше. На плече поэта новая сумка. Поэт то и дело бросает оценочный взгляд на неё. Зашли в отдел с костюмами, пиджаками, брюками… Верста подошёл к зеркалу, вертикальному, в полный рост, и внимательно оглядел себя с новой тарой для посуды.
– Красивая сумка, – сказала Елена.
– Немножко не подходит к одежде, – заметил Буля.
– Да, не гармонирует, – согласился Каша.
Буля сунул руку в строй пиджаков, снял с плечиков коричневый, в ёлочку, приложил к груди:
– Ну как?
– Самое то! – ответила Елена.
Буля взял под локоть Версту:
– Померь-ка.
– С какой стати? – засопротивлялся бомж. – У меня и свой нормальный.
– Нормальный-то нормальный, но он маловат тебе. Скажи, Лена, ты же художник.
Она говорит. Каша подтверждает. Ясно: сговорились.
Начинается примерка. Бомж снова показывает характер. Привередничает.
– Рукава коротки, цвет не тот…
Кое-как, уже с моим участием, подобрали ему другой пиджак, пепельно-серый, в чёрную крапинку. По тону он как нельзя лучше соответствовал его пегой шевелюре. Но не мятым, пузырящимся на коленях штанам.
Дальше совершенно логично последовал выбор и нудная примерка брюк.
Из супермаркета Боря Верста вышел, словами классика, как денди лондонский одет. Правда, чёрные брюки были ему чуть длинноваты, а серый в крапинку пиджак всё равно в рукавах коротковат. Всё-таки нестандартные у Версты оказались длани. Такими бы руками не стихи кропать, а уголь на-гора выдавать. Но всё равно – с нами теперь уже топал не показательный бомж.
Через плечо у денди модерновая сумочка, на ногах – агатовые, поблёскивающие новизной штиблеты. Довершали портрет интеллектуала светло-серая сорочка и модный, тёмно-синий галстук (выбор Елены), оттенявший его по-есенински голубые глаза, только не распахнутые, а прищуренные.
Путь мы взяли в «Шалаш», уютный ресторанчик, что напротив супермаркета, через площадь.
Не успели там заказ заказать, а уж заверещал мобильник. Это Муха искал Булю. Он сообщил ему, что Лом со Сватом вызывают его с ним на завтра в Ледовый дворец.
– А меня? – спросил Каша.
– А тебя – нет, – ответил Буля.
28. О-хо-хо!
В форме головы животного более всего заметна выдвинутая вперёд пасть как орудие пожирания… К этому главному остальные присоединены лишь в качестве служебных и вспомогательных; это главным образом нос – для обнюхивания, нет ли где-нибудь пищи, а затем глаза, которые менее важны, – для её высматривания. Недвусмысленно подчёркнутое своеобразие этих органов, служащих исключительно естественной потребности и её удовлетворению, придаёт голове животного выражение голой целесообразности для выполнения природных функций…
Фридрих Гегель. «Лекции по эстетике»Утром к Ледовому дворцу Булатов и Мухин подкатили на своих машинах почти одновременно. В коридоре, у тренерской комнаты, навстречу попались защитники Хакимов со Штокманом и нападающий Юкка Маллинен, тоже неподписанты. Юкка куда-то спешил, а Хаки со Штоком угрюмо сообщили, что они больше не «волки». «Каким образом?» – остался расспрашивать Булатов, а Муха сказал, что пока пойдёт, и полетел дальше по курсу. Когда, поговорив с ребятами, Буля подошёл к дверям тренерской, Муха оттуда уже вылетал.
– Я теперь тоже больше не «волк», – промолвил он нервно и сказал, что контракт с ним продлевать не хотят, что он предупреждал, во что им выльется защита Афлисонова и открытое противостояние тренерскому штабу.
В тренерской восседали Сват и Серый. Они воочию вершили судьбами «волков». А Ломоть, значит, заочно. Главного тренера там не было. Этого и следовало ожидать.
Сват без обиняков сказал, что контракт с Булей у клуба истёк, большое спасибо за вклад в дело развития хоккея в республике и её столице, за бессменные годы в команде…
– Ясно, – прервал благодарственный поток Булатов. – Но я одного не пойму…
– Чего? – насторожился Сват. Всё-таки перед ним был не какой-то вчерашний юниор-пришелец, а воспитанник местного хоккея, ставший лидером «волков», любимый болельщиками и журналистами, почитаемый президентом клуба Буля, лучший бомбардир лиги, олимпийский чемпион Равиль Булатов, чёрт его побери! Да ещё капитан. Однако в сложившейся ситуации пасовать нельзя было, кто, в конце концов, руководит коллективом – директор, главный тренер или игрок? Вопрос принципиальный, и без хирургического вмешательства его не решить. Надо же, великовозрастный спортсмен на излёте своего контракта единолично срывает решение руководства клуба! Дурной пример заразителен. Ему сразу последовали неблагонадёжные. И большинство, понятное дело, из местных.
Это же бунт на корабле, это вопрос жизни и смерти, и его надо снимать с повестки дня, пока не поздно. Естественно, шлейф потянется… Но другого выхода нет. Что касается президента клуба, то ему теперь не до «волков», не до зоопарка этого, чей контингент давно пора обновлять, да и сам он со дня на день, как говорят надёжные источники, должен смениться. Ничто не вечно под луной. Никто не прописан в хоккее бессрочно, кроме, может быть, чернорабочих клуба, таких, например, как он, Сватов Геннадий Васильевич.
Так приблизительно размышлял гендиректор клуба. Но и про себя, даже в уме, наверное, он не проговаривался о том, что каждое освобождённое место в команде, почти каждая новая закупка на это место приносят ему лично немалые доходы. (Инвентарь – клюшки, «ракушки»… – это само собою, но живой товар – совсем другое дело…) Каким образом? Очень просто. Приглашённый хоккеист даёт согласие на оговоренную сумму, подпись же ставит в расходном кассовом ордере под цифирью гораздо завышенной. Какая ему разница? Откат есть откат. Своё-то он всё равно получит. Правда, не к каждому с такой идеей подъедешь. Но тут надо быть психологом и иметь дифференцированный подход. Есть и другие формы перераспределения денежной массы. Например, можно закупить игрока, перечислив деньги на свою посредническую фирму… Формы распила шаровых бабок постоянно меняются, мимикрируют, но не меняются по существу. Разумеется, прибыль не только в его карман идёт, приходится делиться. Тому, другому… Мало ли посвящённых дармоедов вокруг! Главному тренеру? Этому Ломтеву? Так ему больше авторитет нужен, моральный вес необходим, который деньгами не измеришь, ему надо держать команду в ежовых рукавицах и побеждать, чему, собственно, и способствует в данный момент генеральный менеджер.
– Что ты не поймёшь? – напряжённо переспросил Сват.
– Не пойму, откуда в вас всех столько гадости? Понятно, я вам с Ломтевым мешаю, задержался слишком в команде, заигрался, поперёк руководства влияю на ребят, но зачем отыгрываться ещё на других? Мухин, Хакимов, Кирилл Ясаков – они ведь здесь выросли, хоккеистами стали. Хотя, что говорить, когда тебе это напрямую выгодно! Ты же за это чистоганом получаешь. – Булатов сделал понятный жест большим и указательным пальцами. – Опять материальную помощь оказать себе решил? А что тем самым разоряешь наш кровный хоккей, губишь нашу хоккейную школу, тебе и дела нет.
Сват сидел, вытаращив глаза, второй подбородок его нервно подрагивал.
– Чё ты несёшь! – подал голос в защиту директора Серый.
Малоразговорчивого Булю и в самом деле несло:
– Плевать вам на своих. Кому из вас нужны их перспективы! Главное – себя обезопасить. Ведь клубные наши ненароком проболтаться могут. У них тут отцы-матери, родственники, друзья… Чуть что – такое завариться может! Вот и избавляетесь от них под сурдинку.
– Думай, чё говоришь-то! – опять встрял Серый.
Презрительно Буля глянул на обоих разом и, не удостоив ответа, вышел из душной комнаты.
Он вернулся домой, когда мы ещё спали. Мы – это Верста и я. Накануне вслед за «Шалашом» последовала весёлая «Абхазская кухня» с шашлыками, красными винами и чачей, после которой Каша с Леной распрощались с нами, а мы ещё Тагира-кузнеца проведали у него в мастерской (ничего он там, оклемался, сидел – вино какое-то тянул с Амстердамом и его новой подругой), затем, пообщавшись вволю (особенно Верста был в ударе) вернулись туда, откуда утром уехали. Дома у себя и Буля, после сухих, в смысле безалкогольных – за рулём же – «Шалаша», «Абхазской кухни» и т. д., позволил себе разговеться. Но был он несколько рассеян и задумчив. Зато мы с Бориской беспрерывно болтали и веселились. Я заводил поэта насчёт его бомжацкой сущности, а он отвечал, что бомжи самые свободные люди на свете. Они, как пташки божьи, порхают по жизни, тихо кормятся зёрнышками бесхозными с земли и никому не мешают. Похоже, зря я на него поначалу бочку катил, интересный всё-таки мужик.
А утром болела голова. Она сильнее разболелась, когда Буля, вернувшись из Ледового дворца, поведал, что он больше не хоккеист. Я был уже в курсе проблемы, и объяснять мне особо не надо было. Меня, чтобы составить полноценную картину случившегося, интересовали конкретные вещи: кто, что и как сказал.
Буля нехотя, но под моим давлением подробно изложил произошедшее там, в душной тренерской комнате. А когда он оттуда вышел, Мухи в Ледовом дворце уже не было, умотал в неизвестном направлении и мобильник свой отключил. Зато появился Каша. Были там ещё несколько ребят, те же Шток с Хакимом. И когда выяснилось, что из семи бунтарей, не подписавших петицию, не подвергся репрессии лишь Кашапов с финном Юккой, то он, Каша, шпана вятская, рванулся, не раздумывая, к тренерской, чтобы навести порядок и справедливость. Кое-как остановили. Интересно, чем руководствовался тренерский штаб, оставляя в команде необузданного, непредсказуемого дебошира Кашу? Не действующим же контрактом.
Но нет, Каша в команде, несомненно, фигура мощная. А Буля? Лучший бомбардир, безусловный лидер… Уму непостижимо!
Я сказал другу:
– Свет клином на «Белых Волках» не сошёлся. Тебя же куда только не зазывали!
На что Буля ответил:
– Баста, всё, больше я не хоккеист!
– Не «волк», – хотел я поправить.
– Не хоккеист, – повторил он, взял хрустальный графинчик с хрустальной прозрачности содержимым, попросил меня достать рюмочки, которые были ко мне поближе. Я достал из серванта три хрустальные ёмкости на высоких ножках, поставил на стол.
– Две достаточно, – сказал Буля. – Борису не надо. Он с сегодняшнего дня новую жизнь начинает. Такой у нас уговор. Точно, Борь?
– О-хо-хо! – только и вздохнул наш гость в ответ.
Глава четвёртая
29. У самовара
В редакционном кабинете два больших письменных стола. Один для работы авторучкой над текстами, для чтения, общения по телефону и без, непосредственно с посетителями, на нём рукописи, журналы, на краю, над перекидным календарём, – частокол карандашей, фломастеров, то там, то тут – записные книжки, разноформатные листочки с именами и номерами телефонов… в общем, ни сантиметра свободной поверхности. Другой приспособлен под компьютерную технику. Здесь уже прямая противоположность – блеск и чинный порядок. Ещё два стола в кабинете можно назвать журнальными или, точнее, вспомогательными. За одним из них, что с электрическим самоваром, и приютились Равиль Булатов с Лили. Они неспешно разговаривали, точно старинные друзья, хотя она тут была, как понимаете, полной неожиданностью.
– Озябла, – сказала Лили, поправляя гребёнкой слегка покрасневших пальцев пшеницу волос и поглядывая в окно, в котором сиял солнечный морозный день, с зыбкими дрожащими парами на синем холсте неба.
– Попей горячего чаю, сразу согреешься, – посоветовал Булатов. – Вот пряники, они с орешками, вкусные.
Лили послушно – губы трубочкой – потянула, обжигаясь, горячий напиток из снежной белизны чашки на блюдечке, окинула взглядом кабинет – шкаф с книгами, стены с картинами в два ряда…
– Удивительно, – сказала она.
– Что удивительно? – переспросил Булатов.
– Ни одной картины на спортивную тему.
– И правда!
На одном из живописных полотен она задержала взгляд.
– Зима тут – совсем как сегодня за окном. Чудесная работа!
– Друга моего! – похвалился Буля.
Оторвав взгляд от картины, она спросила:
– Куда вы пропали-то на катке тогда? Искала, искала, так и не нашла.
– Ты же подружек своих встретила. А потом, помнишь, такой снег повалил, и я потерял тебя.
– А я подумала, избавились от случайно свалившейся на вашу голову обузы, вот и обрадовались. Откуда эта Ксюшка-болтушка, подруга моя школьная, на катке взялась? В жизни туда не заносило!
– Странно, я тоже встретил там друга. И тоже ещё со школьной поры.
– Чудесный выдался каточек в тот вечер! – Лили встряхнула белокурыми, слегка вьющимися волосами, и они рассыпались по её худеньким плечам в вязаной светло-бежевой кофточке, поверх которой ниспадал на грудь такой же светлый шарфик. Да и вся она была светлая, лучистая, даже румянец, с новой силой вспыхнувший в тёплой комнате, излучал какую-то чистую, лёгкую радость. Она убрала непослушную прядь со лба и сказала: – Согрелась. А вообще, зиму почему-то больше люблю, хоть и замёрзла вот на остановке.
– Почему?
– Троллейбуса долго не было.
– Нет, почему именно зиму любишь?
– Не знаю, – пожала она плечами. – Зимою я как-то собраннее.
– Странно.
– Не знаю, – повторила она, взяла пряник, отколупнула ноготком орешек. – Все вокруг поголовно лето любят и ждут не дождутся его. Я – нет. Сейчас вот, в январе, и снег светится, гляньте в окно. И дышится легче. А весною мне тающего снега жалко бывает. Месяц за месяцем зима копит снег в свои сугробы, и вдруг приходит время, и всё добро, все её сияющие драгоценности погибают, превращаются в грязь. Какой смешной кактус! – Девушка подошла к подоконнику. Длинные ноги, плотно упакованные в джинсы, тонкая, гибкая спина, в ушке маленькая золотая серёжка… Потрогала пальчиком единственное растение в комнате. – Ой, колется!.. И потом, – заключила она свою мысль, – когда же, как только не зимою, можно согреться таким вот замечательным горячим чаем!
– Что верно, то верно, – согласился гостеприимный хозяин.
Из задумчиво-заторможенного состояния его вывел телефонный звонок. Он быстро поговорил, хотел было вернуться на место, но позвонили опять.
– Я отвлекаю? – спросила гостья, когда Булатов вернулся к журнальному столику.
– Нет, – ответил он живо, – это звонки отвлекают. Они же каждый день и постоянно.
– А я впервые… – Дальше она не смогла подобрать соответствующих слов и, опустив глаза на свою чашку, несмело сказала: – Я, собственно, по делу.
– Серьёзно? – с напускной весёлостью после заторможенности у самовара и ускоренности у телефона произнёс Буля. – А я думал, так просто, нового знакомого повидать, погреться, а то по делу да по делу все. Кстати, как ты меня нашла?
– Я и точно погреться, – ответила на не последнюю фразу гостья. – Спасибо… – Она допила чай.
Чемпион понял, что его немного занесло.
– Нет, я не в том смысле… – Он воткнул штепсель в розетку электросети. Самовар мгновенно загудел. – Что за дело? Если могу чем помочь – пожалуйста. Ещё горяченького?
Она подождала, когда расторопный хозяин наполнит её чашку кипятком, и начала, неторопливо помешивая чайной ложкой:
– Я уже говорила, что очень люблю хоккей. Помните, на катке? Просто объяснить не могу – как! Одно лишь появление хоккеистов на разминке перед началом игры на чистой, нетронутой глади льда, первые линии, узоры за их коньками на этом волшебном зеркале меня уже не знаю, как волнуют. А уж когда обе команды выкатываются на игру, и начинается бой, то я вовсе позабываю всё на свете. Этот скрежет коньков, стук клюшек, щелчки, треск бортов и косточек хоккеистов – да, да, я и это, похоже, слышу! – этот девятый вал трибун, судейские трели… Они и во сне преследуют меня. Но вся несправедливость в том, что хоккеистом стать я не могу. – Она подняла на Булатова свои пронзительно зелёные глаза. – Никогда. Вы понимаете меня?
– Да, – ответил чемпион мира и Олимпийских игр, – понимаю. Но что делать?
– Статьи, очерки писать. Я хочу писать о хоккее и хоккеистах и тем самым быть в нём, в хоккее. Вот вы же теперь как журналист пишете о «Белых Волках» и как бы с командой не расстались.
– Вот именно «как бы».
– Простите. Я имею в виду, варитесь в тех же проблемах, встречаетесь с теми же людьми, помогаете им печатным словом.
– Хорошо, – прервал вдохновенную тираду Булатов, – в данный момент, как я понимаю, не обо мне речь. Итак, ты хочешь…
– Да, я тоже хочу писать и печататься.
– Что ж, надо попробовать. У меня как раз есть одна подходящая тема. О детском хоккее. Но для начала расскажи немного о себе: кто ты, что ты, где учишься?
– Это так важно?!
– Мне же надо хоть немного знать, с кем предстоит играть в одном звене… Как ты думаешь?
30. Стиль диктует содержание
В своей рукописи я называю своего друга то Булатов, то Буля, то по имени, то одним отчеством обхожусь… Долгое время сам не понимал, почему у меня это происходит. Чувствовал лишь, что разноимённость моих персонажей ведёт к разноликости, что разные имена ищут себе соответствующие контексты и многое другое. Но писал, как писалось. В общем-то, и сейчас так строчу. Но, пораскинув однажды мозгами, я пришёл к гениальному для себя выводу: стиль диктует содержание. Вот так, коротко, как отрезано. Стиль диктует и содержание, и поведение героев, и их имена-прозвища… Мысль можно развернуть в целый трактат, но не буду, раз, как отрезано. Скажу лишь, если наоборот, если содержание берёт верх над стилем, то это уже не художественное произведение.



