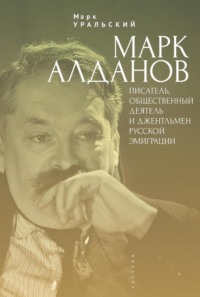Полная версия
Иван Тургенев и евреи
Однако в произведениях Гете нет недостатка и в негативных высказываниях насчет евреев. При внимательном прочтении его «Дивана», «Фауста», «Клавиго», «Ксениен» и других произведений можно обнаружить, что в них постоянно говорится о евреях, которые торгуют, шпионят или просто комично озорничают. Гете, который, безусловно, был восприимчив к еврейским шуткам, возможно, просто хотел проиллюстрировать общепринятые стереотипы, но он также не дистанцировался от них. Между тем, сомнительно, что за каждым оборотом речи стоит личное гётевское чувство, можно ли пригвоздить к определенному месту каждое высказывание Гёте-художника и взвесить на весах каждое произнесенное им слово?!
Тема «Гете и евреи» должна быть дополнена контр-ретроспекцией «Евреи и Гёте». Для нескольких поколений евреев, пытавшихся вписаться в немецкий социальный и образовательный контекст, Гете, в частности, был неизбежным ориентиром на этом пути. Многие евреи, особенно немецкие, находились под его влиянием. Немало евреев почитали его и выражали порой острую привязанность к нему, возможно, надеясь <…> найти с помощью его художественного слова рациональное оправдание воспринятой ими извне концепции интеграции и ассимиляции[64]. Как известно, в то время доступ к общественным и особенно академическим должностям был все еще затруднен даже для крещеных евреев. «В этой связи, очевидно, – пишет Вильфрид Барнер, – что вживание в инородное <«укоренение в почве»> евреев-эмансипантов особенно впечатляюще выглядит именно в культе почитания Гете, поскольку оно знаменовало как вынужденный их отход от собственной культурной традиции, что часто встречается в еврейской истории, так одновременно и демонстрацию лояльности по отношению к национально-государственной идеологии».
Вряд ли кто-то из евреев-интеллектуалов первой половины ХIХ в. открыто жаловался на двойственное отношение Гете к еврейству в целом, хотя, возможно, многие из них втайне сожалели, что самый выдающийся представитель немецкой литературной и общекультурной традиции, великий глашатай классической идеи всечеловечества, «не слишком хорошо думал о евреях…» и говорил о них не только положительные слова. Евреи, по словам одного из немецких историков литературы, не только не обижались на Гете за его холодность по отношению к ним, но, напротив, в той мере, в какой они ощущали себя немцами, отдавали дань уважения его гению[65].
<…> Несмотря на различные слабости Гёте и его неоднозначное отношение к евреям, многие представители эмансипированного еврейства видели в нем высокий образец человечности и гаранта гуманистической сущности немецкого характера. Более того, никто другой из великих немцев не предлагал такого разнообразия характеристических линий, связывающих личную жизнь художника с его творениями, как он.
В письмах, дневниках и беседах Гете есть высказывания, которые мы сегодня не можем аттестовать иначе, как антисемитскими. Но ведь многое из того, что в эпоху Гёте было прегрешением, а в глазах некоторых даже и «серьезным грехом», сегодня кажется нам не более чем легкомысленным и безответственным проступком. С другой стороны, следует учитывать, что Гете был чрезвычайно разносторонним человеком и занимался многими самыми разными – темами и областями. На этом фоне его интерес к еврейской проблематике и увлеченность ей, если вообще так можно говорить (!), были по сути своей маргинальны. В любом случае евреи и еврейская тема занимали его ум далеко не в первую очередь, в сравнении со многими другие проблемами, нациями и культурами. Конечно, нельзя игнорировать антисемитскую тональность в высказываниях Гёте о евреях и еврействе, но и не следует делать на ней особый акцент. Правильный подход – рассматривать все широком контексте его времени, его представлений о религии и политики [HOMANN][66].
Гёте не был лично знаком с еврейским просветителем и философом-кантианцем XVIII века Мозесом Мендельсоном, однако ему
были известны его сочинения, в частности, труд «Федон, или Три диалога о бессмертии души», написанный по образцу платоновских диалогов. В письме к Якоби[67] он называет Мендельсона «еврейским Сократом». <…> Гёте общался с его сыном, Авраамом Мендельсоном, а внук философа, маленький Феликс Мендельсон, будущий композитор, музыкант, нашел в доме Гёте радушный приём. Гёте обожал мальчугана. <…> он видел в нём искру Божью, божественное присутствие в его даровании. Да и всё Веймарское общество, которому он представил этого вундеркинда, было в восторге от него. Гёте пророчил мальчику великую славу и не ошибся. Особенно он любил слушать Моцарта и Бетховена в его исполнении. Он просил мать мальчика присылать его к нему почаще. Они переписывались, маленький Феликс писал стихи и песни, и Гёте публиковал их в еженедельнике своей невестки.
Часто спрашивают, выражал бы Гёте столь пылко свои чувства, если бы мальчик оставался некрещеным? Трудно сказать. Крещение было пропуском для еврея в высшее общество, а Мендельсоны (сын и внук философа) принадлежали к высшим кругам, сравнявшись с аристократией. Но и после крещения сами Мендельсоны продолжали себя считать евреями, да и в глазах окружающих они ими оставались. Гейне, который тоже перешёл в христианство, заметил: «Когда я был евреем, христиане меня ненавидели, теперь ненавидят и те, и другие». Известный пианист Антон Рубинштейн сказал ещё более точно: «Евреи называют меня христианином, христиане – евреем, немцы – русским, русские – немцем». Такова участь ассимилированных [ЙОНКИС (II) С. 135].
Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что на фоне большинства европейских мыслителей первой половины ХIХ, Иоганн Вольфганг Гёте, декларируя гуманистические принципы религиозно-этнической терпимости и человеколюбия, определенно проявлял своего рода доброжелательное отношение к евреям. Поскольку Тургенев в Боннском университете усиленно штудировал Гегеля, представляется важным отдельно остановиться на отношении этого великого немецкого мыслителя к иудаизму и евреям. Напомним читателю, что Георг Вильгельм Фридрих Гегель родился в Штутгарте 27 августа 1770 г. в семье высокопоставленного чиновника-лютеранина[68]. Окончив в теологическую семинарию при Тюбингенском университете, где он, помимо всего прочего, несомненно, усвоил лютеровский взгляд на еврейство, Гегель, защитил диссертацию и в 20 лет стал магистром философии. После окончания Тюбингенского университета он в 1801 перебрался в Йену, где ему было предоставлено право, читать лекции в местном университете, и в 1805 году он становится в нем экстраординарным профессором. В Йене Гегель написал свою знаменитую работу «Феноменология духа», закончив её в октябре 1806 года во время битвы за Йену, итогом которой стало сокрушительное поражение прусских войск от армии Наполеона I Бонапарта. В 1816–1818 годах Гегель являлся ординарным профессором философии в университете Гейдельберге, а позже – Берлина. В 1830 году Гегель назначается ректором Берлинского университета, а на следующий год в разгар эпидемии холеры он скончался. В поражающих своей всеобъемлющей грандиозностью фундаментальных трудах Гегеля «Феноменология духа» (1807), «Наука логики» (1812–1816, 1831), «Философия права» (1821), «Энциклопедия философских наук (1817, 1828, 1830) и др. изложена система взглядов на природу и общество как ступени развития Мирового Духа[69].
Фридрих Энгельс в 1886 году писал:
…гегелевская система охватила несравненно более широкую область, чем какая бы то ни была прежняя система, и развила в этой области ещё и поныне поражающее богатство мыслей. Феноменология духа (которую можно было бы назвать параллелью эмбриологии и палеонтологии духа, отображением индивидуального сознания на различных ступенях его развития, рассматриваемых как сокращенное воспроизведение ступеней, исторически пройденных человеческим сознанием), логика, философия природы, философия духа, разработанная в её отдельных исторических подразделениях: философия истории, права, религии, история философии, эстетика и т. д., – в каждой из этих различных исторических областей Гегель старается найти и указать проходящую через неё нить развития. А так как он обладал не только творческим гением, но и энциклопедической учёностью, то его выступление везде составило эпоху. Само собой понятно, что нужды «системы» довольно часто заставляли его здесь прибегать к тем насильственным конструкциям, по поводу которых до сих пор подымают такой ужасный крик его ничтожные противники. Но эти конструкции служат только рамками, лесами возводимого им здания. Кто не задерживается излишне на них, а глубже проникает в грандиозное здание, тот находит там бесчисленные сокровища, до настоящего времени сохранившие свою полную ценность[70].
Еще при жизни Гегеля, а затем на протяжении всего ХIХ в. с критикой его философской системы выступали такие выдающиеся мыслители, как Шопенгауэр, и Кьеркегор, чуть позже – Фейербах, Карл Маркс, Ницше. Артур Шопенгауэр, прямо называвший Гегеля шарлатаном, его философию бессмыслицей, а гегелевский метод, описывавший как преподнесение этой бессмыслицы нарочито туманным, наукообразным языком, призванным запутать слушателя, заставляя его думать, что он сам виноват в своём непонимании, писал, оценивая популярность философа в научном мире:
Эта нагло солганная слава в течение четверти века сходила за настоящую и bestia trionfante <итал., торжествующая бестия> процветала и царила среди немецкой республики учёных так всевластно, что даже многие противники этой глупости не рисковали относиться к её виновнику иначе, как к редкостному гению и великому уму, и то с глубочайшим почтением. Но последствия всего этого не преминут обнаружиться, ибо во все времена этот период литературной истории будет лежать несмываемым позорным пятном на нации и эпохе и станет притчею для будущих столетий – и поделом! [ШОПЕНГАУЕР (II)].
Один из самых влиятельных философов ХХ в. Карл Поппер писал в книге «Открытое общество и его враги» (1945), что гегелевского метод – это «дерзкий способ надувательства», свойственный «философии оракулов». Он, а с ним и многие другие либеральные мыслители, обвиняют Гегеля в оправдании авторитаризма и тоталитаризма[71].
Несмотря на жесткую критику, философия Гегеля, находит своих горячих поклонников и толкователей[72] в наши дни. Оригинальность гегелевской философии состояла, по мнению ее адептов, в единстве метода, формы и содержания, объективного и субъективного, мышления и бытия, исторического и логического. Индивидуальное сознание, по Гегелю, проходит путь, который прошло человечество в своей истории, в результате чего отдельный человек в состоянии посмотреть на мир и на себя с точки зрения ее завершения. Познание идет от рассудка к разуму, от анализа к синтезу на основе превращения понятий в свою противоположность через тезис, антитезис и синтез, переход количества в качество и достижение меры как сущности вещей. История человечества и мышления является единым диалектическим процессом развертывания абсолютной идеи, а общественные формации представляют собой ступени ее развития. Причем смысл истории есть прогресс в осознании и реализации свободы.
Исходя из своих философских принципов Гегель, рассматривал и сущность иудаизма и судьбы еврейства. Он обратился к этой теме уже в ранних своих работах. Один из младших современников и наиболее талантливых и разносторонних учеников Гегеля философ Карл Розенкранц в своей книге «Жизнь Гегеля» (1844) пишет по этому поводу:
взгляды Гегеля на еврейскую историю сильно различались в разные времена. Она одновременно и отталкивала, и очаровывала его, и досаждала ему своей темной загадочностью на протяжении всей его жизни. Иногда, например, в «Феноменологии», он игнорировал это. В других случаях, например, в «Философии права», он ставил ее в непосредственной близости к германскому духу. В других случаях, например, в «Философии религии», он ставил ее в один ряд с греческой и римской историей, поскольку вместе они составляют непосредственные формы духовной индивидуальности. Наконец, в «Философии истории» он сделал еврейскую историю частью Персидской империи [ROSENKRANZ].
Отношение Гегеля к иудаизму и евреям – достаточно раскрытая тема в истории философии, – см., например [ВАЛЬ Ж.], [ПОЛЯКОВ Л.], [САВИН], [BRUMLIK], [FACKENHEIM], лишь в советской философской «гегелияне» она – по сугубо идеологическим причинам, была исключена из поля научного дискурса. Существует мнение, что:
В современных западных дискуссиях характеристика молодого Гегеля как антисемита стала общим местом. Полемика идет лишь о том, насколько изменилась позиция Гегеля по отношению к евреям и иудаизму в ходе развития его мысли. [САВИН. С. 77].
Такие, например, западные исследователи, как [BRUMLIK], [FACKENHEIM], полагают что в молодости Гегель, говоря о еврействе, в общем и целом повторял антисемитские клише тюбингенских теологов и высоко чтимых им французских просветителей:
Движимые материализмом и жадностью, евреи способны лишь к животному существованию <…> за счет других народов. Еврейское сознание делает их нацией торгашей и ростовщиков, внутренне неспособных к высшим духовным и этическим проявлениям.
Древних иудеев Гегель обвинял в том, что они не поняли божественности Христа, а были и остались рабами Моисеевых законов, «карающих за малейшее неповиновение, стали народом с рабской психологией, чертами трусости, эгоизма, паразитизма, злобы и ненависти». А потому
все состояния, в которых пребывал еврейский народ <…> являются лишь следствием и развитием изначальной судьбы <…> которая подавляла его и будет это делать и впредь, до тех пор, пока этот народ не примирится с ней посредством духа красоты и не преодолеет ее благодаря этому примирению.
В стойкости и преданности еврейства своей религии Гегель усмотрел «великую трагедию», которая не может возбудить ни страха, ни жалости, поскольку их вызывает судьба прекрасного существа, совершившего фатальную ошибку.
Он упрекал евреев в чрезмерной приверженности авторитету и соблюдению множества заповедей, порицал их за веру в чудеса и мессианскую избранность. Даже в освящении ими Субботы ранний Гегель узрел нечто аморальное:
Этот отдых был благом для рабов после шести дней тяжелых работ, но отводить целый день для безделья в случае свободных активных людей, вынуждать их пребывать в этот день в духовной пассивности, превратить день, посвященный Богу, в пустое время… – все это могло прийти в голову лишь законодателю народа, для которого печальное и мрачное единство является высшим благом.
При этом другие еврейские праздники, отмечаемые пиршествами и танцами, он признавал «самой человечной частью закона Моисея» [ШИМАН].
В российской философской мысли существует мнение, что
сам тезис об антисемитизме «раннего» Гегеля ложен. Уже в ранних сочинениях Гегель отказывается от положения о том, что еврейский народ является самым развращенным народом на земле, и утверждает, что народы, в той мере, в которой они принимают монотеизм, т. е. «теистический принцип», как способ организации своей национальной и личной жизни, являются равным образом развращенными. Эта трансформация позиции вытекает из его понятия судьбы. Если дух народа предначертывает способ его рецепции чужих влияний, то рецепция позитивной религии – (иудаизированного) христианства показывает, что принявшие христианство народы уже готовы к этому, уже развращены. На тезисе о равноразвращенности базируется вся разработка истории христианства ранним Гегелем.
Из тезиса о равноразвращенности вытекает, что «ранний» Гегель также латинофоб, германофоб, франкофоб, русофоб и т. д. Но если в этом аспекте нет различия в его отношении к евреям и к другим, по меньшей мере, европейским, народам – само понятие антисемитизма теряет смысл. (Тем более что ни о каком «натуралистически-онтическом» отличии еврея от остальных народов на основе его естества (крови и почвы) у Гегеля нет и речи. Напротив, телесное отличие еврея производно от его истории, особенно от истории его духа. Гегель пишет: «Он [Авраам] придерживался своей обособленности (Absonderung), каковую он посредством отпечатавшейся на нем и его потомках телесной особенности сделал бросающейся в глаза». Еврей, по Гегелю, не есть тем самым недочеловек. Тем более он не есть нечеловек, поскольку, как верно отмечает Пауль Коббен, согласно раннему Гегелю, если у существа есть религия, то оно уже вышло за границы природы, оно – человек. Ничтожное существование еврея, по Гегелю, есть результат процесса его самоуничижения и самоуничтожения. Внутренне противоречивый характер еврейского государства и еврейского народа – есть результат духовного учреждающего акта этого народа и его развертывания ранняя гегелевская разработка проблематики религии является раскрытием истории и логики не определенной (религиозной в отличие от повседневной, научной, политической, хозяйственной и т. п.) сферы жизни, а способа жизни в целом и, соответственно, противополагается не другим сферам жизни, а другим ее способам. Критика иудаизма не есть история религии, религиоведение или даже философия религии – но экспликация генезиса, структуры и следствий «теистического принципа» существования, т. е. способа жизни, определяемого идеей единого всемогущего бога. Раскрытие способа жизни, характерного для культур с монотеистическими религиями, принимает у немецкого мыслителя форму критики иудаизма лишь постольку, поскольку, во-первых, в ранний период Гегель считает религию единственной формой выражения связи человека с целым, т. е. с жизнью как таковой, а, во-вторых, естественным образом раскрывает генеалогию «теистического принципа» посредством исследования истока, логики развития и следствий иудаизма как первой монотеистической религии. Попросту говоря, согласно раннему Гегелю, какова религия народа, такова его жизнь и судьба: таковы его семья, государство, право, его отношения с другими народами; таковы способы отношения принадлежащего ему индивида к природе, другим людям (своим и чужим) и к самому себе; такова в конечном счете национальная и личная история.
Гегелевская генеалогия иудаизма не есть его эмпирическая история. Об этом говорит сам Гегель <…>. Но она не есть и психологическая история, «история еврейской души»: «еврейской фантазии», «еврейской рациональности», «еврейской памяти» и т. п. Она есть генеалогия и логика «настроения» (<…>, определяющего существо пра-учреждающего акта <…> образования народа и характер принадлежащего ему индивида, а также последующих актов духа, развивающих или трансформирующих логику этого изначального акта. Генеалогия и логика настроения не есть психологическая логика, но у «раннего» Гегеля <…> она определяет способ бытия-в-мире. Сама «душа» в своем бытии и в своей определенности производна от этого фундаментального настроения <…>. Гегелевская история иудаизма есть трансцендентальная история <…>
Существуют две основные линии, приведшие Гегеля к тематизации и проблематизации иудаизма.
Первая из них связана с ортодоксальным протестантским воспитанием и образованием Гегеля, в частности с его обучением в протестантском теологическом институте в Тюбингене. Составной частью этого образования было изучение истории Израиля и иудаизма, нацеленное на демонстрацию духовной пропасти, лежащей между иудейской «религией закона» и христианской «религией любви». В Тюбингене лекции о Евангелиях студентам-теологам, среди которых был Гегель, читал Готтлоб Христиан Шторр, известный историкам герменевтики экзегет, ортодоксальный лютеранин и представитель супранатурализма – течения в теологии, стремившегося совместить ортодоксию с рядом идей кантовской философии. Свой вклад в формирование этой линии гегелевской проблематизации иудаизма внесла и кантовская критика статуарных религий[73].
Второй линией, приведшей Гегеля к тематизации и проблематизации иудаизма, было как прямое, так и опосредованное влияние Французской революции и ее идей.
<В 1796 г.> Гегель оказался во Франкфурте в разгар дискуссии о политическом равноправии евреев. Она стала вторым источником гегелевской тематизации и проблематизации иудаизма.
<…> Как евреи, так и полноправные граждане города раскололись. Среди консервативных иудеев, в том числе раввинов, выделилась партия, противостоявшая идее полноправия евреев из-за опасений, что это приведет к распространению, а также юридическому и административному сопровождению ростовщических еврейских практик, следствием которого станет закабаление и обнищание нееврейского населения города, вытекающие из этого отток жителей и обеднение города, что будет – в долгосрочной перспективе – иметь негативные последствия для самой еврейской общины Франкфурта. <…>, Само собой разумеется, предоставлению евреям гражданских прав активно и жестко противодействовали также консервативные и реакционные представители христианских общин города, особенно протестантской.
<У самого Гегеля было> двойственное отношение <…> к освобождению евреев <…>: он, с одной стороны, был сторонником идеалов Французской революции, с другой, – немцем и протестантом, притом имеющим специальное теологическое образование, в страну которого еврейская эмансипация была принесена на штыках французских оккупационных сил [САВИН. С. 77, 68–69, 73–74].
Известный французский философ-экзистенциалист Жан Андре Валь в книге «Несчастное сознание в философии Гегеля» (1929) также не усматривает ничего декларативно антисемитского в размышлениях Гегеля. Он пишет, что:
В начале своей юности Гегель был противником р е л и г и и. Он был подобен в этом Шлейермахеру; он был похож и на Шеллинга, который, в тот момент, когда его друзья романтики обратились к католицизму, ещё чувствовал, как в нем возрождается «старая ненависть к религии». <…> Как и Шлейермахер, Гегель довольно быстро почувствовал, что в человеческой природе имеется потребность в божественных знаниях, с которыми, между прочим, связаны и нравственные обязанности <…>. И поскольку на земле существует потребность в религии, то будет, следовательно, существовать и возможность феноменологического познания религии. Гегель здесь лишь делает вывод из идей Гердера. Человек желает преодолеть человека. Человеческая природа не является абсолютно оторванной от божественного. Но это чувство более высокого существа связано с чувством своего несчастья.
Розенкранц пишет о суждениях, высказываемых Гегелем по поводу иудаизма. «Концепция иудаизма у Гегеля была в разные эпохи весьма различной». Он добавляет, что в Феноменологии о нем совершенно умалчивается. Это создает о мышлении Гегеля, учитывавшем этот пункт, весьма неточное представление. В любом случае начиная с сочинения о Позитивности христианской религии и даже в Жизни Иисуса иудаизм мыслится как религия рабства, как религия, которая противопоставляет два не – Я. В своем сочинении о Судьбе христианства[74] Гегель представляет иудаизм как веру в радикальную противоположность посюстороннего, которое есть ничто, и потустороннего, которое является абсолютом, как разделение того индивидуального и того универсального, которое Иисус придет соединить. Влияние лютеранства, влияние сочинений Канта и Гамана, возможно, также некоторых просветителей, а также некоторых представителей Бури и натиска, как и размышление над словами святого Павла, несомненно сориентировали разум Гегеля в том направлении, где он мог обнаружить взгляды Маркиона[75].
Но здесь необходимы три замечания.
Во-первых, Гегель, начиная с этой эпохи, весьма ясно видит универсальность того, что мы можем назвать категориями господина и раба; и он замечает, какой вклад вносят евреи в идеализацию этих категорий <…>. Евреи способствуют «возвышению» категорий господина и раба. Евреи – это народ, который господствует в идее. Но это тем более важно, поскольку эти категории кажутся чем-то универсальным в человеческом мире: «Человек всегда раб по отношению к тирану и в то же время тиран по отношению к рабу».
Во-вторых, само это разделение, сама напряженность этого разделения стремится очистить «Я» <…>. Еврейская нечистота может быть разновидностью очищения, так же как еврейская материальность допускает, требует чего-то вроде идеализма. Благодаря тому, что еврей осознает недостойность своего существования, он, можно сказать, осознает свое духовное достоинство.
В-третьих, если еврейский народ – это народ абсолютного разделения, то нет ли в этом определенного знака, указания, которое позже будет развито Гегелем, когда он интегрирует это разделение в свою религиозную философию?
Затем именно в самом презираемом народе должен открыть себя Бог, так как именно здесь страдание бесконечно и в большей степени всем понятно. <…> Это Христос, несущий истину народу Иудеи. На самом деле религия, которая смешивается с самой возвышенной философией, намерена заменить утраченное единство; и чем сильнее разрыв, тем сильнее религия.
Если верно, что в человеке имеется потребность превзойти самого себя – и именно это объясняет возможность существования феноменологии религиозного сознания, – то не менее верно и то, что всегда есть некоторые умы, для которых это существо, более высокое, чем человек, является абсолютно отделенным от него. Если теперь союз подписан, то это союз, который лишь увековечивает враждебность. Евреи отделяются не только от всех остальных народов, не только от своих сограждан, но еще и от своего Бога. Они, можно сказать, охвачены безумием разделения, и ими владеет демон ненависти, который один дает им силу и единство. Для них единство абсолютно отделено от красоты и богатства многообразия.