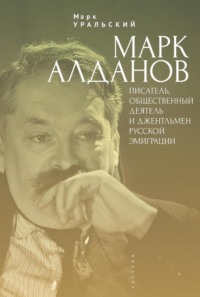Полная версия
Иван Тургенев и евреи
В отличие от славянофилов, западники, учась у Европы,
любили в России ее скрытые силы и способность к цивилизованному развитию. И быть может, не случайно именно западник Тургенев так язвительно и зло-проницательно изобразил грозную опасность, исходившую от немецкого русофильства. <…> В не понятой и не оцененной при его жизни повести «Несчастная» (1869) писатель изобразил немца – русского националиста, ставшего более ярым националистом, чем любые славянофилы русского происхождения <образ Ивана Демьяновича Ратча>, и показал, как этот национализм замешивается на материально выгодном антисемитизме. Можно сказать, здесь угадан прообраз российско-немецкого нациста за полстолетия до того, как этот тип человека стал массовым явлением и угрозой историческому бытию человечества [КАНТОР (I). С. 226].
Академическим философом Тургенев не стал, но и философствующим писателем тоже: его произведения не содержат сугубо философских рассуждений, однако если иметь в виду художественный ряд, то здесь, несомненно, можно говорить о «тургеневской художественной философии» [ГОЛОВКО (I) и (II).]. Однако же, на стезе академической философии
<…> Достоевский или Толстой, философствующие на свой страх и риск, казались Тургеневу дерзкими невеждами, упрямцами, которым только недостаток образования придавал смелость и уверенность. Уже в 1882 году, в октябре, вот что он пишет по поводу «Исповеди» Льва Толстого: «Получил на днях через одну очень милую московскую даму ту Исповедь Толстого, которую цензура запретила. Прочел ее с великим интересом. Вещь замечательная по искренности, правдивости и по силе убеждения. Но построена она вся на неверных посылках и в конце концов приводит к самому мрачному отрицанию всякой живой человеческой жизни. Это своего рода нигилизм»[40] [ШЕСТОВ].
Яков Полонский утверждает, что:
Философские убеждения Тургенева и направление ума его имели характер более или менее положительный и под конец жизни его носили на себе отпечаток пессимизма. Хоть он и был в юности поклонником Гегеля, отвлеченные понятия, философские термины давно уже были ему не по сердцу. Он терпеть не мог допытываться до таких истин, которые, по его мнению, были непостижимы. – «Да и есть ли еще на свете непостижимые истины?» – Так, например, он любил слово: «природа» и часто употреблял его и терпеть не мог слова «материя»; просто не хотел признавать в нем никакого особенного содержания или особенного оттенка того же понятия о природе.
– Я не видел, – спорил он, – и ты не видал материи – на кой же ляд я буду задумываться над этим словом [ПОЛОНСКИЙ Я.П. (II)].
В литературной критике «Серебряного века» как общее место утвердилось мнение, об отсутствии глубокого философского наполнения в тургеневской прозе. Такой, например, общепризнанный авторитет, как Юлий Айхенвальд писал:
Тургенев не глубок. И во многих отношениях его творчество – общее место. Если Страхов, с чьих-то слов, назвал его страницы акварелью, то это верно не только в смысле его литературной манеры, его внешней мягкости, его отделанного слога, но и по отношению к внутренней стороне его писательства. Есть сюжеты и темы, которых нельзя и которые грешно подвергать акварельной обработке. А он между тем говорит обо всем, у него и смерть, и ужас, и безумие, но все это сделано поверхностно и в тонах слишком легких. Он вообще легко относится к жизни, и почти оскорбительно видеть, как трудные проблемы духа складно умещает он в свои маленькие рассказы, точно в коробочки. Он знает, какие есть возможности и глубины в человеке, знает все страсти и даже мистерии, и почти все их назвал, перечислил, мимолетно и грациозно коснулся их и пошел дальше, например от подвижничества (в «Странной истории») – к своим излюбленным романам. Турист жизни, он всё посещает, всюду заглядывает, нигде подолгу не останавливается и в конце своей дороги сетует, что путь окончен, что дальше уже некуда идти. Богатый, содержательный, разнообразный, он не имеет, однако, пафоса и подлинной серьезности. Его мягкость – его слабость. Он показал действительность, но прежде вынул из нее ее трагическую сердцевину [АЙХЕНВАЛЬД].
Мнение Айхенвальда, однако, представляется многим критикам несправедливым и поверхностным. Уже его современник – Михаил Гершензон, будучи сам тонким и проницательным мыслителем-аналитиком, сумел разглядеть в творениях русского классика оригинальное философское наполнение. Он писал:
Понять философию Тургенева <…> нельзя иначе, как сведя её всю к одному вопросу и ответу на этот вопрос: должен ли человек быть природою или личностью? [ГЕРШ][41].
Лев Пумпянский в своей статье «Тургенев-новеллист» [ПУМПЯНСКИЙ] писал о том, что тургеневской новелле свойственна «философская оркестровка», т. е. непрерывное философское сопровождение, на фоне которого, наличном или предполагаемом, развертывается само действие.
Галина Тиме, развивая гершензоновскую концепцию, пишет, что:
В общем контексте тургеневского творчества именно мысль о возможности или невозможности для человеческого Я слиться с общей идеей Природы, Бога или, как это обозначилось в России, с общей, почти святой идеей Правды и Справедливости приобретает центральное значение [ТИМЕ (II). С. 194].
Луна плывет высоко над землеюМеж бледных туч;Но движет с вышины волной морскоюВолшебный луч.Моей души тебя признало мореСвоей луной…И движется и в радости, и в гореТобой одной…Тоской любви, тоской немых стремленийДуша полна…Мне тяжело… но ты чужда смятений,Как та луна.Иван Тургенев (1840)В фундаментальном исследовании Галины Тиме «Тургенева и немецкая литературно-философская мысль XVIII–XIX веков» подчеркивается, что:
В последнее время наблюдается тенденция рассматривать проблемы творчества Тургенева именно с философской точки зрения [ТИМЕ (I). С. 2].
Анализируя обширный философский багаж Тургенева, она пишет:
Сложность и неоднозначность взглядов молодого писателя нашли отражение и в магистерском сочинении, где он выступил с критикой младогегельянства и пантеизма. В основном, сочинение было выдержано в гегелевском духе, однако в нем проявились важные тенденции, которые обнаружили изначальную философскую противоречивость восприятия мира, во многом предопределившую трудность достижения гармоничной целостности мироощущения и в дальнейшем.
<…>
Несмотря на гегелевскую постановку вопроса и даже вопреки ей, <у Тургенева>, по верному замечанию Д. Чижевского, чувствовалась смутная «симпатия» к пантеизму, а через него – к Фейербаху. Для Чижевского это означало, что автор «потерял философию», на месте которой осталось лишь представление о «немилосердной судьбе». Это может быть верным лишь в том смысле, что Тургенев «потерял» единую философскую систему как данность и вступил на путь создателя собственного, достаточно неоднозначного, мировоззрения. Именно на этом этапе наметился, по сути дела, основной философский конфликт тургеневского творчества: противостояние <обоготворённой> личности (как единичного) – безликому, всеобщему целому. <…> по Гегелю, как раз подобный конфликт и не является действительным, ибо излишнее «почитание бесконечного» (Respekt vor dem Unendlichen) – лишь «чистая абстракция, первая абстракция бытия» (reine Abstraktion, die erste Abstraktion des Seins). К тому же тенденция к (обоготворению личности) сочеталась у Тургенева с невысказанной потребностью в (Боге живом), что связывается опять-таки с Шеллингом, – тем более, что Фейербах к концу 1830-х годов (то есть ко времени написания тургеневской работы) уже отделял философию от религии. Здесь нашли отражение и особенности восприятия философских учений в России, в частности, подчеркнутая самим Тургеневым неспособность (его личная и как бы русского человека вообще) «мыслить отвлечённо, чисто, на немецкий манер…» [ТУР-ПСП. Т. 11. С. 27]. <…> писатель характеризует еще одну важную черту своих мыслящих соотечественников – их свойство непременно жизненно-заинтересованно, на личном опыте, а не абстрактно и отвлеченно воспринимать любой философский вывод: «Немец старается исправить недостатки своего народа, убедившись размышлением в их вреде; русский еще долго будет сам болеть ими» [ТУР-ПСП. Т. 11. С. 29]. <…> философские занятия Тургенева неизбежно соприкасались с вопросами религии. Это определялось не только обозначенным кругом его чтения (гегелевские лекции о философии религии, Философия и религия Шеллинга, Философия и христианство Фейербаха и др.), но и реальными тенденциями в развитии философских идей конца 1830-х – начала 1840-х годов. Едва ли не главным вопросом для мыслителей этого времени стал вопрос об отношении науки и религии, знания и веры. Если для Гегеля он не заключал в себе непримиримого противоречия, то для <левых> толкователей его учения стал пафосом нового мировоззрения, утверждавшего взаимоисключаемость этих двух проявлений духовной жизни человека. <…> В 1842 году Бруно Бауэр выступил с книгой Доброе дело свободы и моё личное дело, где объявил «судией убеждений» исключительно науку и историю. <…> к концу 1830-х годов резко разграничил науку и религию JI. Фейербах. В то же время Шеллинг, читавший в начале 1840-х годов в Берлине лекции о «философии откровения», утверждал истину вне разума, как доступную лишь религиозному познанию. Обозначенные нами направления немецкой мысли особенно важны для развития философских концепций в России, где около 1845 года произошло размежевание западников и славянофилов. Одной из его главных причин оказалось различное отношение к рационализму (науке) и вере (религии). Как правило, это сочеталось соответственно с предпочтением Гегеля (разум, логика) или Шеллинга (чувство, интуиция). Такое предпочтение было, конечно же, условным, хотя и достаточно принципиальным <…> и для творчества Тургенева, мировоззрение которого рано обозначилось как <западническое>, но вместе с тем естественным образом впитало в себя особенности развития оригинальной русской мысли, её реакции на немецкие философские системы. Достойными особого внимания представляются вольные и невольные схождения и противоречия, возникающие в тургеневском сознании при соприкосновении категорий европейской (по преимуществу, немецкой философии), с исконными русскими понятиями, коренящимися, как правило, всё-таки в православном христианском сознании, которое ставилось во главу угла славянофилами.
<…> одним из центральных вопросов всего творчества Тургенева, общую проблематику которого некоторые современные исследователи склонны даже считать скорее «метафизической», нежели жизненно-конкретной, и является вопрос о соотношении и даже противостоянии личного начала, индивидуального Я, и всеобщего, универсального начала. Причем, последнее выступало не только в качестве идеи Бога или же <равнодушной> к <конечному> индивидууму Природы (гегелевское противопоставление и единство: Unendliches – Endliches), но, что особенно характерно для российских обстоятельств, в качестве некой высокой идеи общественной справедливости. С ней неизбежно связывалась и проблема <эгоизма> личности, не желающей быть социальной.
<…> В 1879 году, за несколько лет до своей кончины, Тургенев напишет стихотворение в прозе Монах, лирический герой которого, явно выражающий авторскую позицию, завидует монаху, добившемуся того, что аскетической жизнью и беспрестанной молитвой «уничтожил себя, свое ненавистное Я». <…>
В начале и в конце творческого пути присутствует одна и та же тема – сперва в философском и литературно-социальном контексте; впоследствии – соприкасаясь с религиозным, даже фанатичным сознанием. В том или ином виде она явно проходит через все тургеневское творчество, проявляясь как в авторских высказываниях, так и в изображении мировоззрения и судеб героев. Связь с гегелевским представлением о пути человеческого духа от естественности к высшей гармонии через свободу здесь несомненна, «…примирение (Versöhnung) совершается, однако, <…> посредством отречения», – писал философ: «отречься следует от своей особенной воли, от своих вожделений и природных стремлений (Naturtriebe)»
<…> Сложное сочетание и взаимодействие различных идей в мировоззрении Тургенева не может быть названо простым философским эклектизмом уже по двум причинам. Во-первых, таков был «фон эпохи», и аналогичные искания стали типичными для многих мыслящих людей как в Германии, так и в России. Во-вторых, <…> Тургенев как мыслящий художник <…> органично и самобытно воплощал в своём творчестве огромное множество идей и впечатлений, не только не жертвуя при этом собственной индивидуальностью, а напротив, выражая её через их посредство с наибольшей полнотой [ТИМЕ. С. 19–24, 30].
В насыщенных философскими аллюзиями тургеневских произведениях особое внимание отечественных и зарубежных литературоведов по-прежнему привлекает «отражение идей Шопенгауэра»[42]. «Шопенгауэровская нота» у Тургенева исследуется более ста лет и
уже сложилось несколько направлений в изучении вопроса о «шопенгауэризме» И.С. Тургенева: с одной стороны, обозначилась тенденция утверждать влияние философа на идеи писателя, а с другой – наоборот, идеологический спор классиков. Но несомненно то, что русский писатель использовал цитаты и реминисценции из трудов философа в художественных целях: для представления характера персонажа, для отражения его позиций, для формирования картины мира в целом. <…> всё это касается не только лишь онтологических и антропологических вопросов, <но и> проблем<атики> эстетического плана, отражающие взгляды на искусство, в частности, на искусство музыки [ПЕТРОВА С.А. С. 214].
Общепринятым является мнение, что
И Шопенгауэра, и Тургенева волновали онтологические проблемы человеческого бытия. Но в решении этих проблем наблюдаются заметные различия. Шопенгауэр выстраивает законченную философскую систему, в которой мир предстает проявлением бессмысленной воли. Человек при этом условии априори не имеет возможности стать счастливым, поэтому единственным выходом для него является отказ от личной воли, смерть и уход в небытие, эстетическое созерцание. У Тургенева же все-таки можно найти миниатюры, в которых лирический субъект смотрит на мир со светло-грустным настроением («У-А… У-А!», «Голуби») и даже оптимистически («Воробей», «Мы еще повоюем!»). Но перед лицом смерти все краски блекнут, и Тургенев не видит ни малейшего выхода. Не соглашаясь с шопенгауэровским «рецептом» логического и бесстрастного созерцания жизни и смерти, он так и не находит утешения, которое требуется человеческому сердцу в самый драматический момент человеческой жизни [КИСЕЛЕВА. С. 159].
Высказывается также точка зрения, что:
С начала 1850-х годов в сочинениях Тургенева все больше показывается странная двойственность, которую часто описывали исследователи. <…> В.М. Маркович в связи с этим говорит о «двойной перспективе», о «втором сюжете». Изображению исторических событий с точки зрения индивидуума противопоставлен другой «мир», где «…жалуется и стонет Хаос… плачут его слепые очи» («Довольно»). Это совсем не значит, что в творчестве писателя произошел внезапный, совершенный отказ от прежних мыслей. Наоборот: с точки зрения вышесказанного, такое развитие даже имеет свою логику. Тургенев не просто перенял метафизику воли Шопенгауэра, он пользовался ею как метафорой давно возникших собственных чувств и сомнений. «Двойственность» в сочинениях Тургенева является литературной обработкой, художественным продолжением старого, все еще не разрешенного конфликта между индивидуумом и общественным целым. Шопенгауэрскими «настроениями» писатель обращает внимание читателя на этот конфликт, но в отличие от Шопенгауэра он никогда не отказывался от веры в индивидуум и в смысл истории. У него образ «Хаоса» является не «примирением», а «вскриком индивидуума перед закрытыми дверями незнакомого» <…>, которые он хочет открыть. По этой причине нельзя назвать Тургенева настоящим поклонником метафизики Шопенгауэра. Но Тургенев тоже не доверял чисто общественным теориям человечества, в которых подозревал «новую метафизику», новое искусственное сочетание индивидуума и общества, не соответствующее сложности этих связей. Особенно ярко это видно в столкновении Тургенева с А.И. Герценом и представителями народничества [НОЙХЕЛЬ (II)].
Если мотивы глубоко пессимизма, связанные с неминуемость смерти, исследователи склонны приписывать влиянием Шопенгауэра[43], то способность писателя «легко относится к жизни», поставленная ему в упрек Айхенвальдом, на самом деле не что иное, как проявление присущего его мировоззрению антропоцентризма.
Картина мира у Тургенева, <…> это «субъективно-объективный космос», «лирическая вселенная», центром которой оказывается отдельное человеческое я и его сиюминутное состояние. Тургеневский космос эгоцентричен, но не очеловечен, а лишь оживлён [МАРКОВИЧ. С. 66].
Тургенев был первым,
кто в русской прозе обратился не только к философскому осмыслению темы человека и природы в своем творчестве, но и выдвинул степень осознанности своих отношений с природой на центральное место в концепции человека [МУСИЙ. С. 4].
В его представлении:
Природа, с её неумолимыми законами смерти и рождения, вытеснение слабого сильным, старого молодым, тонкого грубым и с сё равнодушием к человеческим идеалам, делает человеческую жизнь бессмысленной, а, следовательно, трагической [МАРКОВИЧ. С. 66–71].
Река времен в своем стремленьиУносит все дела людейИ топит в пропасти забвеньяНароды, царства и царей.А если что и остаетсяЧрез звуки лиры и трубы,То вечностью жерлом пожретсяИ общей не уйдет судьбы.Г.Р. Державин[44]В творчестве Тургенева исследователи усматривают
известную атеистическую и даже выраженную антихристианскую направленность. Так, в письме к П. Виардо 1847 года писатель замечал, что его подавляет «кровавая, мрачная, бесчеловечная сторона этой религии <христианства>, которая должна была бы вся состоять из любви и милосердия».
<…>
Уже в самых первых тургеневских произведениях наметились, условно говоря, два типа героев: цельная природная натура (гармония как данность) и герой с болезненно-разорванным, сознанием, рефлектирующий (гармония как возможная цель). По всей видимости, эти типы восходят к шиллеровским категориям «природного» и «морального»; «наивного» и «сентиментального». <…> Важными категориям при сопоставлении упомянутых тургеневских типов являются категории веры и безверия; чаще в философском, но порой и в традиционном, конфессиональном выражении [ТИМЕ (II). С. 182, 185].
По авторитетному мнению Аскольда Муратова:
для Тургенева человек – раб Природы, который не может выйти из повиновения ей и также приходит к неизбежной мысли о самоубийстве» [МУРАТОВ (II). С. 104].
При всем этом, как утверждает Василий Щукин:
В отличие от пантеистов он не чувствует себя частью природы, не может участвовать в космическом круговороте рождений и смертей. Природа, по его мнению, может быть эстетически прекрасна, но «она равнодушно; душа есть только в нас и, может быть, немного вокруг нас <…> то слабое сияние, которая древняя ночь вечно стремится поглотить» – как писал он в июне 1849 года Полине Виардо.
Не веря в божественное начало, разлитое в природе, Тургенев не верит в существование его вне природы или «над природой» [ЩУКИН. С. 560].
Со своей стороны Владимир Маркович отмечает, что в плане социальном Тургенев заявлял себя как сугубый скептик-индивидуалист[45]. Он
не верил ни в мировую гармонию, ни в категорию общий «роевой» жизни, ни в согласие личности с окружающей её природой и с человеческим обществом, как, например, Лев Толстой [МАРКОВИЧ. С. 72].
Не являясь «верующим человеком», в том смысле, который вкладывает в это понятие обычное, бытовое сознание, Тургенев, по свидетельству его знакомых, был, однако же, очень мнителен и суеверен. Его пугало любое недомогание, смущали черные кошки, белые лошади, любое упоминание о числе тринадцать т. п. Как вспоминает Яков Полонский, в случайно залетевшей в дом птичке[46] он
готов был видеть нечто таинственное.
– Впрочем, – сказал он, – все так называемое таинственное никогда не относится в жизни человеческой к чему-нибудь важному и всегда сопровождается пустяками.
<…> – Ничего нет страшнее, – говорил он однажды, – страшнее мысли, что ничего нет страшного, все обыкновенно. И это-то самое обыкновенное, самое ежедневное и есть самое страшное. Не привидение страшно, а страшно ничтожество нашей жизни…
Несмотря на неприятия религии и неприязненное отношение к ее мистериям, Тургенев, живя в России на людях, неукоснительно демонстрировал свойственное православному человеку бог почитание. Полонский пишет по этому поводу:
…Иван Сергеевич, прежде чем покинуть родное гнездо свое, был уже на закладке часовни, которую строил во имя Александра Невского.
18 июня 1876 г. Тургенев, пребывавший тогда в Спасском-Лутовиново, писал Флоберу:
Передо мной в углу комнаты висит старинная византийская икона, вся почерневшая, в серебряном окладе, виден лишь огромный мрачный и суровый лик – он меня немного угнетает – но я не могу распорядиться, чтобы икону убрали – мой слуга счел бы меня язычником – а здесь с этим не шутят[47].
Весьма примечательна в этом отношении запись, которую после посещения Спасского-Лутовиново в 1881 году сделал Лев Толстой в своем Дневнике:
[9, 10 июля. Спасское-Лутовиново] У Тургенева. Милый Полонской, спокойно занятой живописью и писаньем, неосуждающий и – бедный – спокойный. Тургенев – боится имени Бога, а признает его. Но тоже наивно спокойный, в роскоши и праздности жизни [ТОЛСТОЙ Л. Т. 49. С. 51].
С молодых лет Тургенев видел в факте смерти страшную неразрешимую загадку человеческой жизни и, не находя в философии для себя утешения по сему поводу, завидовал верующим. Об этом он говорит в письме графине Е.Е. Ламберт от 10 (22) декабря 1861 г., написанном в связи со смертью ее любимого брата:
Естественность смерти гораздо страшнее ее внезапности или необычайности. Одна религия может победить этот страх… Но сама религия должна стать естественной потребностью в человеке, – а у кого ее нет – тому остается только с легкомыслием или с стоицизмом (в сущности, это всё равно) отворачивать глаза. <…> Одна моя знакомая <…> была поражена легкостью, с которой человек умирает: – открытая дверь заперлась – и только… Но неужели тут и конец! Неужели смерть есть не что иное, как последнее отправление жизни? – Я решительно не знаю, что думать – и только повторяю: «счастливы те, которые верят!
<…> если я не христианин – это моё личное дело – пожалуй, моё личное несчастье,
– признавался он ей затем в письме от 1864 года [ТУР-ПСП. Т.4. С. 312 и Т. 5. С.129]. Таким образом, можно утверждать, что у Тургенева по жизни существовали определенного рода духовные сомнения, он колебался – между неприятием религии и поиском веры. По-видимому,
Тургенев не мог удовлетвориться пантеистическим решением проблемы соотношения личного и общего, идеей растворения личности в духовно-природном, её поглощения всеобщим. Своим признанием неповторимой духовной ценности, уникальности человеческой личности, располагающей даром внутренней свободы, как своей глубочайшей сущностью, Тургенев, несомненно, выходил за пределы пантеизма, отрицающего божественное бытие вне мира. Этим самым Тургенев сделал шаг в сторону христианского вероучения [КУРЛЯНДСКАЯ. С. 17–18].
На этом пути его герои выступают как
романтики реализма — во имя идеала <они> пытаются исправить недостойную его реальность. То есть, «тоскуют» они, скорее, по идеалу реализма. Сам Тургенев подчеркивал религиозный характер их «пророческой» мысли и деятельности [ТИМЕ (II). С. 196].
Не углубляясь в дальнейшие рассуждения на этот счет, отметим, однако, что ровно через полвека после кончины писателя подобного рода «идейность» была положена в основу метода социалистического реализма.
Исследования христианских мотивов в произведениях Тургенева безусловно представляют большой интерес. Более того они естественным образом «подсвечивают» духовную основу его творчества, – см. об этом [ТИМЕ (II)], [КОНЫШЕВ].
Когда читаешь страницы тургеневских романов, отчётливо ощущаешь христианские корни русской литературы. Герои Тургенева стремятся служить науке, искусству, красоте, народу. Но в любом случае это становится для них чем-то подобным
религиозной вере. Думается, именно это придаёт такое значение, такую масштабность их идейным исканиям [КОНЫШЕВ. С. 176].
При этом, однако, не следует игнорировать собственные декларации Тургенева касательно его атеизма. Все «птенцы гнезда Белинского» были атеистами[48], не отличалось религиозностью и семейство Виардо, с которым Тургенев был связан большую часть жизни. Да и вообще русские «западники» имели в российском обществе, в тургеневскую эпоху уже достаточно секуляризированном, атеистическую репутацию, – см. об этом [БАРСУКОВ. Тт. 6 и 8. С. 84 и 21]. Борис Зайцев, считавший мистику Тургенева по духу чуждой православию, писал о нём: