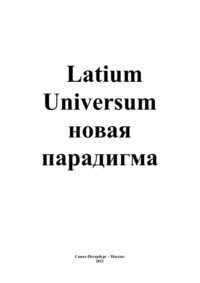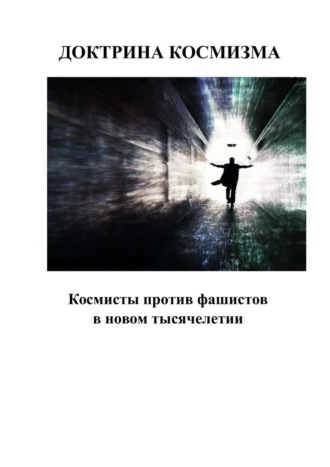 полная версия
полная версияДоктрина космизма
Потом мне очень понравилась идея, которая мне кажется очень важной – идея метапредметов, потому что действительно мы пытаемся ребенка напичкать вот этими знаниями. И я понимаю, что, например, человек математику проходит, но в физике он ее применить не может. Вот абсолютно не соприкасаются, не сопрягаются эти знания. Это все в виде учебников остается. Он может пересказать этот учебник, но применить этот учебник чуть-чуть в другой ситуации – это уже большая проблема. Поэтому мне кажется, это и в образовании, и, наверное, в науке большое будущее лежит именно на этом междисциплинарном – не только на метапредметном – но именно на междисциплинарном уровне. И это я вижу в некоторых других областях моего интереса: генеалогия, генетика, археология, лингвистика. Может быть невероятно серьезный прорыв, с точки зрения того, как устроен был человеческий мир, как он развивался с точки зрения развития языков, народов, геногеографии. И вот этот клубок наук приведет к некоторому новому знанию. Может быть, конечно, вундеркинды, их будущее в прошлом, но Россия всегда славилась своим вот таким гениальным умом, вот такими самородками. Я думаю, что если на что-то и надеяться, нужно надеяться на то, что никакой чиновник, никакой Фурсенко не убьет такой феномен русского человека. Я не буду задавать Вам вопросы, потому что я много задавал по ходу. Это мой комментарий на Ваш замечательный доклад.
Кулиш Олег Олегович, Президент Международного клуба «Экономист», вице-президент Клуба православных предпринимателей, член Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»: Я был заявлен в дискуссии, но честно говоря, я не решился прерывать Юрия Вячеславовича, доклад которого меня просто озадачил, я вам сейчас объясню почему. Дело в том, что – еще раз вернусь к неким словам в начале – здесь регулярно обсуждаются важнейшие вопросы стратегии, тактики, собираются общественные организации, объединения предпринимателей. Я могу сказать совершенно четко и ясно – не надо здесь даже аналогии проводить за многие годы – никто практически никогда на этих мероприятиях, на этих горячих обсуждениях, обсуждая вопрос: куда идет Россия, не ставил вопрос образования вообще. Никто. Налоги – да, изменения чиновничьей среды – да. Но никогда это не звучало и не звучит. Когда мы говорим – Вы сказали, что образование – вопрос государственный, это мы вот, и прежде всего вы – специалисты, которые этим занимаются это понимают и ответственность эту несут. Но государство эту ответственность не видит сегодня, и нет социального запроса общества на качественное образование. И нет на всех уровнях буквально, потому что это даже сама педагогическая среда не формирует этот запрос у себя. И здесь получается огромный разрыв, с одной стороны, высокопрофессиональная – и это доказывают примеры, о которых вы говорили – буквально подвижническая деятельность тех людей, которые работают особенно в тематике инновационного образования, двигая процесс, рисуя эти перспективы, пути движения. Но ведь я могу сказать: а кто этого ждет? Кто сегодня готов ответить на этот вопрос, который задавал Квашнин: а кто пойдет этим путем? Дело в том, что пока мы не решим даже не вопрос, о котором Вы говорили, а я бы на первое место поставил вопрос конкуренции как таковой, которая должна двигать этот вопрос.
Если государство ничего не делает, то, к сожалению, мы достаточно пессимистично можем смотреть на будущее, надеясь на то, что Россия никуда не денется, и, конечно, все пойдет и само собой образуется. Поэтому говорить о том, что сейчас идет реформа, она декларируется, но Вы же правильно говорили, что методом укрупнения создать настоящую науку невозможно. Ее надо вырастить внутри. Вот я помощницу попросил подобрать материал про университет Синьхуа, здесь написано про эту мертвую долину смерти.
Университет Синьхуа – гигантская агломерация, где ходят автобусы и стоят остановки. Прямо через дорогу – Пекинский университет. Два монстра. Они вырастили 145 предприятий, структур китайского университета, 145 реально работающих предприятий. И вот я встречался с ректором. Здание великолепное, и в середине этой огромной агломерации стоит китайский парк настоящий, и в пагоде сидит ректор – современный человек, получивший три высших образования за рубежом, который смотрит на меня с удивлением и вообще не понимает – где Россия, что Россия, и не собирается понимать. Он – глобалист, он там, он мне говорит: что вы, у нас 80% членов Политбюро – это мы, это не пекинцы, это синьхуа. 200 министров в регионах – это тоже мы и все учатся там. Там, видимо, есть запросы и есть здоровая конкуренция, которая заставляет их конкурировать не только внутри, но и с внешним миром. Сейчас они делают кальку со многих приборов, механизмов, которые ломаются несколько раз в день, но они опыт приобретают. Мы ходим, улыбаемся, но они сейчас это преодолеют, там будет такое же качество, как в Германии или Соединенных Штатах. И, конечно, это реализуется через образование.
Но, к сожалению, еще раз хочу сказать, что здесь этот разрыв огромен. И беда в том, что вот эти очень важные исследования, предложения, которые выдвинуло профессиональное образовательная среда, они не имеют даже возможности выходить в широкую общественную среду, в широкое обсуждение. Обсуждается только в узком кругу, и все сводится к тому, хорошо ЕГЭ, плохо ЕГЭ, но не в этом, на самом деле, дело. Надо все, конечно менять.. Не это главное. А вот подмена – это звучало здесь – подмена целей общества, которые таким образом действительно уводят нас от решения других проблем – важная проблема. И, наконец, если доводить эти все размышления и гипотезы до какого-то логического конца, хотя конспирология не самая лучшая часть, но мы же прекрасно понимаем, что таким обществом легче управлять. И конечно, это не цель государства, но методы, к сожалению, такие. И вот мне здесь кажется, что здесь надо думать не только о том, как развивать саму педагогическую науку или инновационную составляющую, а как общество развернуть к теме принципов, потому что, хотя казалось бы, что каждый родитель должен понимать: вот его ребенок и что из него вырастет понятно – ответственность, идеалы, вера, какие-то принципы религии. Но образование – это важная часть. К сожалению, такого понимания я ни разу не слышал, и только могу сказать, что дай Бог, если мы сможем создать такие механизмы, площадки гражданские, общественные, где можно интересы менять.
Вот если двигаться в этом направлении, здесь можно добиться хотя бы какого-то относительного успеха, хотя, экономические реалии совершенно другие. Да, сужается наша поселенческая энергия. Но, увы, таких примеров очень много. Они связаны только с чистыми представлениями получения сверхприбыли и решением тех или иных экономических проблем. Все все понимают, все все видят, но при этом все это происходит. Самый ярчайший пример – недавно сказали, что наша страна – огромная страна, которая производит нефти больше всех. Проходит совещание, сидит президент, все окружение и говорят: ну как же, мы производим больше всего, а по переработке мы на 62 месте в мире? Значит надо что-то исправлять, надо что-то делать. Все дело в том, что вся российская нефть нашими компаниями перерабатывается, только не в России. Куплены все заводы в Европе, по всему миру и она там перерабатывается, оставляя там прибавочную стоимость. И когда таким образом уводятся с территории – может быть действительно стратегические представления о целях развития, абсолютно правильных целях, без него, без формирования понимания этих целей невозможно выжить. Ведь те психологические срывы и личный стресс, в котором находится общество, постоянный стресс связан именно с отсутствием целей, потому что ориентироваться не на что, мы можем только находиться в этом стрессе постоянно. И нет никакого лекарства кроме понятно какого – водка, наркотик.
Громыко Ю.В.: Олег Олегович, очень важно то, что Вы еще в начале сказали про тот доклад, который был в храме Христа Спасителя. Почему? Потому что мне кажется, что вопрос сейчас переходит в плоскость: можно ли, казалось бы под чисто экономические, чисто экономические решения, чтобы там была аксиологическая ценностная подкладка. Почему? Потому что я Вам такой пример приведу, который меня в свое время поразил. Отец Киприан, он затеял фестиваль доброго кино. Когда он в первый раз собрал кинематографистов, они ему стали говорить: отец Киприан, это не будет выгодно, никто не будет смотреть доброе кино. И мне-то кажется, что один из важнейших поворотов, и он, конечно, затрагивает не образование, а вообще общественную жизнь – это вопрос заключается в том, можно ли двигаться против градиента. Т.е. вопреки ему. Вот выгодно показывать ужастики, боевики, глупую, понижающую духовный уровень продукцию.
Кулиш О.О.: Полшага сделал и вернулся.
Громыко Ю.В.: Я понимаю. Но в этом вопрос.
Кулиш О.О.: Я думаю, что это цель образования во многом, чтобы научить ребенка двигаться против градиента ради доблести. И старое образование это делало. И дореволюционное образование, оно принимало это понятие честь – переведем доблесть на более приближенный к Российской империи вопрос чести.
Громыко Ю.В.: Конечно.