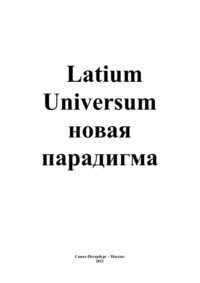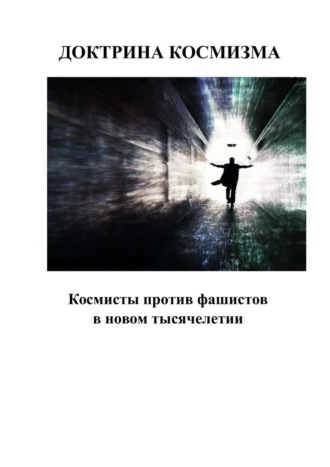 полная версия
полная версияДоктрина космизма
Могу привести такой пример, и это связано с определенным кусочком доклада, в частности прорабатывая доклад «Технологически состоятельная модернизация» мы с рядом из этих людей работали, в частности, например, с разработчиком высокочастотных импульсивных лазеров. Эти лазеры, они выводят на создание кластера почему? Потому что это – станкостроение, новый тип космического корабля, новая энергетика. Но с этой точки зрения, такие заделы, они существуют. Другая группа – синтезгаз – новые двигатели внутреннего сгорания, новые подходы. И есть целый ряд таких разработок. Дальше возникает такой сакраментальный вопрос: почему это не вкручивается в современное производство? И на этот вопрос есть ответ – потому что существует знаменитая, в том числе зафиксированная американскими экономистами, и нашими экономистами, долина смерти. Потому что фундаментальная наука финансируется государством, там где-то появляется венчур – сейчас я скажу, где он появляется – и дальше рынок. Венчур, он где появляется? Венчур появляется на этапе, когда уже созданная вами технология принесла первую прибыль. Тогда венчур возникает как подход к тому, чтобы сбросить деньги, чтобы увеличить прибыль. А вот между фундаментальным открытием, где уже возникла экспериментальная разработка… Т.е. я говорю про очень конкретную вещь, не некоторое теоретическое построение, а есть уже прибор, уже конкретный экспериментальный прибор, и при движении до технологии, вот здесь возникает так называемая долина смерти, где работают исключительно бизнес-ангелы, которые рассуждают так: если из 10 одно решение доползает до конца, то это огромный успех. Вот с моей точки зрения, продвижение в том числе действительно инновационной промышленности, формирование новых отраслей и кластеров лежит именно в этой области, и здесь собственно и находится все то, что связано с проблематикой развития, с подходами к развитию.
Но с этой точки зрения, отсюда в том числе возникает вопрос о том, а как связывать сегодняшнее образование с этими перспективными направлениями и какой должна быть реформа в том числе высшей школы и университетов. Потому что, если мы обратимся к другому очень важному звену российского образования – университету – известная инициатива с федеральными университетами, в части этих инициатив я участвовал – обсуждал Дальневосточный федеральный университет, там часто бываю – то можно зафиксировать следующее, что есть две проблемы, которые не решаются. Первая проблема – это воспроизводство научных школ, потому что здесь я вижу один из самых страшнейших вызовов, потому что если не произойдет обновление российских научных школ, т.е. они не будут воспроизведены, которые в том числе сконцентрированы в Российской академии наук, то, с моей точки зрения, мы останемся без фундаментальной науки. У нас будет какая-то очень странная экспертократическая наука, т.е. когда можно собрать группы экспертов, и они на всяких заседания смогут что-то объяснить, но фундаментальная наука, которая связана с созданием новых моделей, новых идеализаций, новых глубинных гипотез по поводу того, как устроена вселенная, механизмы, природа, у нас ее может не возникнуть. Здесь есть одна очень серьезная вещь. Она связана вот с чем. Если мы посмотрим на организацию того, что я называл долиной смерти в совместной цепочке, то, как ни парадоксально, фундаментальную науку благодаря героизму целого ряда людей, которые продолжали работать, мы сохранили, но что мы потеряли?
Мы полностью потеряли практикоориентированные проектные институты, мы потеряли собственно проектные и конструкторские институты, а на Западе здесь произошла революция в этот период, т.е. там кардинально изменилась эта часть. Появились центры R&D, но даже дело не в центрах R&D – я просто приведу пример. Проделывая этот доклад – «Технологически состоятельная модернизация», мы сотрудничали с такой сетевой группой, которая называется «Фабрика будущего» итальянская. Это группа частных предприятий, которые принадлежат семьям, есть целый район в Риме, где сконцентрированы эти предприятия. И эти предприятия создают новые технологические решения – от мешалок для мороженого до фрагментов информационной системы управления данными Королевской Академии наук. Все работы осуществляются в системе виртуального проектирования. Т.е. известный этот момент, что последний вариант Боинга сначала полностью создавался в виртуальной среде, а потом уже реализовывался. Так же работает эта фабрика. И они являются как раз тем переходником между фундаментальной наукой, т.е. новой экспериментальной идеей, и выходом на технологические рынки. Одна из важнейших проблем российской промышленности и российских научных групп – мы полностью отсутствуем на технологических рынках. Вот здесь возникает огромная проблема.
Но здесь я бы во второй раз не согласился с уважаемым Ярославом Ивановичем Кузьминовым. В чем заключается основная идея Ярослава Ивановича Кузьминова по развитию высшей школы. Очень просто. У нас отставание, надо брать западные R&D, втаскивать их в ВУЗ, и молодых ребят в них вкручивать. С одной стороны – правильно, но тут, кто хорошо знает запанные R&D – мы делали работу для Glass Corporation – японская фирма, поскольку сейчас происходит революция в области стекла, они делают умное стекло – R&D, если мы приводим западные R&D, они не заинтересованы в фундаментальных исследованиях, они заинтересованы в рецептной отработке тех решений, которые созданы корпорацией. Т.е. это не решает вопроса воспроизводства фундаментальной практикоориентированной науки.
Но есть вторая часть, которая не менее важна – это то направление в образовании, которое было связано с формированием так называемого проектного университета. Один из вариантов проектного университета – это наш Физтех, с определенными поправками, а другой – известный классический вариант проектного университета – это Билефельдский университет. Как построено обучение в Билефельдском университете? Когда вы приходите в Билефельдский университет, вы не движетесь по структуре классического образования XVIII-XIX века, сначала изучаете общие дисциплины, потом специализируетесь. Вас сразу вводят в структуру проектной команды. Например, вы приходите в лабораторию, если вы биолог, то будете заниматься раком. Вы начинаете входить в проектную группу, где вы разрабатываете этот проект. Это совсем другой тип образования. С моей точки зрения, вот первая часть – это воспроизводство фундаментальной науки, вторая часть – это собственно разработка проектов и сценариев, т.е. сценарный и проектный подход.
Щербачев О.В.: Т.е. студент должен буквально с первых курсов вводиться в проблему и понимать, для чего он учится.
Громыко Ю.В.: Да. И более того, я считаю, что это колоссальная проблема всех лучших вузов Москвы от Вышки до МГИМО, где происходит так называемый кризис четвертого курса. Человек не понимает, куда и зачем он идет. Это проблема обучения управлению в России, потому что момент какой возникает? Вот в результате обучения управлению я буду уметь вот так пересказывать иностранные книжки по управлению, но ничем не управлять. Т.е. это вопрос, который в американской теории образования называется создание learning organization, создание обучающих организаций, где человек мог бы быть вставлен в практику. И с моей точки зрения, вот эти два основных вопроса, они остаются без ответа, а их надо решать. С этой точки зрения, проблема заключается не в том, чтобы создать огромные федеральные университеты, куда слить все имеющиеся вузы. Что произошло во Владивостоке, да и в Красноярске? Все имеющиеся вузы, они были слиты в один большой обоз, который получил название Федеральный университет.
Щербачев О.В.: В чем смысл всего этого? Я преподаю в МИФИ. МИФИ обладает невероятным количеством филиалов.
Громыко Ю.В.: С одной стороны, линия понятно в чем. Это увеличение ресурсной базы – вот так это обсуждается. Я в свое время на 5 или 6 конференции ректоров стран Азиатско-тихоокеанского региона слушал ту дискуссию, которая происходила, и каждый из представителей вузов, он рассказывал, в чем его ограниченный вуз специализирован, какую задачу он решает, например, исключительно уровень фундаментальных исследований, или инновационные работы в определенной области. Когда выступали наши представители, было сложно построить коммуникацию, потому что выступающие говорили: а мы этим занимаемся, и этим занимаемся, и этим занимаемся. У уважаемого собрания возникал вопрос: а как такое может быть? Пока не встал один человек и сказал, что мы специальную теорию построили про российский университет. Она звучит так: управление университетом в условиях ограничения ресурсов. Потому приходится заниматься всем: и быть рыночно ориентированным, и фундаментальные исследования вести, и хозрасчет. Поэтому когда соединяли, решали этот вопрос. Но он лежит, на мой взгляд, в другой плоскости, потому что есть вопрос о структуре и организации самой модели, потому что если выделять целые модели, т.е. идеальные типы, которые продумывать: немецкий университет с его особой ролью кафедры, совсем другая модель американского университета с особой ролью департамента, то есть вопрос: а в чем следующий шаг.
Причем этот вопрос, он и по отношению к МГУ стоит, и по отношению к замечательному уважаемому МФТИ – в чем следующий шаг университетской модели как таковой, где надо решить вот эти две основные задачи: если мы не воспроизведем фундаментальную науку, мы у себя вырежем что-то страшно важное, без чего просто многое исчезает. А второй момент – это практикоориентированность, т.е. это сценарии и проекты, которые, о чем я говорил, связаны с формированием новых кластеров и новых отраслей промышленности, потому что они уже видны. Мы когда обсуждали эти вопросы с представителями физико-технологического института имени Иоффе, то они на слуху, например, такая отрасль формируется – наноалмазы, где до настоящего момента приоритеты у нас, но уже потихоньку все захватывает Китай, потому что Китай, начиная с 2010 года – и это говорят уже все, и эксперты, и экономисты – он переходит от системы догоняющей индустриализации к системе опережающей. Они очень хорошо осуществили политику релокации, т.е. вернули тех ученых, которые у них были в американских и европейских вузах, сформировали под них кафедры. И ученые физико-технологического института, которые на переднем крае в целом ряде областей, говорят: еще 5-7 лет, и это все необратимо испарится и исчезнет. И это, на мой взгляд, важнейший вызов. Почему?
Потому что за этим стоит перспектива создания новых индустрий, которых мы не знаем, где будет генериться основная стоимость во всем мире, и плюс к этому, карта этих индустрий – это и есть то, что нужно сегодня для развития и высшей школы, и средней. Почему? В Москве мы создали целый ряд различных инновационных учреждений – опять возвращаюсь к уровню среднего образования – например, Школу генеральных конструкторов еще до того как Владимир Владимирович Путин – некоторые даже люди говорили, что он подслушивает, когда он поставил вопрос о восстановлении института генеральных конструкторов, где с детьми, начиная с подросткового возраста и в старшей средней школе можно обсуждать, что это за тип деятельности, и что для этого надо. Ведь на самом деле мы находимся в какой ситуации с точки зрения среднего образования – мы не понимаем, какие типы профессиональных революций произойдут в ближайшее время, а это важнейший вопрос. Т.е. какие изменения происходят в профессиональных полях: как изменилось инженерное образование, потому что у нас здесь огромные упущения. Мы на чем остановились в период кризиса, который на мой взгляд не закончился, а все усиливается, что бы ни говорили разные люди – это то, что нам не хватает инженеров.
У нас очень много юристов и экономистов, но у нас нет инженеров, но при этом в инженерном образовании мировом – в Массачусетском технологическом институте, в Олен-колледже – произошли огромные принципиальные изменения, которые нам не известны просто. У нас просто они не известны. И с этой точки зрения, это – важнейший вызов. Дальше я еще какую интересную вещь хотел сказать.
Вот, скажем, чем занимается Евросоюз. Евросоюз проводит такую очень интересную работу, и несколько докладов они выпустили: с какой скоростью происходит оборот знаний в разных отраслях. Как, например, в фармацевтике, с какой скоростью новое знание доходит до технологии. И ими было зафиксировано, что область, в которой медленнее всего происходит оборот знаний – это образование, и были построены специальные мэньюэлы (руководства), как это делать. Они говорят простую вещь: педагог, обычный педагог, он изолирован от исследовательской работы. Он вроде бы работает со знанием, но он пересказчик чужого знания. Если он не включен в труд – хоть каким-то образом – получения знания, то он не может ребенку объяснить, как формируются знания. И тогда за счет этого закладывается огромное отставание, т.е. если мы всерьез, не при помощи метафор – хотя метафора тоже чудесная вещь – обсуждаем экономику знаний, значит ребенок, а дальше – учащийся, а дальше – взрослый человек – должен уметь работать со знаниями. И здесь одновременно происходят огромные антропологические сдвиги, и сдвиги, которые происходят в том числе в системах новых технологий, потому что сейчас мы живем в системе семантического веба, но все основные интернетразработческие фирмы, они говорят, что мы находимся на этапе формирования эпистемической волны. Это означает следующее. Сейчас в чем основное достижение новых технологий, это – поисковики. За последних три года улучшились поисковики. Это – семантический веб. А дальше появляются экспертные системы, где вы можете разобрать, договориться, что происходит со знанием, и как его использовать. В частности одна из инициатив в системе инновационного московского образования – это создание своеобразного эпистемонета или эпистемотеки, где школьник может использовать интернет для того, чтобы получать экспертную оценку своих гипотез. Т.е. разбираться с тем, как устроено знание.
Это тоже очень важный момент, потому что я говорил про метапредметы, но с этой точки зрения, один из важнейших вопросов – это так называемые технологии метакогниции или метапознания, которые позволяют ответить на вопрос: а как ученые собственно осуществляют исследовательский труд.
Щербачев О.В.: Эвристика…
Громыко Ю.В.: Если брать книги известного философа Степина, то это не совсем эвристика. Почему? Потому что ответить на вопрос: а как устроена научная дисциплина, как, например, устроена экономика. Или, например, прав Полтерович или не прав, когда говорит, что экономика это вообще не наука, а это набор аксиоматических положений, и чем, скажем, это отличается от физики. С другой стороны, известно, что в физике есть такая вещь, как научный предмет, т.е. там онтологии, модели, систематизация знаний, они вообще пригнаны каким-то хитрым образом друг к другу, но следовательно вопрос о том, какую формируют исследовательскую гипотезу ученые… Ведь на что работают и Евросоюз, и Китай, и японцы, и американцы? У них возникают в том числе направления, где они в исследовательский труд – не специализированную работу – в исследовательский труд начинают включать на ранних этапах школьников. В Москве тоже была создана департаментом образования замечательная школа «Интеллектуал», где действительно…, причем не для вундеркиндов, потому что у вундеркиндов другие проблемы, о которых в свое время выдающийся русский советский психолог Выготский сказал, что у вундеркиндов все будущее в прошлом. А это особый тип детей.
С этой точки зрения, на мой взгляд, можно утверждать, что для рывка образования, для превращения образования в средство, которое может за собой потащить инновационное производство, быть ориентированным на развитие все есть. Потенциал есть. Более того, я на что бы обратил внимание. Мы сейчас еще в какой ситуации находимся? Мы находимся в ситуации, где у нас происходит разрушение сельской школы, а это гибельно для территории. Вот это я считаю, то, что ряд представителей Министерства говорят: зачем школа, там мало детей, давайте их сократим – вот это я считаю преступлением, потому что в условиях сокращающейся (есть известное исследование по поводу того) как вообще разрастается поселенческая ткань, сейчас в России она свертывается. И это известно, что если исчезает сельская школа, то сокращается и прекращает там существовать поселение.
Щербачев О.В.: Антиреформа. Чтобы знание пришло в сельскую местность – это очень важно.
Громыко Ю.В.: На самом деле возможен проект, где за счет создания современного – я буду специально говорить – не сельской, а постурбанистической школы, потому что есть вопрос: является ли целью цивилизации это огромное скопление в городах, или на самом деле нам придется рассосредотачиваться все равно, и опухоль Москвы как-то рассасывать. И здесь, на мой взгляд – одно из важнейших направлений развития образования, потому что, на мой взгляд, навскидку, как должна быть устроена современная постурбанистическая не городская школа. Там основным предметом, который должен прорабатывать школьник, должен быть проект переосвоения территории на основе биолого-агрохимического цикла, и этот проект должен являться предметом серьезной проработки и экспертизы. И более того, по результату выхода из школы он должен иметь стоимость зафиксированную, если он разработан. И с моей точки зрения, это все сейчас возможно и за счет интернет-среды, и за счет дидактики, и за счет методики, и за счет имеющихся решений. И с моей точки зрения, это другое направление образования. Вот с этой точки зрения, можно было бы вообще сказать, что если бы молодой человек имел ответ на два вопроса. Первое – стратегический тип занятости, о чем я говорил, т.е. чем можно заниматься, и второй момент – умный дом, в который включается: как построить современный дом, автономная энергетика, автономный транспорт, система мониторинга здравоохранения, система безопасности, т.е. выкладывание поселения из такого своеобразного лего с важнейшими функциональными блоками, то огромная часть молодых людей, она бы просто встала и начала бы переосваивать страну.
Щербачев О.В.: Вместо того, чтобы ехать в эту грязную Москву…
Громыко Ю.В.: Но с другой стороны, опять же, это практически все есть. Я знаю такого очень интересного человека – промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Он занимается сейчас разработкой так называемого 3-D транспорта. Это самолето-вертолет, который, если он будет запущен в массовое производство, он будет стоить как автомобиль иномарка. Дальше какой момент. После того, как они создали эту модель, стали ее использовать, к нему пришел девелопер из Тверской области и сказал: слушай, в нескольких сотнях километров от Москвы я поселок создаю, я своим покупателям подарю по этому вертолету. Почему? Потому что час лететь до Москвы и час до Питера. Т.е. совсем другой тип размещения.
Другой пример, тоже в результате проработки доклада «Технологически состоятельная модернизация». Господин Чернопольский, который создал особый кардиомонитор. Ты открываешь компьютер, нажимаешь на кнопку, и у тебя появляется оксигенизация крови, и можно отслеживать для людей, у которых есть проблемы с сердцем, что вообще происходит. С моей точки зрения, в этом плане целый ряд таких смещений в инновационном образовании: как собственно делать так, чтобы трансформировать на нижнем уровне саму систему образования, чтобы дети были довольны, родители были довольны, у педагогов повышался уровень. С точки зрения технологических решений все есть, это просто надо делать.
Щербачев О.В.: Но ко всему этому у нас еще есть и чиновники.
Громыко Ю.В.: Это да. Но мне кажется, что все-таки проблема… С этой точки зрения тоже очень интересный момент по поводу чиновника. Вот основная беда – коррупция. Мы когда открываем книжки по английской истории, одно из часто встречающихся слов является английское слово venality. Посмотришь в словарь, переводится тоже как коррупция, продажность – кормление на этом месте. При этом все говорят, что английская государственная машина одна из самых эффективных. Может быть, с этой точки зрения, вопрос о борьбе с коррупцией – это на самом деле тоже специально сформированная форма увода в какую-то другую сторону, потому что мне-то представляется, что ситуация немножко в другом. Ситуация связана с отсутствием целей, связанных с тем, куда двигаться.
Другой пример приведу. Вот работая над проблемой технологически состоятельной модернизации в этом году, мы были вынуждены обсуждать очень серьезно и предметно возможность создания в России Федеральной контрактной системы, которая есть в США. Опять же позволю себе не согласиться с господином Кузьминовым, потому что попытка свести Федеральную контрактную систему к закупкам, к контролю за закупками – это вообще полная подмена того, чем является Федеральная контрактная система США. Чем является Федеральная контрактная система в США? Контракт в рамках Федеральной контрактной системы США – это единство экономического, юридического, лицензионно правового решения. Если вы выиграли контракт, вы можете с контрактом пойти в банк, вам дадут деньги на создание производства. И масса физиков, они это прекрасно знают, которые работают в смежных областях и с дуальными технологиями, я имею в виду наших физиков. Но что стоит за такой организацией контракта? За ней стоят не рыночные управляемые цены, и есть сейчас огромное количество книг РЭНД-корпорайшен, где они показывают, что это управление ценами не по законам свободно отпущенного рынка достаточно эффективно. Но самое главное – разработка критериев.
Громыко Ю.В. …. Выполнили ли вы по программе, получили ли нужный продукт.
Т.е. проработка программы это не набор тем и целей, как у нас обычно федеральная целевая программа – ФЦП – а это специально разработанный набор критериев, который позволяет устанавливать соответствие между тем, что было заявлено в программе, и какие результаты мы получили. И на мой взгляд. Это и есть основная проблема, т.е. это проблема выстроенного механизма управления – и с этим сталкивается Счетная палата, потому что мы сотрудничаем со Счетной палатой. Она нам предложила проверить ряд программ. Но там что сразу приходится зафиксировать, что программы составлены так, что даже поднять вопрос о том, то, что люди наработали, вообще соответствует программе – невозможно. У меня к ним возник вопрос: а как вы проверяете? Мы смотрим, суммы испарились или не испарились. Если не испарились, значит нормально все. Но они заинтересованы в восстановлении этой собственно части, связанной с этими показателями.
Мне представляется, и я на этом буду завершать, послушав вопросы, критику, комментарии, что вообще у российского образования пока еще в настоящий момент огромные принципиальные возможности, но они могут быстро учиться. Например, если перестанет существовать инновационная система в Москве, если сейчас мы забили по полной идею с ЕГЭ, при этом когда люди вводили ЕГЭ – я просто прекрасно помню все эти слухи – они мне говорили: представляете, огромные деньги движутся на репетиторов, сейчас уже посчитано, что коррупция возросла в 7 раз. Т.е. появились люди, которые специально готовят к ЕГЭ – к ЕГЭ – за 3 дня! На этом все остановилось, потому что Дмитрий Анатольевич предложил Владимиру Владимировичу всерьез заняться портфолио. И второй момент, он предложил очень серьезно, чтобы выпускник на выходе из вуза тоже такое проходил ОТК, и нужно еще разработать одну экспертную систему. Это страшно огромные деньги. Но на мой взгляд, совершенно не туда. Почему? Потому что с точки зрения образования – это и преподаватели вуза и любой педагог знает, что онто проверяет совсем другое, по крайней мере преподаватель вуза и руководитель аспирантуры, он проверяет уровень понимания человека, т.е. понимает ли он его, потому что какая наука, если он вообще его не понимает. Второй момент – может ли он трудиться, способен ли он к интеллектуальному труду, к интеллектуальной концентрации. Потому что если эти моменты отсутствуют, то в принципе это все бесполезно. И последний момент. С этой точки зрения, конечно, это, на мой взгляд, просто стыдно, что Россия не разрабатывает свои собственные диагностические показатели, что мы взяли ПИЗУ, как известно, финскую, которая пристроена к финской инновационной системе, и по ней оцениваем, может ли наш ребенок решать творческие задачи. С этой точки зрения, Китай делает совсем не так. Китай, признавая ПИЗУ – и надо все признавать, это в любом случае цивилизационное достижение, люди деньги затратили – разрабатывает, в том числе, свои параметры и свои показатели, по которым оценивает и уровень обученности, и уровень развития своих китайских школьников. Поэтому, заканчивая, я бы что сказал: потенциал огромный, но не будет ли он уничтожен, вот в этом вопрос.
Щербачев О.В.: Спасибо большое Юрий Вячеславович. Я на правах ведущего сделаю такой комментарий. Ваш доклад еще надо анализировать, и сегодня, и завтра к каким-то вопросам все время возвращаться. На чем мне хотелось бы сконцентрировать внимание. Действительно, если не будет ребенок, подросток понимать, ради чего он получает образование, то, конечно, такое образование повиснет в воздухе. И я хотел бы обратить внимание на то, что вот формулировка даже в послужном списке чиновника или офицера до революции была не то, что он окончил учебное заведение, он воспитывался в кадетском корпусе. Он воспитывался. Вот на уровне формулировки тогда было само собой разумеющимся, это не обсуждалось. Вот эта терминологическая подмена, которая произошла, она очень важна, она симптоматична.