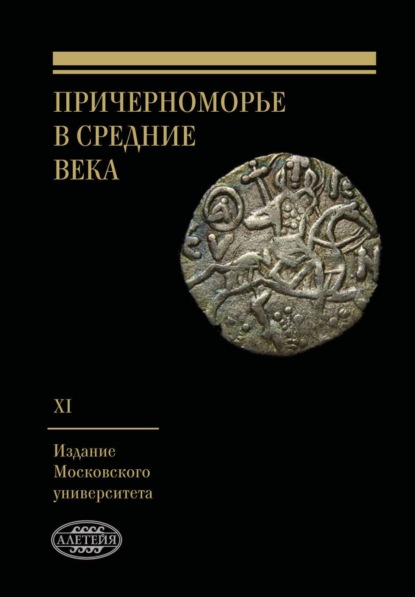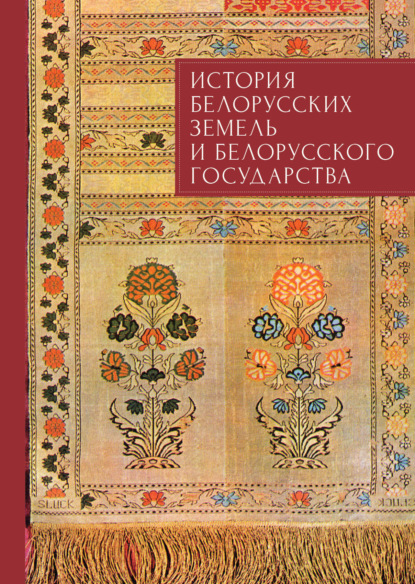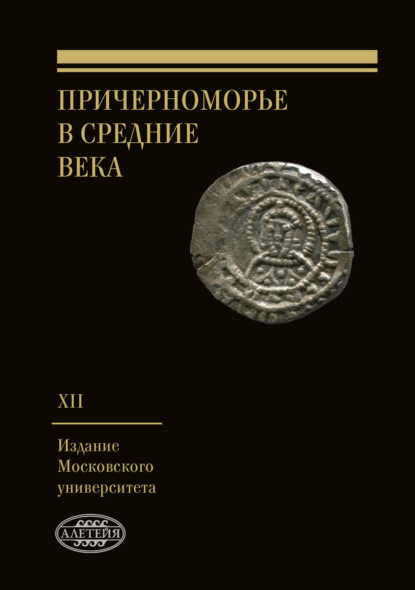Полная версия
От триумфа к катастрофе. Военно-политическое поражение Франции 1940 г. и его истоки
«Дать Франции немного вздохнуть», в первую очередь, означало сворачивание этих обременительных обязательств, пропорциональное сокращение численности действующей армии и уменьшение срока военной службы по призыву. С 1913 г. он составлял три года, и в преддверии войны позволил нарастить численность действующей армии: к 1914 г. на 10 000 жителей во Франции приходилось 56 призывника против 41 в Германии[69]. Однако уже на завершающем этапе войны было понятно, что пережившая огромное перенапряжение, понесшая большие потери страна будет ждать сокращения трехлетнего срока и выдаст соответствующие мандаты своим представителям в парламенте. «Что прежде терпелось перед лицом неотвратимой опасности, с тем плохо мирятся сейчас, после одержанной победы, не говоря уже о том, что в силу естественной реакции против недавнего еще злоупотребления оружием все, что имеет хоть какое-нибудь отношение к сражениям, отталкивает от себя народные массы» [70], – писал де Голль.
Военный советник Клемансо генерал Мордак вспоминал, как сразу после завершения боевых действий в 1918 г. председатель Совета министров говорил о том, что сокращение срока воинской службы с трех лет до года – лишь вопрос времени[71]. «Сокращение срока активной службы, – писал генерал М.-Э. Дебене, начальник Генерального штаба армии в 1923–1930 гг., – является прямым следствием победы. После столь тяжелого и продолжительного испытания решающий успех заставляет облегчить ношу народа, который столь великодушно пошел на неслыханные жертвы ради правого дела»[72]. С 1920 г. проекты военной реформы обсуждались одновременно в правительстве, парламенте и на заседаниях Высшего военного совета, главного органа управления сухопутными силами, в состав которого входили высшие офицеры.
Среди министров имелся почти полный консенсус. Разногласие возникло лишь в 1920 г., когда военный министр А. Лефевр выступил против сокращения срока службы по призыву до 18 месяцев и предложил уменьшить его лишь до двух лет. Однако он оказался в полном одиночестве. Председатель правительства А. Мильеран призывал «не напрягать нервы до предела и делать все для того, чтобы снять нагрузку, если не доказано, что ее необходимо сохранить»[73]. В том же духе высказывался депутат генерал Э. де Кастельно: «Я не готов тридцать лет носить на своих плечах тяжелый груз, который поможет мне избежать опасности через пятьдесят лет. Я просто попрошу о передышке, если таковая вообще возможна» [74]. Депутат Ж. Фабри, один из главных спикеров нижней палаты по военным вопросам, заметил, что полуторагодовой срок военной службы позволит французской армии купировать любую угрозу, которая в тот момент могла исходить от Германии[75].
Высшие офицеры по долгу службы не могли с оптимизмом относиться к сокращению срока службы по призыву, но были вынуждены подчиняться воле политиков и учитывать настроения общественности. При этом они оговаривали, что количества солдат (профессионалов и набранных по призыву) должно хватать для укомплектования такого количества дивизий, которое было необходимо для «обеспечения дипломатических обязательств и внешней политики» Франции. У военных и политиков, таким образом, имелись разные точки отсчета: если первые ставили во главу угла конкретные внешнеполитические задачи, для реализации которых требовалась вооруженная сила, то вторые были готовы подверстать численность действующей армии под достижение политической цели сокращения срока военной службы. В 1920 г. Высший военный совет решил, что французская армия мирного времени должна составлять не менее 41 дивизии, однако правительство настояло на цифре в 32 дивизии[76].
Генералы были готовы пойти на снижение срока службы по призыву до полутора лет, однако считали, что оно несет с собой риски и дальше сокращать его нельзя. Высший военный совет особо указывал на то, что «срок службы длительностью в 18 месяцев является той планкой, при понижении которой национальная безопасность окажется под угрозой»[77]. Кроме того, в Генштабе настаивали на увеличении числа профессиональных военнослужащих до 100 000 человек. «Профессионализация» вооруженных сил являлась одним из вариантов их развития после окончания войны. Генерал Бюа уже в конце декабря 1918 г. писал в своем дневнике, что служба в армии мирного времени «обязательно будет краткосрочной», а значение и количество профессиональных военных серьезно вырастет[78]. Подобная конфигурация могла вписаться во французскую стратегию: профессиональные мобильные контингенты брали бы на себя ответственность за поддержания порядка в колониях и находились «на острие удара» в Рейнской области.
Однако идея «профессионализации» вооруженных сил не только противоречила философии «вооруженной нации», унаследованной Третьей республикой от эпохи Революции конца XVIII в. и ставшей важной частью ее политической культуры. Она вступала в конфликт с опытом Первой мировой войны, которая велась «большими батальонами» – массовыми армиями. Кроме того, на реализацию подобного замысла у французского правительства не было денег: «низкая оплата, альтернативные экономические возможности и неясность в вопросе пенсионного обеспечения препятствовали набору нужного числа профессионалов»[79]. После 1918 г. во Франции наблюдалось падение престижа службы в вооруженных силах. Резко сократился набор в высшую военную школу в Сен-Сире, считавшуюся кузницей французской армейской элиты: «несмотря на послабления при поступлении, выпуски в Сен-Сире были малочисленными… В 1928 г. офицерский корпус насчитывал 25 % выпускников Сен-Сира против 40 % в 1913 г.»[80]. Ряды армии массово покидали квалифицированные офицеры-артиллеристы, находившие высокооплачиваемую работу в частных фирмах[81].
Военные не могли идти против политиков, которые опирались на поддержку общественного мнения. В декабре 1920 г. при обсуждении проекта военной реформы на Высшем военном совете под председательством президента Республики маршал Фош заявил, что при полуторагодовом сроке службы по призыву Франция столкнется с трудностями в части силового принуждения Германии к выполнению мирного договора, однако, в конечном итоге, поддержал предложение правительства[82]. По утверждению Петэна, невозможность полностью опереться на наемные кадры не являлась основанием для отказа от реформы[83]. Принятый в 1923 г. закон сокращал срок службы по призыву до полутора лет. При этом логика военной реформы предполагала и дальнейшее уменьшение срока службы до одного года, о чем в тексте документа имелась специальная оговорка. В то же время Франция не могла себе позволить столь резких сокращений. Уже летом 1924 г. на завершающем этапе Рурской операции для обеспечения оккупации германской территории привлекалось 75 % доступных пехотных полков французской армии[84]. Одновременно шли военные кампании в Северной Африке (Рифская война) и в Сирии (против восставших друзов), для ведения которых привлекались войска из Рейнской области. Лишь во второй половине 1920-х гг. дальнейшее обсуждение военной реформы перешло в практическую плоскость.
Результатом попыток принять во внимание общественный запрос на дальнейшее сокращение срока службы по призыву до одного года с одновременно сохранявшейся необходимостью вести колониальные войны и оккупировать часть германской территории, а также с учетом финансовых трудностей правительства был комплекс законов 1927–1928 гг. Их реализация привела к полной реорганизации вооруженных сил, вышедших из Первой мировой войны. Французская армия уменьшалась до пяти кавалерийских и 25 пехотных дивизий, из которых пять предназначались для действий в колониях и имели высокую степень автономии, формируя фактически отдельную армию. 20 дивизий, составлявших армию метрополии, соответствовали 20 военным регионам, в которых они располагались. С учетом профессиональных солдат (106 000) и солдат, призванных на год и отслуживших полгода, пройдя базовое обучение (120 000), для их комплектации имелось 226 000 человек с военной подготовкой. В случае военной угрозы этот контингент должен был обеспечить прикрытие границы и укомплектовать тыловые учебные центры и штабы, проведя мобилизацию двух дополнительных дивизий в каждом военном регионе[85].

Мари-Эжен Дебене.
Источник: Bibliothèque nationale de France
Начальник Генштаба сухопутных сил Дебене, являвшийся одним из разработчиков реформы 1927–1928 гг., писал: «Армия метрополии, французская территориальная армия, организованная в соответствии с законами 1927–1928 гг., полностью ориентирована на максимально возможную реализацию идеи вооруженной нации»[86]. Действительно, реформированная армия мирного времени не являлась боеготовой вооруженной силой, а представляла собой лишь «костяк для проведения мобилизации и формирования армии военного времени»[87]. В каждом ее полку было лишь два батальона вместо трех, в каждой дивизии – два полка вместо четырех, положенных по штатам времен Первой мировой войны. Реформа предполагала уход от корпусной системы, что затрудняло отработку слаженности действий крупных соединений на маневрах. Профессиональные солдаты занимались не столько собственной боевой подготовкой, сколько обучением новобранцев. В результате обесценивалось их основное преимущество как потенциального фундамента новой армии.
После реформы 1927–1928 гг. призывник, отслужив год, а в реальности 10 месяцев с учетом организационных и логистических факторов, переходил в резерв, в котором оставался на протяжении 19 лет. Предполагалось, что для поддержания боевых навыков он будет регулярно проходить военные сборы в том полку, где отбывал срочную службу. Частота сборов соответствовала трем возрастным группам резерва. Расчет делался на то, что, таким образом, между солдатами сформируется та слаженность, позволяющая им эффективно действовать в бою, которая до 1923 г. возникала в казармах в ходе трехлетней службы. Вот как эта задача объяснялась в документах Генштаба: «Люди, которые будут вместе сражаться на войне, должны иметь предварительную возможность познакомиться друг с другом в мирное время. Они должны уже знать своих командиров, а командиры – их»[88]. На практике добиться этого не удавалось ввиду отсутствия централизованной системы организации боевой подготовки резервистов: к сборам привлекались запасники разных возрастов, которые могли сами выбирать время их прохождения; сохранялись многочисленные отсрочки и освобождения.
В результате мобилизация проходила по следующему сценарию. Действующий полк разворачивался в три полка военного времени. При этом относительно боеспособным был лишь первый, состоявший преимущественно из военнослужащих-«срочников» и недавно отслуживших солдат запаса. В двух других пропорционально увеличивалась доля резервистов старших возрастов (до 75 %)[89]. Реализация подобного «утраивающего механизма» имела несколько важных последствий. Во-первых, мобилизация проходила «поэшелонно», во-вторых, она значительно затягивалась по времени, в-третьих сопровождалась формированием неравноценных войсковых соединений, в которых костяк подготовленных резервистов серьезно размывался. Эти особенности оказывали влияние на военную доктрину, которая, приспосабливаясь к новой структуре вооруженных сил, упрощалась. Армия, укомплектованная в основном резервистами, должна была руководствоваться «катехизисом» четких и понятных инструкций. Кроме того, в силу того же кадрового и организационного перекоса, в ней отсутствовал механизм внедрения тактических и технических инноваций[90].
Складывалась парадоксальная ситуация: французская армия в своей части, готовой к непосредственному ведению боевых действий, лишь вдвое превосходила по численности ограниченный Версальскими статьями Рейхсвер при гораздо более высокой выучке и организации германских вооруженных сил. С точки зрения стратегии реформы 1927–1928 гг. создали ситуацию, при которой Франция оказалась неспособна проводить наступательные операции без объявления всеобщей мобилизации. По точному замечанию Ж. Дуаза и М. Вайса, «миф больших батальонов в сочетании с законом об однолетней службе породил того монстра, которым была французская армия 1930-х гг.»[91].
Некоторые военные считали, что подобная реальность соответствовала задачам, стоявшим перед вооруженными силами. Генерал М. Вейган в 1939 г. вспоминал: «Наши военные законы 1927–1928 гг…создали армию, которая вполне отвечала реалиям Европы, подчинявшейся положениям Версальского договора. Германия была практически разоружена, Рейнская зона оккупировалась союзными войсками в течение 15 лет и демилитаризировалась на неопределенный срок»[92]. Другой генерал писал в 1920 г., что французская армия «может быть лишь армией национальной обороны»: «Она не может быть ни инструментом завоевания, ни постоянной угрозой соседям»[93]. В законе 1927 г. было прямо сказано: «Военная организация страны имеет своей главной целью обеспечение неприкосновенности национальной территории»[94]. Наступательная конфигурация французского развертывания в Рейнской области явно не соответствовала новому видению развития вооруженных сил.
Принятый в 1926 г. и действовавший до 1929 гг. «план А bis» являлся первым послевоенным оборонительным планом стратегического развертывания французской армии. В случае конфликта с Германией оккупационные войска должны были занять оборону и держать ее до окончания мобилизации в тылу[95]. При этом линия концентрации французских войск смещалась на 65 км западнее, чем предусматривалось по «плану П», приближаясь к границе Франции. Пришедший ему на смену в 1929 г. «план Б», разрабатывавшийся одновременно с принятием военной реформы, окончательно ставил перед войсками на Рейне оборонительные задачи. В случае начала войны им предстояло выигрывать время, ведя арьергардные сражения и отступая на заранее обозначенные рубежи[96]. В 1935 г. Петэн признавал, что концепция национальной обороны, выросшая из реформ 1927–1928 гг., «полностью основывалась на допущении, что наш возможный противник не способен в короткий срок выставить мощную армию, и на расчете на то, что при его приближении мы найдем время для подготовки»[97].
Столь глубокая трансформация всей военной машины никем заранее не предусматривалась. Вопрос о том, что будет представлять собой французская армия мирного времени, долгое время оставался открытым. При том, что принцип «неприкосновенности территории» оставался ключевым пунктом военного планирования, это не предполагало перехода к чисто оборонительной доктрине. Рубеж Рейна рассматривался не только как непреодолимая преграда, но и как база для активных наступательных действий. Реформа 1927–1928 гг., на годы вперед лишившая Францию инструмента оперативного проецирования военной силы за пределы своих границ, вызревала постепенно, и важнейшим фактором здесь являлось доминирующее среди политиков и общественного мнения представление о том, что страна, защищенная «щитом на Рейне», находится в относительной безопасности от внешней угрозы. Именно эта идея способствовала смещению приоритетов и позволила подчинить задачи национальной обороны внутриполитическим факторам. Фабри в ходе предварительного обсуждения закона 1923 г. открыто признавал: «Свои построения я делаю, отталкиваясь от факта сохранения оккупационного режима [в Рейнской области – авт.], который установлен на 15 лет. Я не смотрю дальше» [98].
Парламентарии выступали выразителями широкого общественного консенсуса. Его влияние на себе ощущали уже члены так называемой небесно-голубой палаты, сформированной по итогам выборов 1919 г. и получившей свое неофициальное название из-за большого числа бывших военных, занявших депутатские кресла[99]. Народные избранники, по словам Ф. Гельтона, оказались в двусмысленном положении: «Будучи кандидатами в депутаты, они в большинстве своем активно апеллировали к официальной жесткой линии в отношении Германии. В то же время в стенах Палаты и на публичных собраниях они поддерживали более активную демобилизацию и сокращение срока службы по призыву»[100].
Это противоречие постоянно углублялось. Рурский кризис 1923 г., вызванный попыткой силой заставить немцев платить по репарационным счетам, символизировал окончание периода массовой патриотической мобилизации, вдохновленной идеями закрепления результатов выстраданной победы в мировой войне. К 1924 г., отмечает французский исследователь Н. Русёлье, «война виделась скорее источником бедствий, чем каналом политической мобилизации»[101]. Ожидания от силовой операции против Германии не оправдались, действия французского правительства пагубно сказались на состоянии национальной экономики. На этом фоне социальные настроения начали быстро меняться. Проявилась «изнанка» воинственного патриотизма – колоссальная усталость широких слоев населения от войны, военной риторики и, вообще, силовой политики как таковой. Французов, – отмечал младший современник событий, философ и социолог Р. Арон, – «не покидало воспоминание об ужасах войны. По правде говоря, даже правители не верили, что кто-либо… сможет хладнокровно взять на себя ответственность за новую бойню. Допустить, что война фатально неизбежна, значит, говорили тогда, содействовать тому, чтобы она и в самом деле стала таковой»[102].
Антивоенные идеи объединили все французское общество. В авангарде пацифизма стояли объединения ветеранов войны, людей, прошедших окопы и не желавших снова в них возвращаться. К концу 1920-х гг. в рядах ветеранских организаций состояло около 3 млн. человек, а сами ветераны в отсутствии права голоса у женщин составляли до половины французского электората[103]. Их программа представляла собой сложное сочетание патриотизма и антимилитаризма, но пацифизм в ней явно преобладал. Ежегодно в день окончания войны 11 ноября сценами для его демонстрации становились национальный мемориал в Дуомоне, сооруженный в память о погибших в Верденском сражении, и 36 000 мест памяти павших, которые появились в самых отдаленных городах и деревнях. Еще одним столпом массового пацифизма являлись женские организации. Около 600 000 французских женщин остались вдовами войны, многие потеряли отцов, братьев, сыновей. Именно они стали голосом «страны единственных сыновей»[104], для которой потеря каждого человека на фронте являлась частью большой национальной трагедии. В 1921 г. была основана Лига женщин против войны, установившая тесные связи с пацифистскими группами внутри международного женского движения [105].

Мемориал в Дуомоне, современное состояние.
Источник: Paul Arps / Wikimedia Commons
С пацифистских позиций выступали многочисленные крестьянские ассоциации, обладавшие серьезным весом в стране, где половина населения до сих пор проживала в сельской местности и откуда на фронт ушли миллионы призывников. Около половины преподавателей школ и лицеев, отправившихся на войну, погибли, что во многом обусловило яркую антивоенную позицию влиятельного профсоюза учителей. Пацифистские идеи активно внедрялись в школьное образование. В их основе лежала концепция «патриотического пацифизма». Антивоенные идеи должны были вытеснить традиционный для Франции республиканский милитаризм и лечь в основу новой политической культуры страны. Шло «моральное разоружение» французского общества[106]. Маршал Петэн открыто обличал «антипатриотическое влияние» преподавателей на умы молодежи [107]. Против войны резко выступало мощное рабочее движение во главе с социалистической (СФИО[108]) и коммунистической (ФКП) партиями. Франция не хотела больше воевать.
Р. Арон так описывает настроения своего поколения, вошедшего в активную жизнь в 1920-е гг.: «Какая еще война была такой длительной, жестокой и бесплодной, как война 1914–1918 годов? Страсти, придавшие ей легитимность, были чужды и порой почти непонятны двадцатилетним юношам в 1925 году. Большинство из нас пережило эту войну издалека, не страдая от нее. Те же, кто воевал сам или осиротел в этой войне, ненавидели ее тем сильнее, что считали выгоды победы несоизмеримыми с принесенными жертвами. Возмущение выливалось в антимилитаризм. Этот антимилитаризм содействовал в известном смысле деморализации армии»[109].
Эту же мысль выражал де Голль. «В духе нашего времени, – писал он, – есть, кажется, все для того, чтобы терзать совесть профессионалов [военных – авт.]. Повсюду распространяются некие мистические настроения: войну не только проклинают, ее склонны считать устаревшей, и всем хочется чтобы так было на самом деле. О битвах не хотят вспоминать ничего, кроме крови, слез и могил, забывая о величии, которым народу утешаются в своей скорби. Никому нет дела до Истории, черты которой иные искажают для того, чтобы вычеркнуть из нее войну. На военное сословие нападают в самой его сердцевине»[110]. В подобной атмосфере те силы, которые призвали бы страну к оружию ради защиты прав, полученных в Версале в 1919 г., рисковали полной политической маргинализацией. Именно с этим был связан мощный дрейф почти всех французских партий в сторону пацифизма.
В одной точке совпали два процесса: рост антивоенных настроений в обществе и осознание политиками невозможности обеспечить безопасность страны силовыми методами. Знаковым событием здесь стал Рурский кризис, который весной 1924 г. привел к власти левоцентристскую коалицию «Картеля левых» и в то же время показал, что Франции необходима новая германская политика. В декларации своего правительства, представленной парламенту 17 июня, новый председатель Совета министров Э. Эррио объявил о пересмотре курса в отношении Веймарской республики: Франция больше не будет прибегать к силовому давлению и практике «взятия залогов»; ее требования ограничатся лишь репарационным вопросом, после его урегулирования Веймарская республика может быть принята в Лигу Наций; Лиге также предстоит сыграть основную роль в контроле над германскими вооружениями; свою внешнюю политику Париж собирается реализовывать через «международные институты информации, сотрудничества и арбитража»[111]. Сформулированный Эррио лозунг его внешней политики – «арбитраж, безопасность, разоружение» («триада Эррио») – замышлялся как основа нового международного порядка, в рамках которого безопасность покоилась не на силе, а на общей приверженности идеалу мира.
От этих же идей во многом отталкивался А. Бриан, которому в 1925 г. в качестве министра иностранных дел выпало вести трудные переговоры с Германией и Великобританией по вопросу обеспечения европейской безопасности. Этот ветеран французской политики возглавлял правительство в разгар Первой мировой войны в 1915–1917 гг. и уже тогда задумывался о будущем европейской безопасности. В начале 1917 г. его кабинет договаривался с Великобританией и Россией о признании особых прав Франции на Рейнскую область[112]. В тот момент Бриан выступал сторонником традиционной модели сдерживания и поддержания баланса сил. Он руководствовался ей и в 1921 г., когда вновь сформировал правительство. Тогда он без колебаний применил против Берлина силу и к удовольствию Фоша приказал занять ряд городов на правом берегу Рейна после того, как Германия отказалась принять решение союзников по режиму взимания репараций[113].
Однако Бриан не зря пользовался репутацией одного из наиболее гибких политиков своего времени. Одни называли это беспринципностью, другие – даром предвидения. Так или иначе, долгая карьера французского министра знала не один резкий поворот, когда он полностью пересматривал те взгляды, которыми еще совсем недавно руководствовался. Как отмечал Л. Д. Троцкий, до революции 1917 г. живший во Франции и внимательно следившей за политической жизнь страны, «Бриан изучение вопроса заменял чутьем»[114]. Пережив в молодости увлечение социализмом, в зрелые годы он отошел от идеологических догм, став политиком, который интуитивно чувствовал реальность, улавливая скрытые течения общественной жизни и сообразуясь с ними. Именно об этом в своем характерном стиле говорил Клемансо, когда констатировал, что «преимущество [Бриана – авт.] состоит в том, что он не знает, что делает»[115].
В начале 1920-х гг. Бриан полностью пересмотрел свои подходы к решению проблемы безопасности. Заняв в 1925 г. пост министра иностранных дел, он ясно понимал, что поле для дипломатического маневра, имевшееся у него в распоряжении, максимально сузилось. Союзники по Антанте отказались подтвердить гарантии безопасности, данные Франции на мирной конференции. Собственными силами для того, чтобы давать немцам постоянно «чувствовать твердую руку у себя на воротнике»[116], Париж не располагал. Чтобы немцы в будущем вновь не стали врагами, с ними предстояло договориться. Объясняя смысл своего курса на примирение с Германией, французский министр открыто признавал: «Моя политика – это наша рождаемость»[117]. При этом, он осознавал, что в середине 1920-х гг. никакой другой курс не нашел бы поддержки общественного мнения. «Стихийный пацифизм выживших в войне подпитывался той надеждой, которую воплощала фигура Бриана»[118], – отмечает французский историк Ж.-Л. Кремьё-Брийяк.