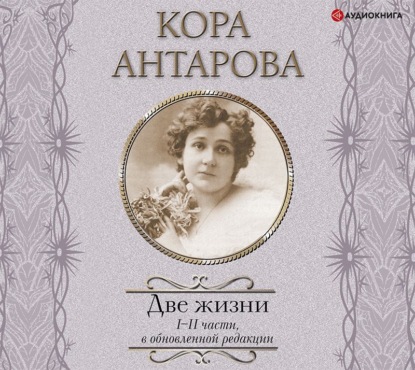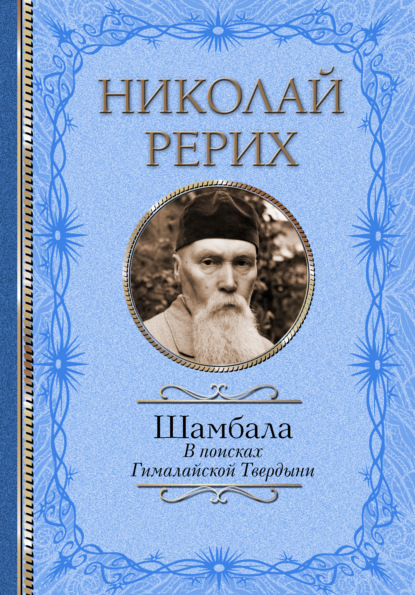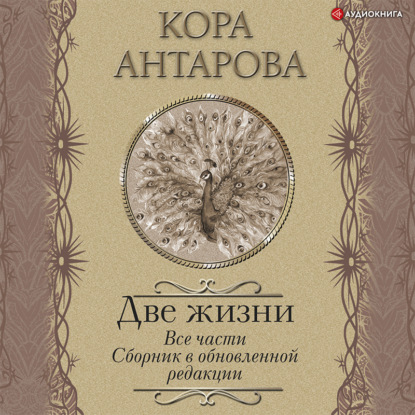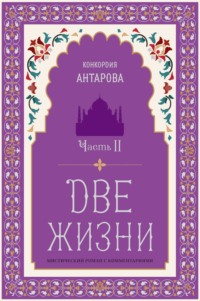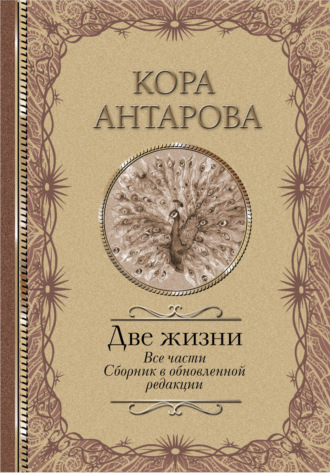
Полная версия
Две жизни. Все части. Сборник в обновленной редакции
Анна была бледна, она похудела. Но в глазах ее уже не было убитого выражения и того отчаяния, какое я видел в них здесь же, во время разговора с сэром Уоми.
На низкий поклон капитана она приветливо улыбнулась и протянула ему левую руку, говоря, что не может оставить зажатых в правой руке цветов.
Он почтительно поцеловал эту дивную руку со сверкавшим на ней браслетом.
«Боже мой, – думал я. – Как страдание и соприкосновение с людьми, одаренными силами высшего знания, меняют людей! Еще так недавно я видел эту гордую красавицу возмущенной откровенным мужским восхищением капитана. И он, стоящий перед нею сейчас так уважительно, с такими кроткими и добрыми глазами, – да куда же подевались капитан-тигр и Анна с иконы? Тех уже нет; нет до основания; а живут новые – вместо тех, умерших».
Я превратился в «Левушку-лови ворон», мысли закипели в моей голове, наскакивая друг на друга, одна другую опрокидывая, не доходя ни в чем до конца, – точно решая вопрос, лучше ли, надо ли, так меняясь, – умирать людям, превращаясь в совершенно иные существа? Зачем?
Мне казалось, я вижу и слышу вопли и стоны тысяч душ, носящихся среди хаоса и оплакивающих свои заблуждения, непоправимые ошибки и молящих о помощи.
– Левушка, что с вами? – услышал я нежный и слабый голосок Жанны.
– Ах, это вы, Жанна? – вздрогнул я, опомнившись. – Я хотел к вам подняться, да, по обыкновению, задумался и тем вынудил вас спуститься вниз, – ответил я, здороваясь с Жанной.
– О, это ничего. Князь мне помог сойти. Ах, Левушка, как же вы переменились после болезни. Вы ничуть не похожи на господина младшего доктора, который утешал меня на пароходе. Дети спят, а то, пожалуй, они бы вас сейчас и не узнали. Вы совсем, совсем другой; только я не умею сказать и объяснить, в чем перемена, – говорила Жанна, усаживая меня и князя в углу магазина.
– Всегда кажется, что переменились люди, которых видим, потому что в самом себе перемену человек замечает с трудом. И только если что-нибудь огромное входит в его жизнь, – только тогда он отдает себе отчет, как он переменился, как выросли его силы и освободился дух.
Вы, Жанна, кажетесь мне не только изменившейся, но вы точно сгорели; и вместо прежней Жанны я вижу страдающее существо. Что с вами, дорогая? Ведь нет никаких причин так тосковать и плакать, – нежно целуя крохотную, детскую ручку Жанны, сказал я.
– Ах, если бы вы знали, вы бы не целовали этой руки, – вытирая катившиеся слезы, ответила мне Жанна. – И перед князем я виновата, и перед Анной, и перед И., ах, что я только наделала и как мне теперь все это исправить? – сквозь слезы бормотала бедняжка. – Я бы уже была здорова, если бы раскаяние меня не грызло. Нигде не нахожу себе покоя. Только когда лежу в кровати, – может, от полога, которым доктор И. закрыл мой уголок, веет на меня успокоением. Когда мне бывает очень плохо, я прижмусь к нему лицом – и станет на сердце тихо!
Я случайно взглянул на Анну и поразился перемене в ней. Склонившись вперед, глядя неотрывно на Жанну, точно умоляя ее замолчать, она сжимала в руках работу, а слезы капали на ее грудь одна за другой. Я понял, какая мука была в ней, как она оплакивала предназначавшийся ей и не полученный хитон, наш отъезд без нее и свое неверное в эту минуту поведение.
– Анна, – крикнул я, не будучи в силах выдержать ее муки. – Отсрочка – не значит потеря. Анна, не плачьте, я не в силах видеть этих слез; я знаю, что значит в тоске безумно рыдать, словно на кладбище.
Не думайте сейчас о себе. Думайте об Ананде; о том огромном горе, разочаровании и ответе его за вашу ошибку, которые легли на него, – упав перед ней на колени, говорил я. – Скоро, сейчас, Ананда и И. придут сюда.
Неужели возможно встретить их таким убийственным унынием, после того как они проводили сэра Уоми? Неужели любовь, благодарность и радость, что они живут сейчас с нами, могут выражаться только в слезах о себе?
– Встаньте, Левушка, – обнимая меня, сказала Анна. – Вы глубоко правы.
Только горькая мысль об одной себе заставила меня опять плакать. А между тем, я уже все поняла, и все благословила, и все приняла.
Сядьте здесь возле меня на минуту, дружок Левушка. Поверьте, я уже утихла внутри. Это отголосок бури, с которым вы вовремя помогли мне справиться.
Много лет я думала, что в сердце моем живет одна светлая любовь. Я убедилась, что там еще лежала, свернувшись, змея ревности и сомнений.
Слава Богу, что она развернулась и раскрыла мне глаза. Ананда получил удар, но все же смог удержать меня возле себя так, чтобы я не выпустила его руки из своей. Вы напомнили мне, что мои слезы задевают все его существо, что он их ощущает, как слезы гноя и крови. Я больше плакать не буду; вас благодарю за ваши слова, они помогли мне.
Она вытерла глаза, подошла к Жанне и, нежно ее обняв, вытерла и ее слезы платком сэра Уоми.
Надрыв, который я пережил, почти лишил меня чувств. Я неподвижно сидел в кресле; сердце мое билось, как молот; в спине, по всему позвоночнику точно бежал огонь; я с трудом дышал и, как мне казалось, падал в пропасть.
– Левушка, ты всех здесь напугал, – услышал я голос Ананды и увидел его возле себя. – Выпей-ка вот это; я думал, что ты сильнее; а ты все еще слаб, – и он подал мне рюмку с каплями.
Вскоре я совсем пришел в себя, спросил, где И., и узнав, что он прошел к Строганову и вскоре тоже будет здесь, совсем успокоился.
Я обвел всех глазами, заметил, что Хава пристально смотрит на меня, в то время как все остальные имеют смущенный вид. Я взял руку Ананды, неожиданно для него поднес ее к губам и сказал:
– Простите мне, Ананда. Я немного половиворонил, чем всех расстроил и привел в такое состояние, что они теперь больше похожи на утопленников. Вот, вы тоже думали, что я крепче; и я обманул ваше доверие. Это мне очень больно; я постараюсь быть сильнее. Но ведь это все пошло от вашей дервишской шапки, – улыбнулся я.
– Нет, мой мальчик, ничьего доверия ты не обманул. И никто здесь не мог обмануть и не обманул меня. Все, что вышло не так, как я предполагал, совершилось только потому, что я был в старинном долгу и хотел поскорее вернуть его сторицей. Я не понял, что не следует так ускоренно двигать людей вперед. Зов дается однажды; я же дал его дважды, за что и понесу теперь ответ.
Я не все понял. Какой, когда и зачем дается зов? Но я понял, что он дал его вторично Анне и что этого не надо было делать.
Голос Ананды – и всегда неповторимо прекрасный – нес в себе на этот раз такую нежность, утешение, такую простую доброту, что все утихли, всем стало легко, чисто, радостно. Лица у всех прояснились и стали добрыми. Каждый точно вобрал в себя кусочек энергии самого Ананды, и когда через некоторое время вошли И. и Строганов, – ни на одном лице уже не было ни тени уныния и слез.
Разбившись кучками, я и Жанна, князь и И., капитан и Строганов, Анна и Ананда, – все как будто окрыленные и обновленные, обменивались простыми словами; но слова эти получали какой-то новый смысл от сияния и мира в каждом сердце.
– Друзья мои. Через день нас покинут капитан и Хава. Завтра мне хотелось бы, прощаясь, угостить их музыкой. Можно ли располагать вашим залом, Анна? – спросил Ананда.
– Как можете вы спрашивать об этом? Ваши песни и игра всем несут столько счастья! Мне же сэр Уоми велел играть и петь людям как можно больше. А уж о восторге музицировать с вами я и не говорю, – ответила она.
Перерыв в работе закончился. Радуясь завтрашней музыке, мы покинули магазин, где с его хозяйками остался только Борис Федорович.
И. с Анандой и князем не смущались зноем и шли довольно быстро, оставив нас с капитаном далеко позади. Я еле двигался; зной, к которому я еще не привык, всего меня истомил, а капитан остался вместе со мной, желая что-то сказать. Когда расстояние между нами и нашими друзьями увеличилось настолько, что расслышать нас было нельзя, он сказал:
– У меня к вам просьба. Я получил сейчас из дома так много денег, что мне их некуда девать. Я хочу часть отдать Жанне – с тем условием, чтобы она никогда не узнала, кто их ей дал. Я знаю, что И. обеспечил ей первые годы работы; знаю и то, что княгиня, до некоторой степени, позаботилась о детях.
Но мне хотелось бы влить уверенность в это бедное существо, которое страдает, страдало и, не знаю почему, как и откуда, но я ясно это сознаю, – будет еще очень много страдать.
За свою скитальческую жизнь я повидал таких существ, – по каким-то, неуловимым для моего понимания законам, – страдающих всю жизнь, даже когда на это нет особых, всем видимых причин.
Сам я уже не успею положить в банк на ее имя деньги, так как эта операция займет не менее двух часов. А дел у меня – ведь я прогулял почти весь день сегодня – будет масса.
Вторую же часть денег я прошу вас взять себе. И если встретите людей, которым моя помощь будет оказана вашими руками, – я буду очень счастлив.
Ну, вот мы и у калитки. До свидания, дружок Левушка. По всей вероятности, мы увидимся только завтра вечером у Анны. Возьмите деньги.
Он сунул мне в руки сверток, довольно небрежно завернутый в бумагу, и мигом скрылся.
В комнате я застал И., рекомендовавшего мне освежиться душем. Но я чувствовал такое сильное утомление, что еле добрел до кресла и сел в полном изнеможении, нелепо держа сверток в руках и не зная, что с ним делать.
На вопрос И., почему я не положу куда-нибудь свой сверток, я рассказал, что это деньги капитана и как он велел ими распорядиться. При этом я передал все, что думал капитан о Жанне.
– Молодец твой капитан, Левушка. Что касается денег для Жанны лично – то он предупредил желание сэра Уоми, который велел мне обеспечить ее. Как капитан угадал мысль сэра Уоми о фрезиях, так и вторую его мысль привел в действие, никем к тому не побуждаемый!
Что касается денег, отданных в полное твое распоряжение, – думаю, что капитан хотел их подарить тебе, дружок, чтобы и ты чувствовал себя независимым в дальнейшем, пока сам не заработаешь себе на жизнь.
– О нет, дорогой И., капитан в очень простых отношениях со мною. И если бы он хотел дать их лично мне – он поступил бы, как молодой Али, оставив их в письме. У меня нет сомнений в этом, и лично себе я бы их и не взял никогда. Думаю, что я слишком неопытен и, быть может, не сумею распорядиться ими как следует.
Но – при вас – и это отпадает. Одно только ясно мне, что деньги эти я употреблю – во имя Лизы и Анны – на покупку инструментов талантливым беднякам-музыкантам, если таких встречу до нового свидания с капитаном. Если же не встречу или вы не укажете мне иного им применения – деньги вернутся к нему. И я очень хотел бы, Лоллион, услышать об этом ваше мнение.
– Поступи, как знаешь, дружок. Запретов тут быть не может. Но почему ты решил, что не оставишь себе этих денег? Разве твой брат не мог бы нуждаться в них?
– Мой брат – мужчина и чрезвычайно благородный человек. Если он решил жениться – значит, он не настолько беден, чтобы не иметь возможности обеспечить жену. А если бы я узнал, что он нуждается, то пошел бы в какую угодно тяжелую кабалу, но послал бы ему только то, что смог заработать сам.
Я и так в бесконечном долгу у вас, у Флорентийца и у молодого Али.
Конечно, я в долгу и у брата. Но если я могу еще рассчитывать возвратить ему свой долг, то уж вам – я никогда не смогу вернуть и сотой доли.
– Все это предрассудок, Левушка. Человек закрепощает себя долгами и обязанностями. Иногда он настолько тонет в мыслях о своих нравственных долгах, что положительно похож на раба, подгоняемого со всех сторон плеткой долга. А смысл жизни – в освобождении. Только то из добрых дел достигает творческого результата, что сделано легко и просто.
Принимай все, что посылает лично тебе жизнь; совершенствуйся, учись и рассматривай себя как канал, как соединительное звено между нами, которых ты ставишь так высоко, и людьми, которым сострадаешь. Передавай, разбрасывай полной горстью всем встреченным все то, что поймешь от нас и через нас. Все высокое, чего коснешься, неси Земле; и выполнишь свою задачу жизни. Но то будет не тяжкий и скучный долг добродетели, а радость и мир твоей собственной звенящей любви.
– Далеко еще, Лоллион, мне до всей той мудрости, которую я слышу и вижу в вас. Я самых простых вещей не умею делать. Все раздражает меня. Иногда даю себе слово помнить о вас, о Флорентийце, поступать так, как будто бы вы стоите рядом, – и при первой же неприятности споткнусь, разгорячусь – и все полетело вверх дном.
– Пока ты будешь повторять себе, – от ума, – что я рядом с тобой, – твое самообладание будет подобно пороховой бочке. Но как только ты почувствуешь, что сердце твое живет в моем и мое – в твоем, что рука твоя в моей руке, – ты уже и думать не будешь о самообладании как о самоцели. Ты будешь вырабатывать его, чтобы всегда быть готовым выполнить возложенную на тебя задачу. И времени думать о себе у тебя не будет… – И. помолчал, думая о чем-то, и продолжал: – Сегодня мы с тобой не будем обедать с князем, которому надо обо многом переговорить с Анандой. Если ты отдохнул, мы можем поехать с тобой к нашему другу кондитеру, заказать ему торт к завтрашнему вечеру и у него же поесть. Но предварительно мы заехали бы в банк: у меня там есть знакомый, который быстро сделает нам все, – и уже завтра Жанна будет извещена о том, что она владелица некоего состояния. При ее французской буржуазной психологии это будет огромным для нее облегчением в жизни.
Я был очень благодарен И. за его неизменную доброту. У меня вертелся на языке вопрос о Генри, о Браццано: хотел бы я спросить кое-что о Хаве, – но ни о чем не спросил, побежал в душ, и вскоре мы уже были в огромном зале банка, где сотни вращающихся под потолком вееров не могли умерить жары.
Одна часть денег была положена на имя Жанны, с правом пользоваться ими как угодно. Вторая была переведена на мое имя по адресу, указанному И., с какими-то мудреными индийскими названиями, никогда мною не слышанными.
Пока мы сидели в банке, ожидая исполнения нашего заказа, я жаловался И., что ничего не могу подарить капитану, давшему мне на память такое великолепное кольцо.
– Не горюй об этом. Капитан очень счастливый человек. Он получил от Ананды кольцо как залог их вечной дружбы. Ананде капитан вернул вещь, имеющую для него очень большое значение. Вообще теперь путь капитана не будет одиноким, и Ананда всегда подаст ему помощь.
Тебе же я могу вручить платок сэра Уоми, точно такой же, какой получила Анна. Если хочешь – подари ему и заверни в него книжку, которую я тебе дам.
Ты можешь написать ему письмо и положить все к нему на стол. Он вернется и будет радоваться этому подарку больше, чем всем драгоценностям, которые ты мог бы ему подарить.
Я от всей души поблагодарил И., сказав только: «Опять все от вас!»
Через некоторое время нас вызвали к кассовому окошку, все было оформлено, и мы пошли к кондитеру, покинув банк почти в минуту его закрытия.
На улице уже не было удушливой жары, слегка потянуло влагой с моря, – и я ожил.
– Трудно тебе будет привыкать к климату Индии, Левушка. Надо будет снестись с Флорентийцем и получить указания, как закалить твое здоровье, – задумчиво сказал И., беря меня под руку.
– Велел мне сэр Уоми ездить верхом, заниматься гимнастикой и боксом, а моя вторая болезнь все перевернула, – ответил я.
Дойдя до кондитерской, мы отдали хозяину наш заказ на завтра. Я просил его приготовить непременно такой же торт, какой был сделан для принца-мудреца. Накормив нас опять на том же уединенном балконе, хозяин сообщил новость, взбудоражившую Константинополь.
На этой неделе произошли невероятные события. Один из самых больших богачей города, некто Браццано, и около десяти его приятелей – таких же биржевых воротил, державших в своих руках весь торговый Константинополь, оказались шайкой злодеев, объявили себя банкротами и разорили тем самым половину города, в том числе и некоторых друзей кондитера. Часть злодеев успела бежать, часть арестована; а где находится главарь их, Браццано, никто пока не знает.
Мы выслушали его рассказ, посочувствовали горю его приятелей и вернулись домой.
Мысли о Браццано и слова сэра Уоми о том, что мой поцелуй перенес силу мирового закона пощады в его ужасную жизнь, не давали мне покоя. Я опять стал внутренне раздражаться от обилия каких-то таинственных событий и готов был крикнуть: «Я ненавижу тайны», – как услышал голос И.:
– Левушка, не все то тайна, чего ты еще не понимаешь. Но если ты собираешься обрадовать милого капитана и написать ему письмо, то в состоянии раздражения, в которое ты впал, ничего не только радостного, но и просто путного не сделаешь.
Возьми мою руку, почувствуй мою к тебе любовь и постарайся вместе с этим платком сэра Уоми передать всю свою чистую и верную дружбу капитану.
Приготовь в своей душе такое же тщательно прибранное рабочее место, как это сделал на твоем столе капитан, поставив тебе цветы, которых ты до сих пор не заметил.
Пиши ему не письмо, обдумывая стиль и каждое слово. А брось ему цветок твоей молодой души, полной порыва той высокой любви, которая заставила тебя дать поцелуй падшему, но разбитому и униженному существу.
Дай капитану такой же прощальный привет, как давали тебе его и Флорентиец, и сэр Уоми. Они думали только о тебе. Думай и ты только о нем.
Постарайся войти в его положение; подумай о предстоящей его жизни и представь себя в таких же обстоятельствах.
Любовь к человеку поведет твое перо с таким тактом, что капитан поймет и увидит в лице твоем друга не временного, в зависимости от меняющихся условий; а друга неизменно верного, готового явиться на помощь по первому зову и разделить все несчастья или всю радость.
И. стоял, обнимая меня, голос его звучал так ласково. Я точно растворился в каком-то покое, радости, благоговении. Все мелкое, ничтожное отошло прочь.
Я увидел самый высокий, скрытый от всех, храм человеческого сердца, о котором не говорят, но который движет и животворит все, что ему встречается.
Мне стало хорошо. Я взял из рук И. синий платок, пошел в его комнату за обещанной книгой и вернулся к себе, чтобы сесть за письмо.
Не много писем писал я на своем веку с такой радостью и с такой умиленной душой, как писал в этот раз капитану. Точно само мое сердце водило моим пером, так легко и весело я писал.
«Мой дорогой друг, мой храбрый капитан, который еще ни разу в жизни не любил до конца, не был ни верен, ни бесстрашен до конца, – писал я. – В эту минуту, когда я переживаю разлуку с Вами, – и кто может знать, как долго продлится она, – сердце мое открыто Вам действительно до конца. И все мысли моей ловиворонной головы, как и все силы сердца, принадлежат в эту минуту Вам одному.
Пытки разлуки, так томящей людей, пытки неизвестности, заставляющей оплакивать любимое существо, покидающее нас для нового периода неведомой жизни, – не существует для меня.
Я знаю, что как бы ни разлучила нас жизнь и куда бы ни забросила она каждого из нас, – Ваш образ для меня не страница жизни, не ее эпизод. Но Вы мой вечный спутник, доброта и любовь которого – так незаслуженно и так великодушно мне отданные – вызвали во мне ответную дружескую любовь, верность которой сохраню и навсегда, и до конца.
Я не могу сейчас определить, как и чем я мог бы отплатить Вам сколько-нибудь за всю Вашу нежность и баловство. Но я знаю твердо, что куда бы и когда бы Вы меня ни вызвали, – если моя маленькая помощь Вам понадобится, – я буду подле Вас.
Ваше желание относительно Жанны уже исполнено. И завтра она будет владелицей своего капитала, за что – я не сомневаюсь – боги воздадут Вам должное тоже «до конца».
Вторая часть денег, отданная Вами в мое личное распоряжение, назначается мною для помощи бедным музыкальным талантам. Во имя Лизы и Анны, как бы я хотел когда-нибудь услышать Лизу, я буду покупать инструменты и помогать учиться юным талантам Вашим именем, капитан.
Я не ручаюсь, что, обнимая Вас, держа Ваши тонкие, прекрасные руки в своих при нашей разлуке, – я не заплачу. Но это будут только слезы балованного Вами ребенка, теряющего своего снисходительного и ласкового покровителя.
Тот же мужчина, который Вам пишет сейчас, благоговейно целует платок сэра Уоми, который просит Вас принять на память, как и книгу И. И этот же друг-мужчина говорит Вам: между нами нет разлуки. Есть один и тот же путь, на котором мы будем сходиться и расходиться, но верность сердца будет жить до конца.
Ваш Левушка-лови ворон».Я запечатал письмо, завернул книгу И. в платок и обернул в очаровательную, мягкую, гофрированную и блестящую, как шелк, константинопольскую бумагу, обвязал ленточкой, заткнул за нее самые лучшие, белую и красную, из роз капитана и отнес к нему в комнату, положив сверток на ночной столик.
Спать мне не хотелось. Я вышел на балкон и стал думать о сэре Уоми. Как и где он теперь? Как едут с ним и доедут ли фрезии капитана? Посадит ли он их в своем саду?
Через несколько минут ко мне вышел И. и предложил пройтись. Мы спустились в тихий сад, кругом сверкали зарницы и вдали уже погромыхивал гром. Все же мы успели подышать освеженным воздухом, поговорили о планах на завтра, условились о часе посещения княгини и Жанны и вернулись в дом с первыми каплями дождя, столь необычно редкого в это время года в Константинополе.
Утро следующего дня началось для меня неожиданно поздно. Почему-то я проспал очень долго. Никто меня не разбудил, и сейчас в соседних комнатах стояла полная тишина.
Я как-то не сразу отдал себе отчет, что сегодня последний день стоянки капитана; что завтра к вечеру еще одна дорогая фигура друга исчезнет из моих глаз, плотно поселившись в моем сердце и заняв там свое место.
«Не сердце, а какой-то резиновый мешок, – подумал я. – Как странно устроен человек! Так недавно в моем сердце царил единственный человек – мой брат. Потом – точно не образ брата сжался, а сердце расширилось – засиял рядом с ним Флорентиец. После там поселился, властно заняв не менее царское место, сэр Уоми. Теперь же там живут уже и И., и оба Али, и капитан, Ананда и Анна, Жанна и ее дети, князь и даже княгиня. А если внимательно присмотреться, – обнаружу там и Строгановых, и обоих турок, и… Господи, только этого недоставало, – самого Браццано».
Уйдя в какие-то далекие мысли, я не заметил, как вошел И., но услышал, что он весело рассмеялся.
Опомнившись, я хотел спросить, почему он смеется, как увидел, что сижу на диване, держа в руках рубашку, в одной туфле, завернутый в мохнатую простыню.
– Ты, Левушка, через двадцать минут должен быть со мною у Жанны; мы ведь с тобой вчера об этом договорились. А ты еще не оделся после душа, и, кажется, нет смысла ждать тебя.
Страшно сконфуженный, я заверил, что будем у Жанны вовремя. Я молниеносно оделся и у парадных дверей столкнул я с Верзилой, принесшим мне записку от капитана.
Капитан писал, что дела его идут неожиданно хорошо и что он ждет меня к обеду у себя на пароходе в семь часов, с тем чтобы к девяти часам быть вместе у Анны.
Я очень обрадовался. И. одобрил предложение капитана, а Верзила сказал, что ему ведено в шесть с половиной зайти за мной и доставить в шлюпке на пароход.
Мы помчались к Жанне. Я был так голоден, что, не разбирая жары и тени, бежал без труда и ворчания.
– Я вижу, голод лучшее средство для твоей восприимчивости к жаре, – подтрунивал надо мною И., уверяя, что Жанна не накормит меня, что в праздник ей тоже хочется понежиться и отдохнуть.
Но Жанна была свежа и прелестна, немедленно усадила нас за стол, и французский завтрак был мною и даже И. оценен по достоинству.
Когда мы перешли в ее комнату, где весь угол с кроватью был задернут новым, необыкновенным пологом, Жанна показала нам бумагу из банка, полученную ею рано утром, содержания которой, написанного по-турецки и английски, она не понимала.
И. перевел ей на французский язык смысл бумаги. Жанна, с остановившимися глазами, в полном удивлении, молча смотрела на И.
Долго, томительно долго просидев в этой напряженной позе, она наконец сказала, потирая лоб обеими руками:
– Я не хочу, я не могу этого принять. Поищите, пожалуйста, кто это мне послал.
– Здесь никаких указаний нет, даже не сказано, из какого города прислано.
Говорится только: «Банк имеет честь известить г-жу Жанну Моранье о поступлении на ее имя вклада, полной владелицей которого она состоит со вчерашнего дня», – прочел ей еще раз выдержку из банковской бумаги И.
– Это опять князь. Нет, нет, невозможно. От денег для детей я не имела права отказаться; но для себя – нет, я должна работать. Вы дали мне в долг так много, доктор И., что не все ваши деньги ушли на оборудование магазина.
И мы с Анной заработали уже гораздо больше, нежели рассчитывали. Я должна вернуть это князю.
– Чтобы вернуть князю эти деньги, надо быть уверенной, что их вам дал он.
В какое положение вы поставите себя и его, если ему и в голову не приходило посылать деньги! Успокойтесь. Вы вообще за последнее время слишком много волнуетесь; и только поэтому так неустойчиво ваше здоровье. Час назад вы походили на свежий цветок, а сейчас вы больная старушка, – говорил ей И. – Все, в чем я могу вас уверить, так это то, что ни князь, ни я, ни Левушка – никто из нас не посылал вам этой суммы. Примите ее смиренно и спокойно. Если удастся – сохраните ее целиком для детей. Быть может, встретите какую-нибудь мать в таком же печальном положении, в каком вы сами оказались на пароходе, – и будете счастливы, что ваша рука может передать ей помощь чьего-то доброго сердца и, возможно, спасет несчастных от голода и нищеты.