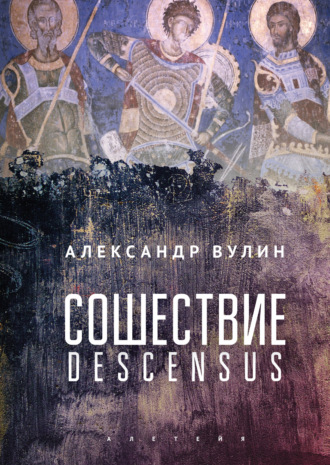
Полная версия
Сошествие/Descensus
Рассматривая тракторы, на которых сохранились таблички уже несуществующих общин и государств, Срджан и Деличи пытались восстановить историю жизни их хозяев: Этот бежал от Бури[2], а вон тот должен был ехать через Купрес, а у этого крыло пробито гранатой, будто он проехался по Трпиньи, в этот подожгли, когда его хозяин пытался пробиться через узкое горло коридора.
Нигде в мире ни одна машина, созданная для плуга и нивы, не перевозила такого количества людей. Груженные чадами и домочадцами, а также прибившимися близкими и дальними, набитые облупившейся мебелью, снами и кошмарами, страхами и жалобами. С могильными крестами и полуистлевшими дорогими останками, с скотом и кормом для него, с дровами и мольбами. Сильнее смерти и выносливее, чем было запланировано конструкторами, они тянули на себе вместо плугов караваны отчаяния, спасая тех, кто бежал. Они, тянули борозду, перепахивая навечно путь, по которому вернуться назад нельзя.
По левую сторону дороги возле просторной стоянки притулился ресторанчик Белый ягнёнок. Рядом с надписью нарисованный дедок в пастушьей шапке поднимал кружку пенного пива, улыбаясь в усы и приветствуя путников. На стоянке уже толпился народ: курили, гомонили, приветственно окликая новоприбывших. Срджан, Мрджан и Младжан остановились, кивая знакомым лицам, которых было довольно много на этом пятачке, ожидая чтобы Жёлтый представил их нужным людям.
Все собравшиеся знали, зачем сюда пришли, однако вслух никто не упоминал и не озвучивал цель собрания. Собравшиеся здесь люди были похожи: прошедшие через сито войны они не смогли себя найти в мирной жизни и сейчас откликнулись на зов. Сейчас они чувствовали себя будто перед свадьбой или похоронами, поэтому не знали что делать и томились в ожидании какого либо действия. Прибытие Деличей и Срджана всколыхнуло их, убедив, что недаром собрались они этом утром у ресторана Белый ягнёнок. Трое друзей были известны как искусные воины, как храбрые и отважные люди, которым можно верить, а уж о Срджане каждый рассказывал свою легенду, в которой либо присутствовал, либо услышал и пересказал, приукрасив. – А вот и Медведи! – шептался народ, указывая на них пальцами. Эта фраза звучала почти также как на войне, когда они появлялись на сложных участках фронта. Они были Медведи. Группа майора Малешевича были надеждой армии, и долго, как сказал бы Срджан, слишком долго, верили в то, что они её гордость.
Но для тех, кто этим утром томился на стоянке в ожидании переклички, которая изменит их жизнь и судьбу, они всё ещё были гордостью и надеждой. Ветераны, толпящиеся у дороги, помнили о том, кем они были и когда их выстроили в очередь, им, этим людям, на плечах которых, привыкших к военной форме, неуклюже топорщились кожаные дешёвые куртки, в присутствии самих легендарных Медведей было легче побороть сомнения и страх.
Внутри за деревянной барной стойкой, потемневшей от времени и дыма, на единственном высоком стуле, спиной к входным дверям, сидел человек лет сорока. Щеголеватый, в сером костюме и белой рубашке с крахмальным воротником, в тёмных очках Ray Ban, несмотря на плотно занавешенные окна и полумрак внутри ресторана. Кукловод. Толпа зашелестела, передавая информацию остальным. И волнами поползло: говорили, что он может всё, что он шеф сербской тайной службы, что он и западный, и восточный шпион, что его не раз убивали, а он ещё жив, что во время войны он был в контакте и с сербским, и с хорватским, и с мусульманским генеральным штабом. Ещё говорили, возбужденно жестикулируя, что он голыми руками задушил огромного (как комод!) человека, лишь за то, что тот пролил ему на галстук пиво. Говорили, что он разбогател на торговле оружием, людьми и наркотиками, и что его беззвучного смеха боялись даже самые безбашенные и отмороженные. О нём шептали, что он был наёмником ещё во времена Тито, и с тех пор держит на крючке всех политиков.
Никто не знал его настоящего имени. Его называли Кукловодом, поскольку он дёргал людей за верёвочки, зная их слабости и используя их. Его холодные как у вчерашнего трупа руки, всегда были спокойны, улыбка – вежливой, а глаза – доброжелательны. Но даже спустя годы и жертвы, и партнёры Кукловода просыпались ночами, вспомнив его лицо. Шли даже слухи, что Кукловод использовал только слепых проституток, чтобы они не могли ни запомнить его, ни посмотреть ему в глаза. И что прежде, чем предстать перед ними нагишом он с ног до головы обливался одеколоном, чтобы его не выдал запах собственного тела, а в момент наивысшего наслаждения гасил в себе всякий звук или стон, чтобы его голос не запечатлелся в чьей-то памяти.
Те, кто думали, что знают больше, чем остальные, говорили о том, что нет такого человека, убеждая, что Кукловод – это и есть сама Контора. Контора – это имя, которое народы Югославии дали тайной полиции. O Конторе, о её мощи и вездесущности рассказывали легенды. Люди верили, что тот, за кем не следит Контора незначителен и не заслуживает упоминания. Неважно, друзей она искала или врагов, но Контора точно и без промахов определяла место в обществе и роль каждого. Подтверждая эту истину Кукловод олицетворял мощь, привлекая и ужасая одновременно и люди, как заворожённые светом свечи бабочки, слетались на огонь, точно осознавая его опасность. Вот и сейчас он, тихий и спокойный, почти добродушный, сидел, глядя на людей вроде бы безучастно, а тем не менее после его короткого взгляда в их сторону наступила гробовая тишина.
– Добро пожаловать, господа. Мы всё знаем, почему здесь собрались – сказал Кукловод деловым тоном. Губы его едва шевелились. Голос был сух. – Я предлагаю вам работу вашей мечты. Заир, Африка. Люди Кабилы развязали гражданскую войну. Наш друг Мобуту Сесе Секо просит о помощи приятелей по всему миру. Работа лёгкая, противник – необразованные дикари, которые ружья в руках никогда не держали. Земля чертовски богатая. Власти – никакой. Рай для решительных и способных. Заплатят много, вам признают все чины, да ещё и дадут на порядок выше. Господа, предложение действительно только здесь и сейчас. Мои сотрудники – он кратким движением руки, в которой змейкой блеснули серебряные чётки, указал группку столпившихся возле Жёлтого людей – дали мне всю информацию. Никто из вас не знаком со мной, но я знаю вас всех, некоторых – особенно хорошо.
Мрджану показалось, что Кукловод на долю секунды дольше задержал свой взгляд на Срджане. – Я знаю, что вы не упустите такой возможности. В остальном – дальнейшие слова он произнёс размеренно, сопровождая каждое звоном бусинки чёток – если кто-то не едет, на его место мы приведём десяток более сообразительных и смышлёных. Надеюсь вы понимаете это.
И опять на толпу легло глухое одеяло тишины. А слова поднялись вверх, к потолку и остались висеть там как дамокловы мечи: решительные и острые. Беззвучно, как тень Кукловод поднялся со стула и сопровождаемый вооружённой охраной покинул ресторан. И только тогда, когда одинокий стул возле стойки и звук уезжающего автомобиля подтвердили его уход, бывшие военные, будущие контрактники, набрались мужества, чтобы заговорить. – Кукловод, Африка! – раздавалось по углам. Они вновь и вновь повторяли эти слова, глядя друг на друга и сталкивая с глазами, в которых плескались такие же желания, и те же вопросы. Они хотели верить в то, что они слышали и есть истина. Они хотели бы, чтобы то, что они слышали и было истиной. Они хотели чтобы кто-то ещё кроме них самих укрепил их, терзаемую страхом, веру. Но всё проходит, в том числе и сомнения: один за другим будущие наёмники подходили и записывались, делая окончательный выбор. Отправление назначено через семь дней. У них ещё оставалось достаточно времени на алкоголь, похвалы, плач и проводы, если, конечно, было кому их провожать. Через семь дней их снабдят документами, поделят на группы, раздадут оружие и дальше пойдёт всё своим чередом – так думали они. Или, по крайне мере, хотели надеяться.
Те, кто согласились продать себя, получали аванс к которому прилагалось чувство собственного достоинства о наличии которого многие уже забыли. И они ринулись жить отведённую им неделю так, как будто она чужая и им выдали её в кредит. Они бахвалясь, рассказывали встречным и поперечным о своих будущих подвигах так, как будто они уже произошли. Они заполонили рестораны, бары, ночные клубы и публичные дома. Они пили так, будто завтрашнего дня не будет, и легко выкидывали деньги на ветер, поскольку это были деньги, заработанные торговлей собственным мясом.
Это была редкая неделя в жизни Срджана, Мрджана и Младжана, когда они расстались. Мрджан и Младжан поехали с визитом к родственникам, поехали повидать, бывших жён и их новых друзей, и даже умудрились во время особенно буйного пьянства, заехать в Сербию. Срджан не покидал Баня-Луку, большую часть времени проводя на реке Врбас, где днями рыбачил, несмотря на непогоду. Он не хотел никого видеть, а холодная река охотно отвечала этой его прихоти. Его единственным компаньоном был вокмэн непонятного происхождения, купленный на рынке. Дженис Джоплин, Джими Хендрикс, Боб Дилан – музыка и герои молодости Срджана, чьи сообщения он больше не мог ни расшифровать, ни понять. Река Врбас задыхалась от тишины, на её берега не забегали даже бродячие собаки. Только изредка нарушали мёртвую тишину звуки подводного взрыва, когда люди, желающие быстрой прибыли кидали в реку самодельные бомбы глуша рыбу. Взрывы выбрасывали на берег ошеломленно зевающую добычу: крупную рыбу уносили браконьеры, а напрасно погибшая мелочь гнила на берегу. После каждого такого набега Срджан расчищал себе место для рыбалки, чтобы не сидеть в окружении дохлой рыбы с отупевшими глазами.
В редких и мелких волнах Врбаса Срджан пытался увидеть своё прошлое, разглядеть своё будущее. Словно в сказках, которые рассказывались когда-то длинными зимними вечерами, Срджан искал ответы, хотя изначально знал, что искать их нужно лишь в себе самом, а не в мутной воде, в которой ничего нет, кроме ила. Невозможно найти ответ в реке, которая, как и жизнь Срджана, из чистой полноводной красавицы превратилась в сточную канаву, на берегах которой гниют останки редеющего рыбного обилия. Легконогую жизнь всегда уравновешивает бремя сомнения. Но когда если жизнь показывает человеку истинный суровый свой лик, то вера и надежда не покидают лишь храбреца. И лишь храбрецы, поддерживаемые собственным упрямством могут многое. Но если человек сдаётся, если он слаб, если его терзают сомнения, то пиши пропало: человек остаётся только с грузом собственных мыслей, которые будут травить его ядом, пока он не сгниёт в бездействии и тоске. Спасение одно – искать в себе самом источник надежды. Откапывать его в каменной пустыне своей души. Срджан уже давно перестал черпать силу из своего источника. Но на дне уже иссякшего родника хранились некие крохи: пару горстей живительной надежды. Говорят, что на войне и в несчастье человек познаёт Бога. Говорят, что когда возле уха свистят пули и нет разумного объяснения, почему кто-то остался жив пор кромешным огнём, а кто-то умер от нелепой случайности, находясь в полной безопасности, люди начинают верить. Если не в Бога, то в судьбу. И познавать мир, в котором им довелось родиться.
Возле ушей Срджана просвистело сотни пуль, но ни особой веры, ни особого просветления он не почувствовал. Веру Срджан не мог найти сам, а надежда ушла, махнув на него рукой. Он оказался совсем один на дне той ямы в которую загнал прежде всего сам себя, хотя и при поддержке злых времён и добрых людей. На дне ямы валялись сломанные мечты Срджана, в которые он когда-то играл, радуя Бога. Сейчас там, лежа среди радужных осколков себя, Срджан учился задавать вопросы и отвечать на них. Он снова и снова выводил себя на экзамен, пропуская через сито души и выделяя то, что даст ему силы не отступить перед бедой, не сломаться под гнётом ненависти или унижений. Он помнил, как ему говорили, что живыми в гроб не ложатся, что терпение и страдание абсолютно естественны, и они даются в жизни всем и избежать их невозможно. Срджан молился себе самому, поскольку забыл как это – молиться кому-то и надеяться на кого-то. Он молил себя, потому что не хотел подвести себя. Он пытался собрать хоть какую-то цельную вещь из валяющихся в яме души, осколков. Собрать и хоть как-то склеить.
К концу недели он нашёл в себе достаточно сил, чтобы начать собираться в дорогу. В большую дорожную сумку он сложил привычный багаж – носки, бельё, армейская рубашка, простреленная над правым плечом (тогда выстрел ушёл по касательной и не оставил после себя даже царапины, и с тех пор Срджан везде носил эту замызганную зелёную тряпку с собой как талисман). Он закинул в мешок ещё пару вещей и, хорошо подумав, взял с полки над кроватью несколько книг. Прежде всего – Крики со Змиянья Петра Кочича, земляка и родственника Срджана, несчастного местного гения, южнославянского мечтателя, который дождался осуществления своей мечты в белградском дурдоме, сгинув во мраке и одиночестве. Затем ещё любимые: Мастер и Маргарита Булгакова, Сто лет одиночества Маркеса, а ещё Стражилово Милоша Црнянского. Срджан знал, что там, куда он отправляется, он точно не будет их перечитывать, однако хотел иметь их при себе на дне рюкзака как твёрдое доказательство самому себе, что он всё ещё хозяин собственной души, поскольку давно уже перестал доказывать что-либо кому-то другому.
Среди книг он нашёл фотографию, которую давно не видел. На фотографии женщина лет двадцати. Длинные светлые волосы, разделены неровным пробором. Круглое улыбающееся лицо, высокий лоб без морщин, кожа чистая, как у младенца. Под высокими бровями карие, глубокие и печальные глаза, вздёрнутый нос, широкие чувственные губы. Сизая плетёная майка с небольшим вырезом, а на груди – золотой кулон в форме солнца. Когда-то, ещё до окончания факультета, Срджан на одной экскурсии, помнится, что это было на острове Корфу, познакомился с девушкой. На год его младше, красивая и стройная, с длинными руками и неуклюжими движениями. Она родилась в Нови-Саде, поэтому говорила медленно и певуче, словно поглаживая каждое слово. Была стыдлива и вежлива, как и город, в котором выросла, а горда и длиннонога, как её предки-боснийцы. Улыбаясь, оголяла белоснежные резцы, а розовые соски на никогда не видевших солнца грудях скрывала от всех, за исключением него. Её глаза отливали золотом, когда она мечтала. Она ходила неспешной походкой, а смеялась так, будто в мире не существовало зла. От неё веяло горячей пенной ванной, чистотой, кофе и тортом, миндальным молоком и морской солью.
Она закончила вовремя юридический так же, как и всё в свой жизни: по всем правилам, с благодарственными грамотами. Светлая и мягкая, она оберегала Срджана от зла, дарила ему книги и рубашки, которые он занашивал до дыр. У неё так и не получилось уговорить его надеть туфли, однако она ни разу не допустила, чтобы он вышел на улицу в грязных ботинках. Она отдала себя Срджану со всей серьёзностью и вниманием женщины, твёрдо и неотступно решившей любить. Она выбрала его, терпеливо и с женской мудростью позволяя себе верить ему. Без лишних раздумий, без разговоров и пышных празднований, знойным солнечным днём они поженились, стоя перед неопрятным регистратором который, кося глазом на часы, в ожидании конца рабочего дня, читал им чьи-то топорные, наспех сочинённые скучные поздравительные стихи. Они начали жить на съёмной квартире, исполненные счастья настолько, насколько могут быть счастливы мужчина и женщина. Смиренная и трудолюбивая, она то и дело просила его прочитать ей его рассказы, которые он втайне сочинял. Когда он рассказывал ей о классической философии, она глядела на него влюблённым и исполненным гордого изумления взглядом. Она мечтала о путешествии в Париж и как она подарит ему сына, представляла себя вспотевшей от болезненных и мучительных родов, но от этого лишь более прекрасной, с младенцем на груди. Вещи Срджана она всегда держала на отведённом месте и всегда смеялась подсказывая где что лежит, когда он шумно искал то, что понадобилось ему в этот момент. Ему нравилось, когда она, в любимой шёлковой пижаме, по которой бродили солнце, луна и медведи, прижималась к нему и засыпала как ребёнок. Она любила Срджана безудержно и страстно. Не смыкала глаз, ожидая его, когда он опаздывал, и не засыпала, без его поцелуев. Когда они просыпались на одной подушке, обмениваясь сонными утренними объятиям, она называла его смешными и милыми именами, не обращая внимания на его, руку на сердце, немного наигранные гримасы. Она разговаривала с цветами, убеждённая, что так они быстрее растут, в новогодние праздники превращала скучную квартиру в настоящую сказку, украшая каждый её уголок блестящими такими весёлыми и бесполезными мелочами. А на порогом обязательно вывешивала венок – на счастье.
Женщина, немного похожая на шаловливого ребёнка, знала о Срджане всё, а если чего-то не понимала, то и не стремилась понять, а лишь принимала сердцем всего его, со всеми недостатками. Она просто любила. Мягкая как шёлк и такая же прочная. Она могла вынести и стерпеть гораздо больше, чем он, показывая слабости свои только перед ним, но за пределами дома никогда. Она умела держать лицо. Умела не плакать, а если когда и плакала, то тихо и ему в плечо, скрывая даже от него и его поцелуев, слёзы. Но однажды она ушла. Ушла также тихо как плакала. Ушла с маленьким чемоданчиком и даже не стала хлопать дверью. Ушла не потому, что полюбила другого, не потому что он всё время пропадал, не потому что в их двери постучала нищета, не из-за сифилиса и гонореи, которые он принёс с войны как подарок, полученный в результате многочисленных и бессмысленных сношений, похожих скорей на совокупление бродячих псов, чем на человеческую любовь. Она ушла не потому, что в родной дом он вваливался пьяным, окровавленным и избитым после очередных посиделок в каком-то кабаке. И не потому что среди ночи он вскакивал в холодном поту и выкрикивал команды и имена мёртвых, ей не знакомых людей.
Она ушла, когда поняла, что человек, с которым она делила постель, теперь совсем не похож на того, за кого она вышла замуж и чью фамилию носила. Она ушла. Потому что тот, которого она любила не вернулся с войны. Как и многие, ушедшие на войну вместе с ним. Ушедшие на войну, погибли на ней. А вернулись – чужие, иные. У них были прежние голоса и лица, их пусть и огрубевшие руки на первый взгляд казались такими же, плечи были широкими и надёжными как и раньше, а память твердила – что это они. Они – родные, любимые, желанные и долгожданные. Чужими были только глаза. Чужими глазами глядели на прежний мир эти люди. Глазами, потерявшими былую мягкость. Глазами, которые видели людей и вещи, которых больше не существовало и не замечали тех, кто рядом. И тогда жёны выживших поняли, что овдовели. Они поняли, что никто никогда не возвращается с войны, а внешнее сходство – лишь иллюзия. Подлая иллюзия. Уехавшие от них когда-то безусые юноши похоронены в безымянных могилах. А те, кто вернулся вместо их – чужие. Лишь образ, лишь подобие тех ушедших, дорогих, любимых и желанных.
Она ушла, как и все другие, заплаканные, несчастные, состарившиеся. Те, кто не смог полюбить вернувшихся чужаков. Ушла не предав свой любви, сохранив ей верность до последних дней. Её любовь не остыла. Просто она поняла, что её муж погиб. Она узнала как это бывает. Узнала то, что когда-то ей рассказывала её мать, а той – её мать. Узнала истину, которые всегда узнают женщины, рождённые там, где войны никогда не прекращаются.
Срджан поцеловал фотографию, бережно пряча в томик романа Сто лет одиночества, и белокурая девушка, весело и молодо улыбающаяся, оказалась на страницах, где через шесть месяцев после кровавой бойни, когда зажили раны у пострадавших и увяли последние цветы на общей могиле, Аурелиано Второй привёз в Макондо невесту и устроил пышную свадьбу, на которой гуляли ровно двадцать дней.
Он положил книгу с фотографией в дорожную сумку, чтобы никогда с ней не расставаться, никогда не забывать, никогда не открывать и никогда, пока живёт на этой земле – не видеть.
В условленное утро Срджан, Мрджан и Младжан с одинаковыми дорожными сумками на плечах, поцеловавшись в знак приветствия трижды, встретились в ожидании отъезда как важного судьбоносного события. Опухшие, похмельные и торжественные Мрджан и Младжан разместили свои немногочисленные вещи в багажник пыльного неухоженного автобусика. По их лицам можно было прочитать как прошла их неделя: свободная, пьяная, безумная. Человек свободен тогда, когда ему больше нечего терять, когда он не должен думать, что о нём подумают другие. Такую свободу человек познаёт лишь на войне, ведь тогда ему прощается даже непростительное, тяжесть всех его ошибок смягчается и забывается. Перед лицом смерти, перед лицом большой и всем понятной смерти человек свободен, а свобода даёт возможность делать всё, что хочешь. Если повезёт не вернуться, то в памяти людей он останется воином, о котором будут помнить только хорошее, а если всё же вернётся, то и память и дела рассеются как дым.
Погрузившись в громыхающее пыльное нутро автобуса, Срджан, Мрджан и Младжан с ещё четвёркой таких же искателей удачи, двинулись на юг, потея от нетерпения и духоты. Сидевший за рулём Жёлтый впервые в жизни молчал, не глядя на спутников и не пытаясь болтовнёй сократить время в дороге ни себе, ни им. Босния постепенно просыпалась. Иностранцы в танках деловито, хотя ещё позёвывая и потягиваясь, следили за движением транспорта. В своих бронежилетах и шлемах, вооружённые до зубов в окружении мирных деревушек, они, с их многочисленными правилами, уставами, преувеличенной заботой о собственной безопасности и каким-то порядком, важном и ясном лишь для них самих, выглядели глуповато и чужеродно. Их не интересовала история страны, в которую они явились без приглашения. А зря, иначе бы они знали, что в истории свой Босния мало когда была свободной, но всегда принадлежала самой себе: каждый её покоритель и завоеватель пыжился и воображал, что именно он тот самый непобедимый и последний её завоеватель. А земля, карабкаясь по горным уступам своими деревеньками и сливовыми садами, жила, зная, что всё проходит. И это тоже – пройдёт.
В эту странную и немирную страну было легко попасть: под торжественный походный марш, с гомоном и парадом. Правда покидать её было также легко, хотя без каких-либо речей и почестей, разве что с ворохом вопросов из которых самым важным был один, на который никак не находилось ответа: а что они собственно делали здесь, в этом месте, где из прекрасного только никому ненужные горы?
Боснией всегда правили только те, которые не могли назвать эти горы своими. Её правители не родились здесь, не любили здешние места и не стремились их полюбить. Приехавшие из далёких и несомненно прекрасных мест, они не учились языку чужих гор, не знали и знать не хотели, чем жил народ, знавший в этих горах каждый камень и каждую тропинку. Если же какой-то чудак всё же делал попытку сблизиться с местными дикарями и понять их, то это было началом его краха: в традиции людей гор было признавать над собой лишь чужаков. На чужого, дерзнувшего стать своим, горной лавиной обрушивался мятеж. Иногда такой силы, что поднимал в местах далёких от этих бури, после которых мир долго ещё не мог прийти в себя. Тогда, боснийское эхо проносилось по всей земле, заставляя далёкие народы сталкиваться лбами будто горные бараны на узкой тропе. Широкое, бездонное кровавое море, начиналось с горной ревущей реки и как в паводок несло всю муть и мусор, которые накопило человечество.
Для Боснии чужеземцы были привычным узнаваемым злом. Злом, которое всегда решало их судьбу и Босния не могла понять, почему зло удивляется, когда всё то, что оно делает здесь, возвращается ему сторицей. Дети боснийских гор знали, что зло нужно оставить жить так, как ему хочется, и тогда оно сожрёт самоё себя. Поэтому они, в ожидании этого времени, покорно признавали чужаков своими правителями, гнули спины и кланялись, сминая в руках шапки и осознавая, что их покорность – временная и мнимая. Оставаясь наедине с собой – сербы, хорваты и мусульмане дружно ненавидели всё то, что им навязывали чужеземцы, называя это культурой и цивилизацией. Они откровенно глумились над теми чуждыми смешными обычаями, которые им прививались, считая их проделками мелких бесов или шайтанов. Если же их потом призывали к ответу за то, что они уклоняются от соблюдения правил, что не признают прогресса, то они, даже не стараясь, чтобы их слова выглядели правдоподобно, лгали, глядя в глаза. А сами опять прикидывали какую тактику применить: молчаливого отпора или откровенного подкупа. Других стратегий позволяющих им выжить у них не было.
Самым важным для них умением было умение ждать. Ждать, когда ход истории изменится, когда колесо фортуны сделает ещё одни оборот, поскольку на своей шкуре уверились, что ничто не длится вечно. В этой странной и непохожей на других стране века были короткими и все терпеливо ждали, чтобы прошёл тёмный век, как проходит ночь. Для них, детей здешних гор, история было не дольше и не короче смены дня и ночи. Они просто жили не задаваясь вопросом, а есть ли в мире иная, может быть лучшая жизнь. Они считали, что хорошо уже то, что жизнь есть и своих детей учили тому же.



