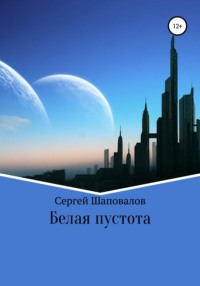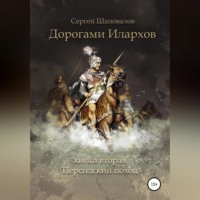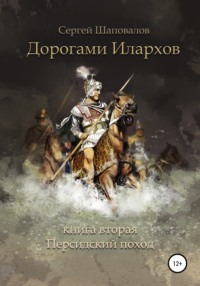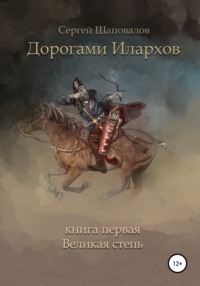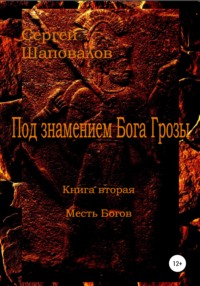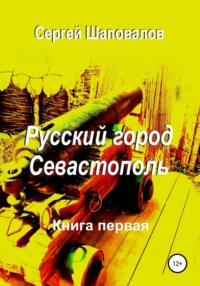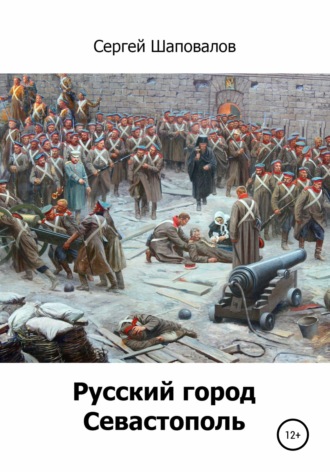
Полная версия
Русский город Севастополь
Мусса повернулся к старику:
– Уважаемый Ахмед-Хаджи, ты дозволишь этому юноше осмотреть мечеть?
Старик взглянул выцветшими, слезящимися глазами на Павла и ответил скрипучим голосом:
– Всевышний никому не запрещает входить в свой дом. Коль путник пришёл с миром и без дурных мыслей, так пусти его.
– Проходи, уважаемый, – пригласил Мусса, – но сапоги придётся снять у порога. Нельзя в дом Аллаха вносить земную грязь. Саблю тоже надо оставить. Ахмед-Хаджи приглядит за ней. Заходить нужно с правой ноги. Я понимаю, ты молитв наших не знаешь, но, хотя бы мысленно попроси Аллаха приоткрыть тебе ворота истиной веры.
Они вошли в храм. Высокий просторный зал с простыми белёными стенами. Два ряда квадратных колонн. Потёртые ковры с растительным орнаментом устилали пол. По стенам шли балкончики.
– Вот наша мечеть Хан-Джами. Как-то она сильно горела. Хан Селямет-Гирей отстроил её заново.
– Тут так все просто, – удивился Павел, вспомнив золотое убранство Петербургских храмов.
– Просто, как небо, – поправил Мусса. – Взгляни как-нибудь внимательно ввысь, там тоже все просто и без излишеств. Здесь, где мы стоим, молятся мужчины, а на балкончиках – место для женщин.
– Почему отдельно?
– Во время молитвы, уважаемый, надо с Всевышним общаться, а не отвлекаться на земные грехи, – поучительным тоном объяснил Мусса.
– А что это за потайная дверца? – спросил Павел, указывая на низкую арку.
– За ней лестница, по которой муэдзин поднимается на минарет и призывает правоверных намазу. Извини, но туда пустить тебя не могу. Я и сам никогда не поднимался на шорфе. Только уважаемый Ахмед-Хаджи имеет право входить в эту дверь.
– Он не боится? Минарет такой высокий, тонкий.
– Уверяю, тебя, о, юноша, минарет крепкий. Камни подогнаны идеально. А скреплены они расплавленным свинцом.
Они вышли из мечети, обулись и направились по заросшей дорожке. Вскоре попали на кладбище, где над могилами возвышались покосившиеся надгробия из резного камня.
– Сюда, тоже не разрешено водить гяуров. Но тебе, потомку Текеевых, отказать не могу. Вот, видишь это старое надгробие? Ты, конечно, не знаешь арабского?
– Нет.
– Послушай, что здесь написано: «Когда я жила, то походила на чудный цветок, который завял так рано. О, Всевышний, возьми меня в рай и посади в свой цветник».
– Кто была эта девушка?
– Разве кто-нибудь помнит? – развёл руками Мусса. – Одна из гарема, одного из ханов, – и вновь процитировал:
До срока срезал их в саду любви Аллах,
Не дав плодам созреть до красоты осенней.
Гарема перлы спят не в море наслаждений,
Но в раковинах тьмы и вечности – в гробах.
Забвенья пеленой покрыло время прах;
Над плитами – чалма, как знамя войска теней;
И начертал гяур для новых поколений
Усопших имена на гробовых камнях.
Это стихи все того же поляка. Как же его звали? – задумался Мусса. – Совсем память дырявая стала. Мицкевич, – вспомнил он. – Здесь прибывают в покое ханы и их ближайшие родственники. Уже, как лет семьдесят на этом кладбище никого не хоронят. Вот, послушай, – Мусса подошёл к высокому надгробью в виде широкой стелы с арабской вязью, вырезанной в камне. – «О, Аллах Вечный и Всемогущий, единственное ремесло Гирей-Хана – война. Не было равных ему в силе и отваге».
Они подошли к двум башням-мавзолеям, высотой в четыре человеческих роста. Башни не круглые, а восьмиугольные с маленькими окошками. Мавзолеи венчали куполообразные крыши.
– Здесь тоже похоронены ханы, – сказал Мусса. – Смертные их не видят, но иногда ночью они собираются в одном из мавзолеев и празднуют свои забытые победы.
Дальше Мусса повёл его под арку, и они очутились в закрытом небольшом дворике. Внимание Павла привлёк портик с двумя колоннами. Над дверью находилась чудесная тонкая резьба по камню.
– Посольский дворик, – объяснил Мусса. – Обрати внимание на арку. Этому чудо больше трёхсот лет.
– Но орнамент не восточный, – подметил Павел, рассматривая каменные завитушки в виде листьев и цветков.
– Верно. Портик украшали итальянские мастера. Точно не могу сказать кто, но мастера эти ехали в Москву, не соврать бы, по приглашению Ивана Великого. Хан их позвал погостить, а заодно заплатил щедро за труды.
Они оказались в просторном зале с высокими стенами. Окна располагались на втором ярусе. Стекла с разноцветным узором. Стены и потолок расписаны растительным орнаментом.
– Диван, – тихо сказал Мусса. – В этом зале собирались великие воины и решали судьбу целых народов. Их дух до сих пор присутствует в этом месте.
Далее они прошли ещё несколько помещений, где Мусса показал летнюю беседку из дерева и стекла. Посреди мраморного пола находился фонтанчик. Но воды в нем уже давно не было. Мраморная чаша пожелтела.
– Он кажется мёртвым, – произнёс Павел.
– Да, выглядит печально, – согласился Мусса. – Но я тебе покажу другой фонтан.
В стене была вмонтирована мраморная плита. В середине отверстие, из которого слабо струилась вода, стекая в прямоугольную мраморную чашу. Сама плита была украшена золотым орнаментом.
– Видишь надпись золотыми буквами. Это изречение из Корана «Да напоит райских юношей, Аллах Милосердный, струёй чистой».
– А где фонтан Дияры? – спросил Павел
– Ах, ты знаешь эту легенду о польской наложнице? Да, она была прекрасна. Хан-Гирей голову потерял от её красоты.
– Дияру отравили? Это так?
– Кто ж сейчас тебе об этом расскажет? Возможно. В гареме травили соперниц беспощадно. А может, она сама умерла. Вольнолюбивая была, как все поляки. Тосковала о родной стороне, поэтому и зачахла. А вот и фонтан.
В мраморной стене были вырезаны в три ряда каменные чаши, вода по чашам стекала вниз, в ещё одну большую чашу.
– Он живой! – воскликнул Павел.
– Живой? – удивился Мусса.
– Ну, да! Он плачет.
– Кто, камень? – усмехнулся Мусса. – Разве камень может плакать? Глупости это все.
– Значит, духи ханов в мавзолее – не глупости, а слезы фонтана – глупости? – рассердился Павел.
Мусса тяжело вздохнул и недовольно покачал головой.
– Дело мужчины – война. А женщины только отвлекают его.
– А как же:
Фонтан любви, фонтан живой!
Принёс я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль…
– на этот раз процитировал Павел.
– Пушкина вспомнил? Я его не люблю, – отмахнулся Мусса. – Там гарем, – сказал провожатый, указывая на дальнюю часть дворца. – Не стоит мужчинам ступать на женскую половину, даже если уже много лет в нем никто не живёт. Не хорошо.
***
Павел поблагодарил Муссу. Попрощался с Ахмедом-Хаджи, подарил ему серебряный рубль. Старик так и сидел на том же месте, греясь на солнышке. Пожелал юноше удачной судьбы.
Мусса проводил Павла за ворота.
– А зачем ты сюда приехал? – неожиданно спросил татарин.
– По службе, – ответил Павел.
– Уезжай, – чуть слышно произнёс Мусса. – Беда идёт. Мне не привыкать, это моя земля. А для тебя она – чужая.
– Нет. Здесь и моя земля, – непонимающе пожал плечами Павел.
– Эх, что ты говоришь? – сокрушённо сказал Мусса. – Я – воин. Мои предки были воинами. Их кости лежат здесь. Их дух живёт в этих горах. Я горжусь ими. А ты чем можешь гордиться в Крыму? Что будешь защищать? Чьи могилы?
– У меня тоже предки были воинами, и я тоже ими горжусь, – твёрдо ответил Павел.
– Мой род владел землями Крыма сотни лет. Он был великим. Все здесь принадлежало моим предкам: каждый камень, каждая травинка…. До того, как русский царь пришёл сюда, – добавил он жёстко.
– Только, твои предки известны тем, что нападали на чужие земли, приносили горе и торговали людьми. А мои предки всегда с честью защищали свою землю. И сейчас я готов её защитить. Это – и моя земля.
– Да что ты такое несёшь, мальчишка! – разозлился Мусса, хватаясь за рукоять кинжала. – Не смей оскорблять память моих предков!
– Если я сказал что-то не верно, поправь меня, – стоял на своём Павел. – Какие подвиги совершил твой род? Разграбил какой-нибудь город? Сжёг несколько селений? Привёл в плен сотню невольников? А мои предки всегда стояли за землю русскую до последней капли крови. И я не посрамлю их память. Никуда не уйду!
– Эх! – безнадёжно махнул рукой Мусса, повернулся и быстро зашагал обратно по каменному мосту.
Белый город
– Стой! – крикнул проводник татарин.
Старика наняли в Бахчисарае, чтобы не сбиться с пути. Тощий, сутулый, в старом выцветшем халате. Когда-то зелёная феска выгорела на солнце до серо-жёлтой.
Денщик, сидевший на месте кучера, натянул вожжи. Пролётка встала.
– Привал! – объявил он. Спрыгнул на землю размять ноги. Достал мешок с овсом, намереваясь покормить лошадей.
– В чем дело? – спросил Тотлебен, приоткрыв дверцу.
– А, вон, ваше высокоблагородие, – указал денщик кивком на дорогу. – С час проторчим.
Чуть ниже четвёрка волов медленно тащила огромную телегу в которой лежал чёрный ствол большого корабельного орудия. Перед этой телегой ещё несколько таких же упряжек с орудиями. Они запрудили всю дорогу. По обочине не объехать: с одной стороны скала, с другой овраг. Столпилось множество повозок. Телеги, груженные мешками, сеном, дровами, пролётки, все больше с офицерами. В сторонке лежали штук пять верблюдов. Погонщик снял с них поклажу, чтобы дать животным передохнуть.
– А город далеко? – спросил Павел у проводника.
– Нет, – ответил тот, подтягивая засаленные шаровары. – На бугорок взберитесь – увидите.
– Пойдёмте, Павел Аркадьевич, взглянем на Севастополь, – предложил Тотлебен, с кряхтением вылезая из пролётки.
– А я, пожалуй, подремлю, – сонным голосом отозвался поручик Жернов. – Высплюсь, пока не трясёт.
– Какой красивый город! – воскликнул Павел.
С холма открылся вид на бухту. На изумрудной глади величественно стояли линейные корабли с убранными парусами. Пыхтели пароходики. Море под ясным куполом неба казалось вылитое из стекла. Где-то в дымке призрачно обрисовывались далёкий скалистый утёсы с башней маяка. Сам город раскинулся на гористом берегу. Местность вся изрезана балками и оврагами. Обыкновенных улиц, похожих на улицы в равнинных городах, таких, как в Москве или Петербурге, немного: пять – шесть. Остальное – холмы и косогоры, покрытые домиками, как пеньки опятами. Между ними идут кривые переулки без мостовых и тротуаров. Были даже очень крутые косогоры. Домики стоят один над другим, а улочки сбегали вниз, словно промытые дождевыми потоками. Где-то улица прерывалась широкой площадкой, даже деревца какие-то на ней росли, а где-то стремительно спускалась узким коридорчиком между каменных заборов. Среди мелких домиков, разбросанных по горам, выделялись своим величием верфи, казармы и батареи. К бухте вели ровные широкие бульвары с белокаменными красивыми домами. Аллеи утопали в зелени.
– Как же здесь здорово! – восторгался Павел. – А море какое чистое! И небо, словно умытое.
– Что ж вы хотели, Павел Аркадьевич? – снисходительно усмехнулся Тотлебен. – Крым – это вам не хмурое балтийское побережье. Не Италия, конечно…..
– Да, ну её, эту Италию! Боже, как же здесь здорово! – все никак не мог успокоиться Павел. – Что там за форты у входа в Бухту?
– Вот эти форты вам надо будет хорошенько изучить и промерить, – серьёзно сказал Тотлебен. – В виде подковы – Константиновская батарея, глубже в бухту – Михайловская. Константиновскую заложил ещё при адмирале Ушакове. Франц Павлович де Воллан. Знаете такого фортификатора?
– Конечно! Мы изучали его план обходного канала Онежского и Ладожского озера. Но не знал, что он ещё и Севастополь строил.
– Франц Павлович Одессу проектировал, здесь – только форты. Константиновскую батарею размечал. Потом Карл Иванович Брюно казематы возвёл.
– Карл Иванович у нас в инженерном училище читал лекции, – с гордостью вспомнил Павел.
– Так вот, ваш учитель и вторую батарею строил. Названа она в честь сына царя, Михаила. Отличное казематированное сооружение.
– Разрешите сделать замечание? Есть один недостаток в расположении Константиновской батареи.
– Вот, так, так! – удивлённо вскинул брови Тотлебен. – Докладывайте, прапорщик Кречен.
– Константиновская батарея уязвима с тыла. Ей необходимо прикрытие.
– И как же вы намеренны её брать? – заинтересовался Тотлебен. – Поведайте ваш план.
– Под прикрытием корабельной артиллерией я бы за батареей высадил десант с лёгкими полевыми пушками и овладел штурмом с тыльной части.
Тотлебен повнимательней вгляделся в узкую полоску берега, соединяющую батарею с материком.
– Согласен, – вынужден был признать он. – Вас хорошо подготовили, прапорщик Кречен. Ага, вижу, Северную сторону начали укреплять, да так и бросили. Видите, форт в виде звезды? По моему мнению: неудачно расположен. Я бы дальше от берега поставил.
– А на той стороне бухты, что за здание стоит выше всех?
– Морская библиотека. Говорят, офицеры вскладчину покупают книги. Из разных стран привозят. Севастополь – горд морской. Кто тут только не бывает. Так что, можете встретить на полках в библиотеке весьма редкие экземпляры.
– Книги – моя страсть! – обрадовался Павел.
– Да, город красивый, – произнёс мечтательно Тотлебен. – Белый, чистый. Но, посмотрите, Кречен, улиц прямых и широких, как в Петербурге, и десятка не наберётся.
– Но взгляните за Константиновскую батарею. В балке много красивых домиков, – возразил Павел. – Все в садах так и тонут.
– Однако, вы глазастый, Кречен. То – дачи знатных горожан. Вы, лучше обратите внимание на ту горку, что возвышается над Корабельной стороной. Видите, на ней башенка построена. Эта горка – важная стратегическая высота. Поставь на ней батарею – и весь город простреливается. Мало того, вся гавань под огнём. Запомните: Малахов курган.
Большая белая чайка с криком пронеслась над их головами. Павел сорвал фуражку и закричал ей:
– Привет, белая птица! Меня зовут Павел!
Проводник татарин поглядел на него с ухмылкой, покачал недовольно головой и на татарском произнёс:
– Глупый мальчик разговаривает с глупой птицей.
– А знаете, молодой человек, какое поверие ходит у местных моряков? Чайки – это души погибших матросов, – сказал Тотлебен, снял фуражку и вытер пот со лба.
– Вот это – да! Красивая легенда. А откуда она родилась? – заинтересовался Павел.
– А представьте себе, попал корабль в шторм. Все снасти переломало. В бортах течь. Команда умирает от жажды. Берега нигде не видать. Все готовятся к смерти, молятся о спасении души…. И вдруг – чайка.
– Не совсем понял, – помотал головой Павел.
– Ну, как же? Чайка! Птицы не улетают далеко от берега. Чайка – это символ надежды. Коль она появилась, значит рядом земля. Это вестник, посланный Богом.
– Ах, вот оно что! – кивнул Павел и на татарском окликнул проводника: – Понял, отец? А ты говоришь – глупая птица.
Татарин с изумлением открыл рот, пробормотал что-то невнятное.
– Вы, Кречен, откуда научились так лихо говорить на татарском? – удивился Тотлебен.
– Дед мой служил на Кавказе ещё с Ермоловым, – объяснил Павел.
– Да, да, что-то такое ваш отец рассказывал.
– Влюбился без памяти в местную княжну. Всеми правдами и неправдами вымолил родителей отдать её в жены. Занял у генерала Ермолова денег на выкуп. Генерал Ермолов, вы же знаете, сам жён покупал в горах.
– Да, что-то слышал, – кивнул Тотлебен.
– Эй, старик, как у вас называется временная жена? – спросил Павел.
– Мута, – недовольно ответил татарин. – Но подобный разврат дозволен только у собак – шиитов. Нам, настоящим правоверным, Аллах запрещает дочерей продавать гяурам.
– Так, вот, – продолжал Павел. – Бабушка моя из карачаевского княжеского рода.
– Княжеского! – удивился Тотлебен.
– Вроде того, – усмехнулся Павел. – Аул у них, да отара овец – вот и всё княжеское достоинство. Но бабушка у меня – золотая. Добрая, ласковая. Уже совсем старушка, но я её безумно люблю. А был у неё младший брат Аслан. Он у себя в горах поссорился с черкесами, да какого-то важного хана зарезал. От кровной мести бежал в Россию. Вот, он нас с братьями с самых пелёнок и воспитывал. Гувернёры – гувернёрами, а дед Аслан как нянька за нами ходил. А так, как он по-русски ничего не понимал, приходилось с ним на карачаевском разговаривать. Однажды я холеру подхватил. Доктора только руками разводили: все, помрёт дитя. Но дед Аслан прогнал докторов и сам меня выходил. Ужас, чем он меня поил. Заставлял пить горячие отвары из каких-то противных трав, да ещё соль замешивал так, что в рот невозможно взять, не то что пить…. Однако, я выздоровел.
– Шаман он у тебя – не иначе, – усмехнулся Тотлебен.
– Ваше высокоблагородие! – окликнул денщик подполковника. – Можно ехать.
Затор на дороге разошёлся. Телеги потянулись вниз, к городу. Погонщики поднимали верблюдов. Офицеры залазили в свои пролётки.
***
Коляска въехала в Севастополь.
– Надо же, какой белый город! – все восхищался Павел. – А цветов сколько! Смотрите, Жернов, вон, в том палисаднике какие огромные розы. А пахнут, наверное, как!
– Да, да, – снисходительно усмехался поручик.
– Неужели тут всегда так красиво?
– Вы влюбились в Севастополь с первого взгляда? – уже смеялся Жерновов.
– Нет, но Петербург я тоже люблю. Но этот город, как будто сделан из зефира. Прямо – зефирный торт.
– Вы не туда смотрите. Взгляните, какие барышни, не хуже ваших роз. Вот, как освоимся здесь, как закрутим романчик! У вас, Кречен, есть дама сердца?
– Есть, – уверенно ответил Павел, вспомнив о Юленьке – милом лягушонке. Он же обещал ей хранить верность, вернее хотел пообещать, но как-то не решился.
– Вот, беда! А я – свободен! – радостно воскликнул Жернов.
Большая Севастопольская бухта врезалась в материк на шесть вёрст. Ширина бухты не менее трёхсот, а где и пятисот сажень. Что Северный берег, что Южный были скалистыми, постепенно понижающимися к морю. Северный берег прорезали небольшие бухточки, переходившие в балки. Южный берег делили три бухты: Килен-балочная, Южная и Артиллерийская. Бухты глубокие и просторные. Южная, самая большая, тянулась на две версты и имела до двухсот сажень шириной. В ней размещался черноморский флот. В Артиллерийской бухте находились торговые суда. От Артиллерийской бухты, к востоку берег постепенно понижался до Херсонесского мыса. За городом на восточном побережье имелось ещё несколько удобных бухт: Карантинная, Казачья, Песочная, Камышовая и Стрелецкая.
Сам город располагался на обоих берегах Большой бухты. Он так и делился на Южную сторону и Северную. А Южную часть города ещё делила Южная бухта на Городскую сторону к западу и на Корабельную к востоку. Добраться с Городской стороны на Корабельную можно было по окольной дороге, шедшей через место, называемое Пересыпью у окончания Южной бухты. Основная часть города раскинулась на плоской горе. Гора так и называлась – Городской. С восточной стороны гора круто спускалась к Южной бухте, а с западной стороны – к Городскому оврагу. На одном из отлогих склонов ютилась Артиллерийская слобода. Небольшие домики с садиками и огородиками. Здесь проживали отставные матросы.
Через центр города пролегли две главные улицы: Екатерининская и Морская. С юга улицы выходили на Театральную площадь, а с севера упирались в Николаевскую площадь. Мощение камнем в Севастополе особо не применялось, посему улицы были укатаны щебнем. Екатерининская и Морская, как центральные, выглядели ухоженными, застроенными красивыми домами с портиками и колоннами. Остальные же улочки были узкими, извилистыми.
На Корабельной стороне находился порт, а рядом матросские слободки. Корабельная слободка лежала между доками и Ушаковой балкой. У подножья Малахова кургана была Малахова слободка. На северных скатах меж Доковой и Лабораторной балках рассыпались Татарская слободка и Бомбардирская.
На высоте меж Городским оврагом и бухтой был разбит большой бульвар. В центре города находился ещё один бульвар поменьше, где стоял памятник Казарскому, героическому капитану брига «Меркурий». В Ушаковой балке располагался городской сад, обнесённый каменной стеной.
***
Главнокомандующий, князь Меньшиков, временно разместил свой штаб в «Екатерининском дворце» у набережной, недалеко от Графской пристани. Снаружи сей дворец выглядел скромно: одноэтажный, с покатой черепичной крышей, простые прямоугольные окна. Зато внутри стены были украшены резными ореховыми панелями. Малиновые шёлковые портьеры на окнах. Полы устланы персидскими коврами. Кругом стояла резная мебель с позолотой в стиле позднего ампира: ножки в виде львиных лап, грифоны, сирены.
Дежурный офицер проводил подполковника Тотлебена к кабинету с тяжёлыми дубовыми дверьми, украшенными золочёной резьбой.
За небольшим письменный столом сидел адъютант и работал с корреспонденцией. Увидев Тотлебена, он встал и вышел навстречу.
– Инженер-подполковник Тотлебен, – представился Эдуард Иванович. – У меня письмо к князю Меньшикову от главнокомандующего Дунайской армией.
– Князь принимает доклады от полковых командиров, – сообщил адъютант. – Я доложу о вашем прибытии.
Он скрылся за дверью. С той стороны доносилась монотонная речь. Речь прервалась. Через несколько секунд прозвучало властно: «Пусть войдёт!» Адъютант распахнул дверь и пригласил Тотлебена.
Просторное помещение выглядело, как обыкновенный штабной кабинет: по одной стене три больших окна с тяжёлыми шторами; другая с портретами и картинами. Портрет царя, выделявшийся большим размером и более богатой золочёной рамой, висел над высоким мягким креслом. Массивный канцелярский стол посреди кабинета. На столе масляная лампа под зелёным абажуром, набор для письма и пресс-папье в виде бронзового всадника-черкеса. Неприметный шкафчики с книгами, стоял в углу, как провинившийся гимназист. На дальней стене приколота карта с очертаниями берегов Крыма.
Светлейший князь Меньшиков в адмиральском мундире с тяжёлыми золотыми эполетами стоял у окна, освещаемый яркими лучами солнца. Поджарый, высокий старец, которому перевалило за шестьдесят пять, выглядел молодцевато. Аккуратно стриженная седая голова, такие же седые усы. Глаза пронзительные, глубоко посаженные. На высоком лбу едва наметились морщины. В руке он держал нераспечатанный пакет с письмом от князя Горчакова. Напротив выстроились человек десять генералов и полковников. У каждого в руках портфель с бумагами.
– Рад видеть вас, подполковник Тотлебен, – сказал командующий. – Вы с чем пожаловали?
– В письме генерал Горчаков все изложил, ваша светлость.
– Ах, в письме? – растерянно взглянул на конверт Меньшиков. – Я обязательно прочту. Можете вкратце рассказать сами, чтобы понятней было?
– Прибыл производить инженерные работы по укреплению обороноспособности города, – отрапортовал уверенно Тотлебен.
– А чего его укреплять? – пожал плечами Меньшиков, оглядел офицеров, как бы спрашивая: вы что-нибудь поняли? – Без того береговые батареи устроены. Ничего не понимаю. Зачем вас заставили проделать столь долгий путь?
– Но я въезжал в город и не увидел никаких укреплений с сухого пути, – неуверенно возразил Тотлебен.
– С суши? – переспросил Меньшиков и усмехнулся. – Эдуард Иванович, дорогой, но от кого нам оборонять город с суши? Разве от разбойников-татар? Так они боятся сюда сунуться. За милю Севастополь обходят. Да и разбойники из них – так себе. Казаки их давно разогнали. Так, к чему нам стены?
– Позвольте, но мне сказали, что со стороны французов готовится десантная операция…, – совсем растерялся Тотлебен.
– Эдуард Иванович, голубчик, ну что вы в само деле? – дружески приобнял его Меньшиков. – Вам сказали…. Кто сказал? Слышали от кого-то…. Бабки на рынке одна другой шепнула…. – Послышались смешки. – Знаете, что, отдохните у нас. Конец лета…. Погода чудесная…. Море тёплое. Погрейте косточки. А охота здесь какая азартная! Зайчики, рябчики, перепёлочки…. Вы только что с передовой? Я понимаю вас и очень ценю…
– Но как же так? – растерянно пыхтел Тотлебен. – У меня строгое предписание по укреплению Севастополя….
– Как-то, так! – развёл руками Меньшиков. – Месяцок-другой побултыхайтесь, и обратно, в Дунайскую армию. – И обратился к офицерам: – Господа, спасибо всем! Все свободны!
Тотлебен вышел из кабинета сам не свой. К нему подлетел Павел.
– Эдуард Иванович, что с вами? – спросил он испуганно.
– Ничего понять не могу, – пожал плечами Тотлебен.
Меньшиков показался в дверях, заметил Павла: