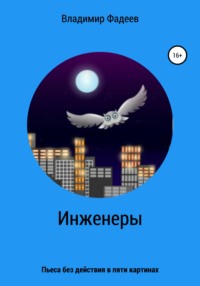Полная версия
Ясные дни в августе. Повести 80-х
Прошлёпал уже изрядно, всё на солнце, чтобы и без компаса знать, куда возвращаться. Если я берусь идти по компасу – заблужусь обязательно. Впрочем, и когда начинаю сверяться по известным правилам и приметам – ветки, ветер, мох на стволах и прочее – тоже плутаю. А иду по наитию – всегда выхожу куда нужно… Мы не знаем, что мы превосходно знаем, как ориентироваться в лесу, не надо только в него путать всякие компасы, сомневаться нельзя. Хотя, как сказать! Одна истина гласит: сомневайся во всём. Другая: прочь сомнения, верь! Два пути к одной вершине – один окольный, если уж однажды усомнился, сомневайся во всём, другой прямой – не сомневайся! Второй путь короток, в несколько шагов, но уж больно велик соблазн после первого же шага втайне от себя спросить кого-то: а вдруг? И – всё…
Стали попадаться семейки крупных поганок неровного пепельного цвета, потом одинокие поганки коричневые – когда увидел первую, сбилось дыхание: белый! Ан нет, треснул со зла по ней сапогом и от обиды стал наклоняться за сыроежками, они крошились ещё в пальцах, но всё равно складывал в корзину, накидал так десятка два и разом высыпал розовую труху в мох.
Вошёл в полосу свинушек – они неожиданно дружно разбежались по кочкам, сколько было видно в обе стороны. Свинский гриб, всегда доверчивому свинью подложит: ножка чистенькая, дома пополам разрежешь – места живого нет. Полоснул ножичком, так и есть, всё гниль. Болото! Вот на кабаньих тропах дуньки так дуньки! Дебелы, мясисты, края от натуги плоти завернуты вниз, тронешь такую и услышишь грибных соков песню, обидно не брать. И никто ведь больше на кабаньих пашнях не приживается, свиньи-то свиньи, а друг другу помогают… может, они родня – грибы и кабаны? В старости, когда завернётся, на свиное ухо похожи… И брать как? Свиньи, у них душа чёрная, сколько не вари, чернота стекает, стекает, до бела откипятились, откинешь – черней, чем были.
Попался подберёзовик, старый, уже пустил сопли, по-хорошему его тоже поддать бы ногой, и поддал бы, была б корзина потяжелей. Через десять шагов набрёл на целую поляну таких стариков, штук двадцать пять, политбюро, казалось, они только что о чём-то переговаривались и застыли вдруг, наклонившись друг к другу группками по три-пять стариканов и были недовольны, что я помешал очередному их заговору. Чу – и затаились. К радости гнилых, я вырезал с десяток старичков помоложе и уложил их медузные шляпки в два ряда на донышко. Оставшиеся слизняки теперь смотрелись молодцами, зато те, что в корзине, сразу слиплись и одряхлели.
А лес взял меня за рукав можжевеловой веткой и потащил в свои зелёные утробы, и страшно было довериться ему, а не довериться – чего было приезжать? Успокаивался: тротуарным ортодоксам ближайший буреломишко незнакомого леса чудится пределом дремучести с невидимым злобным населением, которые караулят тебя, – тебя! – туточки давно, может быть – века, и жаждет над тобой расправы… А кто из нас её не достоин.? Именно тихой и именно расправы, не какого-то разового наказания, хоть даже и самой смертью, хоть и муками лютыми – не за тело страшно в незнакомом лесу, страшно заблудиться. Не так-то легко нырять в неведомое, всё неведомое – чужое, и вот на пороге этой всесильной чужести и догадываешься, что ты сам себе неведом и чужд. Ты. Сам. Себе. Вот где истоки лесной жути.
Ничего, кроме грибов, нельзя впускать в голову, – чур! Поймать носом воздушную речку с грибным духом и вперёд, бурелом ли, болото – вперёд!
Я полез, от мрачных мыслей отвлекая себя размышлениями о том, что существуют два совершенно разных удовольствия: собирать грибы в знакомом и – незнакомом лесу. Лес знакомый видишь ещё во сне, далеко видишь, до последнего грибного уголка, там-то и растёт самый-самый, он светит оттуда, потому и весь лес прозрачный, добрый. Не до конца ещё проснувшись, в ожидании голоса будильника, уже прочёсываешь лес своим воображением, провидишь и этим провиденьем помогаешь своим грибам вырасти – они тоже тебя слышат, ты тоже им знаком. Идёшь к лесу скоро, тайная уверенность в удаче растёт, и вот счастье – осуществление, явление грибного народа тебе, в сладчайшей приправе вариантов: вот он! Они! Ох ты!.. И как не удивляться своему провидчеству: ещё не доходя леса, отлично знаешь, где какой гриб возьмёшь. Это, кстати, одно из сильнейших удовольствий при сборе грибов в знакомом лесу – осуществление этого провидчества, оно сродни чувству учёного накануне открытия и карточному азарту.
И другое дело – лес незнакомый. Тайна сначала разлита равномерно, томишься выбором: туда? Или туда? Или всё-таки туда? А уж как поймаешь носом воздушную речку с грибным духом – дай бог ноги. Только самые распростые простаки думают, что собирать грибы – это еле-еле плестись от дерева к кусту, глядя только себе под ноги. Грибы не про них! До «еле-еле» можно замедлиться в очень немногих местах, да и в них нельзя просто так смотреть под ноги, ни один мало-мальски толковый грибник просто под ноги не смотрит, он шарит глазом по серёдке подлесья и угадывает, вычёсывает места, где гриб может вырасти в принципе, ведь ни один гриб не заставишь показаться там, где ему не по душе, не в грибном месте, а уж от одного грибного места до другого – скорым аллюром. Собственно, собирать грибы – это бежать по лесу.
Как только я себя в этом убедил, словно кто-то остановил меня мягкими руками в грудь и зашелестел в уши: «Не ходи туда, не ходи, не ходи!» – и я повернул обратно, к деревне.
«Махну-ка в другую сторону, старая колорадочница опять, наверное, не расслышала, а ты мотайся целый день по болотам…»
С едким злорадством на самого себя, ступал в свои же следы, в глубокие моховые лужицы и быстро миновал подберёзовое политбюро, свинушечный разлёт и так до самого сыроежного крошева. Солнце подгоняло меня в затылок, и я чуть свернул со следа влево, на просвет, быстрее к краю, и так уж много времени потерял! – не признавался, что дело не во времени только, но в этом самом легко щекочущем страхе: вернуться, вернуться на старое место, к себе, в себя. Свернул, да видно больно круто – просвет оказался не краем деревенской поляны, а узкой болотной улицей, просекой, на которой разлеглось солнце.
Я пошёл через просеку с небольшой поправкой вправо, солнце грело теперь кепку над правым ухом, чуть к затылку, и через десяток минут – а больше я и не мог идти до этого места! – упёрся в такой частый мелкий березняк, что продраться через него нечего было и думать, тем более, что через него мне и не нужно было продираться, сюда-то я через него не лез! В глубине частокола на клочковатом рыжем мху разглядел гирлянды голубых поганок. Ничего им там не грозило, никто их там не трогал – разрослись.
Колок стал обходить слева – ему непременно должно было кончиться через сотню-другую метров озерковской поляной, разве что попаду на неё чуть сбоку. Похожая на тропу вмятость во мху, местами стояла в ней вода, видно, так же обходили чащобу лоси. Я обшаривал глазами светлую половину леса – она была удивительно безгриба, только шишки да гнилые пеньки дырявили одноцветность ковра, пригибаясь же и поворачиваясь в рыжую тень другой стороны, вздрагивал: то тут, то там торчала мясистая шляпка синей поганки. Случалось, поганка торчала самым краешком, а краешек отсвечивал рыжим мохом – ну, чисто белый!.. но не спеши лезть с ножичком в непролазное, вот правило: посмотри, кто там с незнакомцем рядом и в полный рост. Скажи, кто твой брат…
Уже отмерял с полкилометра, если можно в лесу говорить о километрах, а мелколесой стене конца не было. Я выругался с досады на свою несообразительность, на хитрость этого малолетнего угрюмца-леса и полез-таки сквозь него: сколько я понимал лес, в ширину молодняк не мог быть долгим – за ним или болото, или вырубка, или заветная опушка. Солнце ровно стояло на плечах – это я отметил на всякий случай.
Шагов через двадцать уже пожалел, что решился на штурм: сам я ещё мог продраться сквозь строй берёзовых подростков, можно было бы отдельно просовывать между тонкими стволами корзину, но вместе с корзиной лезть было невозможно, её отнимали, охватило чувство подворотни с дюжиной оболтусов у дальнего, твоего подъезда – не прирежут, но накостыляют и портфельчик-то отберут. И кепку – я устал её поправлять и поднимать. Какая-то гуашевая варакушка торопилась порхать за мной то с одного бока, то с другого, замечательно подражая моему молчанию. Или она следила? Синие поганки хрупали под ногами, стало темно и неуютно. Я бы непременно повернул назад, если б не увидел огромный подосиновик в нескольких метрах впереди. Самое сильное доказательство тому, что не ты идёшь по лесу, а лес ведёт тебя, пропускает, как по некоему тракту до нужного ему места. Только ты набрался воли и решил: всё, поворачиваю назад, – он обязательно подсунет приманку. Особенно, если ты собрался совсем выходить из леса – просто так не отпустит, непременно воткнёт под ноги какого-нибудь крепыша. Может, скучно ему без нас?.. В сравнении со старыми коричневыми сопляками этот красивый истукан был каменным, я без жалости вывалил подберёзовое желе – вон! Отсюда же угадывался выход, мох снова становился зелёным. Выбравшись, я отряхнулся от сучков и иголок, перевёл дух. Передо мной снова была просека, только теперь с рукотворной канавой посредине. Узкую пустошинку между частиком и этим болотным рвом в насмешку, вместо награды за штурм, крикливым кагалом заполнили красные мухоморы. Панорама бомбардировки. Ну что бы – столько же подосиновиков! Почему именно мухоморы, тут ведь ни души, тут ведь всё равно, кому проводить собрание, нет – мухоморы, до краёв, даже спустились вниз, даже – вон! Вон! – взобрались по другому склону канавы и даже просочились в можжевеловые темники, начинавшиеся в пяти шагах от моего лаза. Полон лес погани, тьфу!
По канаве я почти побежал – направо, не очень-то уже смотрел под ноги, я искал не грибы, а деревню Озерки. Канава сначала шла куда мне и хотелось, на восток, но скоро повернула под меряным прямым углом на север и мне представилось, что какой-то лесной чертяка сейчас передо мной эту канаву и чертит. Я прибавил ещё – догнать и разобраться! – а канава снова свернула на восток и, не успел я этим успокоиться, воткнулась перпендикулярно в другую канаву, и слева, куда мне идти совсем не хотелось (куда было нужно, я уже не соображал), на верхотуре давнего отвала всё в тех же десяти шагах рос огромный, мне даже показалось – тот же самый! – подосиновик. Я пошёл налево. У подосиновика чуть передохнул, присев, а когда встал на бугорке во весь рост, увидел – не могло же средь белого дня так ясно увидеться! – торчащую с той стороны березняка черепичную крышу, трубу и дымок над ней.
Сломя голову бросился через берёзовый частокол, разодрал штанину, потерял оба подосиновика, а когда выскочил с другой стороны, увидел вместо крыши болото и две завалившиеся друг на друга старые гнилые берёзы.
Случалось ли вам заблудиться в самом начале своего похода по лесу? Ещё бы… в незнакомый лес только войди – усмирённая городскими табличками кровь уж леденит затылок: «Заблудился!» Я окончательно перестал высматривать подосиновики, повернулся похолодевшим затылком к солнцу и поскакал по мхам и кочкам – если уж не в деревню, то на дорогу, по которой я вчера ехал, на неё не выйти было невозможно! И уже молился на дорогу, хотя совсем недавно не ставил её ни в грош, потому что считал: у человека есть все чувства – и птичьи, и рыбьи, и насекомьи, только они слегка завяли за ненадобностью. Я умел их оживлять, и был уверен, что в лесу никогда не заблужусь, потому что иду по своему – магнитному? – полю, только бы о дороге не задумываться, ведь где и можно заблудиться, так это на дороге. Ты чуешь: не туда, не туда, магнитный флюгер так и тащит тебя на обочину и за неё, а дорога держит и тянет обратно в колею. А когда привыкаешь подчиняться – перестаёшь ориентироваться в мире. Дорога вещь коварная, это такой инструмент для ослепления человека, она превратила его из птицы в какую-то тупую вагонетку… Но сейчас ругал её зря – дороги не было. Через четверть часа скачки я стоял на краю канавы среди мухоморовой братии, в глубине березняка белела куча выброшенных мной подберёзовиков. Вот те камуфлет! Так могло случиться, если бы весь лес, как на блюде, повернуть разом на сто восемьдесят градусов. Выходило, что солнцу верить нельзя. Я вспомнил про компас. Север был на севере, юг – на юге, а куда идти непонятно. Что толку с компаса, когда уже столько напетлял? Я сделал самое верное, что можно было сделать: по своим же следам всю дорогу назад, благо во мху следы были видны отлично.
Времени не помню, но «отследив» изрядно, я вышел-таки к сыроежному крошеву, от него уже, гораздо скорее, чем ожидал, «отследил» до ёлочек, перебежал через ржаной клин к берёзкам, рассмотрел за ними кочкастую луговину и два слившихся говённых озерца, верстовую берёзу-калеку между ними и готов был уже расхохотаться над собой, сесть прямо на сырую кочку и расхохотаться, прощая и одновременно не прощая себя за трусость: «Ну ты, приятель, даёшь, в трёх соснах!..», как услышал электрическое шуршание поднимающихся вместе с кепкой волос на холодеющем затылке: деревни за озерцами не было, не было и разбитой в две-три колеи пыльной дороги, и бабки на огороде, и огородов, и уж, конечно, не было у околицы моей «волги», поскольку не было околицы…
Самое лёгкое, чем можно было загородиться от помешательства, начать твердить: «Это другие, другие, другие, совсем другие Озерки, это не Озерки, а просто какие-то озерки…»
С луга тянуло холодной сыростью. Пропотевший от скорого шага, от потрясенья, я почувствовал озноб во всём теле, ёжась, поднялся и, стараясь не оглядываться, незаметно – для кого?! – убыстряясь и убыстряясь, подался к лесу: спрятаться! Неожиданный грохот достал меня в спину, но я и тогда не обернулся, я без этого знал, что сухая белая великанша рухнула в воду, завершая превращение мира, разборку мистических декораций.
Когда лес сомкнулся за мной, остановился и с тупой размеренностью начал себя успокаивать: «Мало что ли тут может быть луговин с лужами посредине? Много!.. Много тут может быть луговин с лужами посредине!.. Мало ли?.. Много!.. Мало ли?..» А вспомнив, какой кусище на карте занимал зелёный с редкими просветлениями цвет леса – десять Бельгий! – слегка пришёл в себя: «Да мало ли на таком кусище?.. Много, много!..»
В лес убегаешь – понятно, что за грибами, – но главное – от людей, пристроить на отдых душу, хоть на несколько часов… Талдычишь себе: как хорошо, как здорово. А наткнёшься на мысль, что вдруг придётся всю жизнь прожить в лесу – по спине пробегает холодок караулящей жути. Городской человек не сможет выжить в лесу не потому, что не прокормит себя или замёрзнет, нет, он в первые же сутки, если будет знать, что они только первые в долгой череде дней, сдохнет от тоски, ведь когда речь пойдёт не о прогулке и возвращении, а о жизни тут, сразу становится очевидной инородность, нажитая чужесть твоя этой проросшей деревьями земле, душа леса не принимает твою душу вместе с разумом-колёсиком, притёртым к городскому механизму, и поэтому либо лишит тебя его, разума, и ты чокнешься, превратившись в лешака, либо вытряхнет из тебя саму душу и ты кончишься, но тоже не сразу, а сначала пронаблюдаешь свой собственный душевный исход – с этой тихой холодной спинной жути он и начинается.
3
Лес обманывал. Или, что, собственно, почти всегда одно и то же, говорил какую-то неприятную правду.
Сколько-то времени я не мог двинуться с места, а когда очнулся, нашёл себя пустым и разбитым, как бывало со мной после приступов фальшивого оптимизма на партийных пленумах, когда он именно приступами, как падучая. Странным отражением от ствольной толщи я чувствовал кого-то вокруг себя и понимал, что этот кто-то, кого следовало бы бояться – ты сам.
Потом-таки пошёл. Без направления и мыслей. Нет, конечно, какие-то соображения в голове витали, но они были так общи и разрежены, что можно сказать – их не было. Я шёл, не обращая внимания ни на время, ни на небо, ни под ноги, ни на грибы, – что мне эти грибы? Ну грибы и грибы, они и в … Африке, положим, нет, а в Кузьминском лесопарке есть, и там они такие же грибы, ни рыба, ни мясо, глупость, фальшь какая-то земная. И какая разница – белые, серые, главное, чтобы дорога была до дома.
А дороги-то и не было. Тропинки вдруг возникали, отлегало от сердца: ну, наконец!.. – но пробегали шагов двадцать и растворялись во мхах. Какое-то время я метался по ним в разные стороны, потом встряхнулся и полез напрямки, не зная куда, уповая на то, что это я не знаю, а тот, кто подспудно ведёт меня – знает.
Начался дурнолес: колючий кустяк, канавы, еловые стволы противопутниковыми ежами ложились поперёк несуществующих троп – всё чаще и чаще, начинало казаться, что нет стоящего дерева, все попадали, выдрав для какой-то жуткой надоби себя самоё с корнем – с корнем! – и высились теперь чёрные кокоры в три-четыре человеческих роста, со стороны в косых просветах между стволами неизменно виделись капищами лесных духов или даже самими духами, явившимися на пути специально для какого-то предупреждения. Тут же царство паутин. Искрящиеся сети перегораживали любые возможные проходы, и все на уровне лица. Не случайно, пауки – тоже люди. Бурелом на бурелом – недавние выворотни лежали поверх таких же, но уже сгнивших и покрытых мхом, а кое-где и плотной несъедобной опёночной братвой от серого до ядовито-жёлтого цветов. В мёртвом больше соков для чужой жизни, сначала распни, а потом учись у него жить, живи с него, на нём. На живом дереве гриб не растёт, и пень только тогда даст грибное потомство, когда его собственная душа иссякнет и освободит место. Бурелом… И не потому он бурелом, что поломало-покорёжило деревья бурей, налетевшей со стороны и сверху, а потому, что эта дебрь сама по себе – бурелом, она уже так вычудилась из родившей её земли – буреломно, и теперь любой буре сломает шею, потому, наверное, эти лесные вычуды и называют крепью. С превеликим трудом, изодравшись, едва не свернув шею, потеряв дыхание, перелез через очередную еловую заграду и оказался зажатым со всех сторон: ёлка, ёлка, выворотень, бочага… Я полагал, что непроходимой может быть только молодая чащоба, когда стоят недоросли наглой стеной, ну нет щели! – да попал в настоящую непроходимость старого залежалого леса, в свалку корчей и понял лесную ловушку.
Вот тебе и Озерки!.. «А и захочешь – не уедешь!..» – а что как она в самом деле ведьма да по мою душу, взяли да выбрали на грибном совете меня за всё виноватым, заманили…
Попробовал было назад, но сил уже не хватало. Вперёд, в стороны нечего было и думать: старая дебрь ощетинилась на меня, стиснула, впору заплакать. Я опустился на какую-то неровность и заскулил без всякого вдохновения. Достойное место, чтобы мне закончится; часто я думал, как это может случится, но до такого лесного капкана не додумывался. Вместо паники опустилось спокойствие, я продвинулся по неровной кочке под солнышко и то ли заснул, то ли ещё как отключился, – последней запомнившейся была мысль о том, что мои портайгеноссе зачислят меня в дезертиры, как перед этим и шефа нашего, Гриба, – корабль тонет, крысы побежали… Вот страна… бурелом! А снилось – или виделось-бредилось? – какое-то тотальное бедствие, вернее, последствия его: земля перестала рожать. У яблонь – пустоцвет, колос – голая стрелка, у без пяти минут мамы живот стал усыхать, сжиматься и в конце концов окончательно вытек кровяной слизью. В лесу не стало комаров, но и это не радовало, потому что не было ни ягод, ни грибов, а на ягодных полянах – умершие от голода и горя птицы, гниющие долго, без червей и бактерий…
Прошло сто лет, а я всё был, был и был на свете, правда, раструхлявился, напитался гнилыми земными соками и, наконец-то, дал лесу потомство: осклизлые, многоухие, многоротые мокрухи вылезли из каждой моей поры, закрыв меня от солнца. Я становился кем-то или чем-то иным, и кто-то подзуживал в ухо: человек должен во что-то превращаться, а я через вязкую сонливость пытался спорить: не должен! Не должен становиться, он должен оставаться, его уже сделали тем, кем он обязан быть, за него уже постарались, а его работа-забота с напряжением всех сил – человеком оставаться. Хотелось умолять лес, кричать: «За что? Не превращай меня!..», но как всегда во сне – голоса не было.
Очнулся в тени, только ладонь левой руки попадала под солнечную струйку, в ней купалась пестрокрылая муха, шевельнулся – она взлетела. Как я был гадок и неуместен здесь, среди травы, мхов и полуживых деревьев! Я был даже не гриб, я был гораздо уродливей, но лес брал на себя моё уродство – какой ни есть, живи.
Встал и молча полез на абордаж – сколько осилю, а там – твоя взяла, Евдокия, пиковая ты моя Петровна! – превращусь в лешего да стану тут жить. Неожиданно, без всякого подсказа светом, бурелом кончился, а началась самая настоящая марь – пьяные великаны исчезли, сосны поредели, сплющились, земля странно выровнялась и помягчела. Видно, тут в древности было озеро, да выпил его корнями лес. А может и не выпил, а только укрыл, спрятал, и чёрные слепые щуки плывут подо мной, надеясь и не надеясь на поживу? А по берегам, небось, селились лесовики… Тоже – Озерки.
Я шёл уже минут двадцать, марь выровнялась во все стороны. Хорошо было бы раньше выгрести сюда на лодке и отдаться ветру – к какому-нибудь берегу, к чьей-то баньке да пригонит, не надо вязнуть в сапогах. Посмотрел в сторону, куда склонялись верхушки болотных, без всяких ветвей берёзок и на самом краю мари увидел… белую – черепичную? – крышу и кучерявый над ней дымок…
Знакомо ли кому-нибудь так, как нам, упрямое движение к цели, о которой известно лишь одно, лишь то, что её нет? Я трижды прошёл до увиденного места, вышел на берег этого древнего озера и столько же прошёл по берегу – вправо и влево, сбил ноги, едва терпел ноющую боль в плече и в пустом желудке, но всё шарил и шарил глазами в просветах, в реженьях и над верхушками деревьев – где ж ты, мой дым?
И была ещё марь поменьше, и был ещё один бурелом покруче, и пошёл после него лес совсем какой-то странный: ямы, частые косые пеньки, ровными рядами сосны, невысокие ветвистые берёзы, кусты, а на весёлых вроде бы полянках – заросли крапивы, между ними и настоящей лесной травой неожиданно темнели земляные плешины, как бывает вокруг костров на туристских стоянках. Разглядел и дорогу, криво нанизавшую на себя несколько таких закрапивных полянок, за которыми она бежала уже прямо, прямо, прямо до поваленной через неё берёзы, а дальше… дольше я рассмотреть не успел, дальше я про дорогу забыл: на поваленной берёзе сидел человек и поглядывал в мою сторону.
Как меняется мир с появлением в нём человека!
Стоило бы тут порассуждать о неожиданном человеке в пустоте, но поздно, поздно рассуждать о человеке, когда он уже появился. Он был стар, может и не так уж стар, но многодневная щетина (ещё не борода!) и лохматые пегие волосы из-под кепки явно добавляли ему непрожитое. Кирзовые сапоги, заправленные в них брюки костюма, пиджак без пуговиц – я разглядел это, когда подошёл ближе, как и бурые пятнышки на когда-то светлой рубахе от давленых комаров. Корзины не было, должно, оставил где-то в кустах, не потащил до места отдыха, и она отдыхала отдельно.
Первым, после озноба непроизвольного испуга, желанием было схватить его за рукав и взмолиться: «Выведи меня отсюда, мил человек!» – и не отпускать, пока не выведет, но его ровное спокойствие быстро передалось мне, я взбодрился.
Он смотрел на меня без интереса, постукивал своей грибной палкой по бересте, из-под неё сыпалась ржавая труха. Когда я подошёл, и старик увидел, что корзина моя пуста, заулыбался. «Надрал, небось, валуй небритый!» – выползла откуда-то перемешанная с завистью ревность к чужой удаче. Спрашивать же про грибы было неловко, и про Озерки – вдруг они всё-таки за тремя соснами, не выйти б дураком. Но что-то спрашивать было нужно, и я спросил, что это за место такое странное в лесу?
– Где? – оживился дедок, оглядываясь вокруг себя. Голос у него был хрипл, даже по полуслову «где?» можно было сообразить, что он давно не прочищал горло разговором.
– Да вот…
Старик промолчал дольше, чем было нужно для того, чтоб сообразить – в лесу улицы не мечены, лес, мол, и лес. Потом ткнул, наконец, палкой:
– Вона, где крапива, та, что до ёлок, – покосился на меня, понимаю ли? – школа, как раз к ёлкам крыльцом будет… В яме, – ткнул в другую сторону, – видишь, где пеньки? – это амбар, он опять заулыбался, видно амбар в его голове был хорош и особенно люб ему, не то, что школа. – Вот в тех бузинах – колодец… Да, за магазином ещё колодец, но в этом вода не в пример лучше, – махнул в сторону «магазина» рукой и сухо облизнул потрескавшиеся губы, – куда как лучше… А это всё – он неторопливо очертил полукруг в сторону сосновых посадок, – луга.
На всякий случай я кивнул: хороши луга, трава аж до пятого этажа.