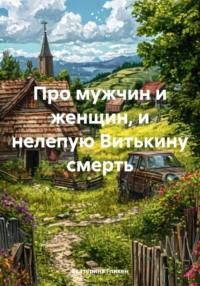полная версия
полная версияПолная версия
Простые люди. Трагедии на каждый день
Теперь приходится Буке жить в шкафу. Сидит он там, а сам в щёлочку всё за ребёночком подглядывает. Растёт ребеночек – растёт с ним и Бука.
А как вырастет Бука Страшный от грехов да проказ детских, как наберётся сил, выберет ночку потемнее да схватит мальчишку или девчонку, да в лес утащит. Там найдёт низинку поглубже да посырее под елкой тёмной. Яму выроет да дитё в ней и прикопает.
А сам сядет караулить. Пока ребёнок в яме кричит да бьётся, Бука Страшный песню волчью поёт, никого к низинке не пускает, филином кричит, чтоб случайных охотников до кладов в ночи напугать. А как только затихнет дитя, Бука Страшный тут же его откопает да пока мертвец не остыл, кровь из него тёплую и высосет.»
– Смерть, где твое жало? – горько усмехнулся Алексей Николаевич. – Где тот Бука Страшный, когда он так нужен, когда и жить невмоготу, и помереть самому страшно. Ведь сколько грехов в жизни сделал, а Буки-то всё нет.
Звук начавшегося боя увлек Алексея Николаевича и не отпускал до самого вечера. Только далеко за полночь Алексей Николаевич выключил компьютер и, стараясь не шуметь, тихо прокрался в спальню к сонно сопящей жене. Разделся, бросил вещи на стул.
Тихо скрипнула дверь шкафа. Алексей Николаевич замер, испугался, что задел ее и теперь этот звук разбудит жену, а значит начнутся бесконечные разговоры про то, что он не прав.
Постоял полминуты, вглядываясь в темноту. Тишина. Показалось, будто что-то сверкнуло кошачьим глазом сквозь щёлку в шкафу. Алексея Николаевича слегка передернуло.
Еще полминуты стоял он в тишине, прислушивался. Потом забрался под одеяло, стараясь не касаться жены.
Сквозь окно глядела в комнату огромная луна, какая бывает в конце сентября, круглая, как большие вокзальные часы.
В шкафу будто кто-то копошился. Алексей Николаевич повернул голову в ту сторону, откуда шёл звук. Но нет, кажется, показалось. Всё же как-то зябко стало под светом луны наедине с непонятными шорохами. Алексей Николаевич подтянул к себе жену, обняв её покрепче. Тело супруги благодарно прижалось к нему.
Алексея Николаевича мягко окутывала дрёма. Вот уже таяли очертания яви и наплывали на неё, мягко вписываясь в пространство, мечты и фантомы.
В полусне было всё возможно, страх отступал. Жена снова сделалась милой и желанной, как в первые дни знакомства. Луна, комната, ребёнок, – всё это исчезло, захватив с собой тревоги и заботы.
Юные супруги бежали босиком по мягкой траве навстречу горизонту, впереди их ожидало что-то большое, светящееся и переливающееся разными цветами, словно горы драгоценных камней.
Перед ним бежала красавица-жена, закрывая изгибами тела лишние подробности пейзажа, сзади за ней трусил Алексей Николаевич, прихватив с собой огромный калькулятор и считающий, как и на что он потратит доходы от сокровищ, переливающихся на горизонте, которые они вот-вот получат.
Картину увлекательного ясного дня разрезал пополам истошный вопль: то ли волчий вой, то ли хохот филина, то ли плач ребёнка.
Алексей Николаевич обнаружил себя, стоящего на самом краю пропасти. Жены рядом не было, изумруды пропали. Вместо всего этого – из чёрной черноты смотрел на него хищный зелёный глаз, бездонный и беспощадный, неумолимый и непреклонный, как сама Смерть.
– Что же ты Алёшенька? – послышался голос Инги Павловны. – Шагай смелее.
Чернота вокруг захохотала и моргнула, Алексей Николаевич пошатнулся и резко скатился вниз. Но не упал в бездну, а за что-то схватился, что-то тонкое, хрупкое, неверное. Он не мог разглядеть, что именно это было, но держался изо всех сил.
– Страшно помирать, Алёшенька? – ласково спросил голос.
Алексей Николаевич кивнул. Голос молчал. Алексей Николаевич снова кивнул, ожидая, что после честного ответа, неведомая сила поможет ему. Однако, тишина повисла, казалось, навсегда.
– Да! Да! – кричал изо всех сил Алексей Николаевич. – Страшно! Помирать страшно! Жить хочу!
– А ты не бойся, милый! Помрёшь, снова родишься. Опять помрёшь, опять родишься…
– Не верю, – прошептал Алексей Николаевич.
– Поэтому так и будет, – захохотала снова чернота. – Пока не веришь, будешь думать, что смертный. Будешь появляться и исчезать, появляться и исчезать. И каждый раз будешь мучаться, как появишься, и каждый раз будешь страхом холодным липким по подштанникам исходить перед смертью. И так сто раз, мильон раз, пока не поумнеешь. Будешь мучаться, унывать. А чтобы повеселее жить было, послаще, будешь грешить – воровать да мало ли чего ещё. Вот моё жало! Пока не понял ты, что вечно, а что временно, что существует, а что кажется, – твоя глупость – моё жало!
– Но сегодня! Сегодня я не хочу умирать!
– А завтра? – вздохнула тишина.
– И завтра не хочу!..
Детский крик разбудил Алексея Николаевича. Он резко открыл глаза и сел на кровати. Сердце бешено колотилось.
Жена мирно посапывала. Всё было, как всегда. Но в то же время беспокойство буквально выталкивало Алексея Николаевича из кровати, гнало в детскую…
Повинуясь тревоге, он пошёл туда, подошёл к кроватке, взял маленькую ручку сына в свою огромную руку, слегка сжал её и вдруг понял! Понял, чтО удерживало его на краю пропасти. Та самая ручка, то самое ощущение!
Но отчего рука так холодна… Алексей Николаевич взял ребёнка на руки. Тот был весь холодный. Алексей Николаевич ворвался в спальню, разбудил жену. Они вместе бежали, трясли маленького сына, поднимали его, будили…
«Я! Я во всём виноват! – сползал по стене на корточки Алексей Николаевич. – Я этого хотел!»
Что-то мелькнуло в шкафу и погасло.
Чудеса случаются
Катя прошмыгнула в свою комнату и аккуратно, тихо, чтоб никто не слышал, закрыла за собой дверь.
Как это всё надоело. Каждый раз одно и то же. На кухне гундели пьяные голоса. Квартиру заволакивал дым сигарет. Всё: одежда, покрывала, подушки, шкафы, обои, – всё было окутано кислым противным смрадом ежедневной попойки.
Отец Кати попал в аварию. Сел пьяный за руль. Обычно проносило, в этот раз – обычность сломалась. Привычного чуда не случилось, произошли перемены: он лежал пару месяцев на кровати в Катиной комнате. Мать заботилась о нем, как могла.
А могла она только так: доверить заботу об отце его же дочери.
А что могла Катя в неполных 12 лет? Поправлять подушку? Приносить воды? Да откуда она знала, как надо заботиться? В кино по телевизору делали именно так: сидели рядом с больным, иногда гладили по голове, разговаривали.
Разговаривать с отцом было невозможно. Он лежал. Как кукла. Вонючая тяжелая кукла. В ее кровати. Маленькой она мечтала о том, чтобы у нее были игрушки. Но не такие, а какая-нибудь хорошенькая розовая пластмассовая девочка с гнущимися руками и ногами, которую можно переодевать и возить в коляске.
Отца надо было переворачивать и протирать. Грузное серое тело человека, которого она ни разу, сколько помнит, не видела трезвым, теперь надо было еще и уважать. За что уважать, Катя не спрашивала, просто так положено. Но даже с уважением, даже, если преодолеть отвращение, сил приподнять тело не хватало, приходилось звать мать.
Мать являлась в комнату в сползшей грязной ночнушке под замызганным халатом, вымазанная красной помадой, всегда полусонная и полупьяная. Материла Катю и ее отца.
Как ни гнусно вспоминать, всё же в эти минуты Катя чувствовала хоть какую-то общность хоть с кем-то в мире, пусть даже с этим вонючим куском человека, ее отцом: их обоих ругали, и это сближало. Сейчас она вспоминала те моменты с удовольствием, потому в них не была настолько одна. Сейчас казалось, что тогда была счастлива. А тогда считала, что счастлива не была никогда. Хотя, как стало ясно теперь, тогда счастлива была уже хотя бы потому, что не знала счастья: то есть не о чем было жалеть.
Счастливы были только те, которые в телевизоре: с белыми зубами, с собаками в обнимку, с гладкими ногами, верными мужьями-красавцами, с добрыми непьющими родителями в красиво украшенных под рождество домах… Ей тоже хотелось быть счастливой.
Кто ж знал, что ее счастье будет таким маленьким и уродливым: ворочать тело отца под матюги матери. Счастье быть не одинокой, пусть даже в прокисшем вонючем союзе, в союзе с бессмысленным молчаливым обрубком. В союзе не с куклой и не в мечтах, а с живым, да,
Отец умер. Казалось бы, куда хуже. Оказалось, можно и хуже. Теперь вместо отца в доме стали бывать разные мужчины. Мужчины разные, чаще пьяные, мать всегда пьяная, а Кате уже 17. Фигурой она пошла в мать: сама маленькая, буфера огромные…
Сегодня Катя мышью прокралась в комнату и тихонько щелкнула щеколдой. Выбить задвижку мог любой очередной мамин ухажер, и такое бывало не раз, но все же частенько она спасала от навязчивых ухаживаний. Очередной пьяный охотник до буферов пару раз толкался в дверь и уходил: в открытом доступе была мать. Не так приятно, но без усилий. Это спасало.
Сегодня, в канун нового года, счастья хотелось особенно сильно. Телевизор покорно, по щелчку, показал все известные ему варианты: известная певица, очень известная певица, жена известного человека, любовная история, женщина, выходящая замуж, женщина-мать пятнадцати детей, женщина, отказывающая красивому мужчине, много известных певиц в одном месте, богатая женщина с грудью, богатая женщина с губами, богатая женщина с красивым лицом…
Кате было всего семнадцать, но она уже давно не витала в облаках, как многие ее сверстницы. Те, глупышки, еще верили, что встретят какого-то там принца, верили в любовь, самое смешное – они надеялись, что смогут чего-то добиться в жизни, кем-то стать, они даже старались сдавать экзамены на хорошие отметки.
Катя давно всё понимала: принцев в округе не существовало, петь было уже поздно, стоило начинать с первого класса школы. Единственные из известных телевизионных вариантов счастья, которые были доступны: вариант матери пятнадцати детей и… чудо. Ни то, ни другое не требовало отметок или знаний. Если становиться многодетной счастливой матерью, начинать стоило уже сейчас. Но Катя тянула. Она все еще надеялась на чудо. С этими чудесами твердо известно: чтобы они сбылись, надо верить, нельзя веру бросать.
Однако время шло, а чуда не происходило, зато происходила жизнь и уходила возможность стать счастливой матерью. Катя начинала волноваться. Непонятно, что именно она делала не так: с утра до вечера водила скрюченных старушек через дорогу, помогала ворчливым старикам прочесть то, что написано на ценнике… Однако той самой заветной колдуньи или колдуна так и не встретила. Год назад Катя расширила поле своей деятельности, впустив в круг опекаемых пенсионеров еще и стариков из храма неподалеку (тех, которые меняли свечи на обещание помочь). Ну, а вдруг. Ведь чудо может прийти внезапно, неизвестно, откуда и когда.
Сегодня канун нового года. Сегодня обязательно должно случиться то самое. Обязательно! Неизвестно, как, но она поймет, что это произошло. На всякий случай Катя зажмурилась и сосредоточила взгляд на двери. Несколько секунд она рассматривала облезлую потрескавшуюся краску, темное пятно возле ручки, ржавую щеколду… Вдруг дверь резко отворилась. Катя не успела отпрыгнуть. Что-то ударило ей по носу. В носу сразу стало как-то мокро и щекотно. В глазах мутилось, было страшно, она попыталась поднести руку к лицу. Оказалось, кто-то крепко прижал обе ее руки к полу. Голову не повернуть. Катя лежала молча, глядя в потолок, понимая, что что-то суетится около нее, чувствовала резкие движения, потом какие-то шлепки, ее трясло, потом качало. Потом и вовсе ее окружила тьма, проникая в самую глубь из уголков глаз и заволакивая мир.
Катя пришла в себя от странных криков. Глаза болели, голова раскалывалась. Рядом кто-то верещал. Она попыталась перевернуться набок. Из такого положения стала видна подробная картина происходящего: дверь в ее комнату болталась открытой, щеколда виновато свесилась, держась на одном гвозде, пьяная мать скандалила с очередным мужиком. Потом, обернувшись на Катю и заметив, что та открыла глаза, мать кинулась в ее сторону. Она материла Катю на чем свет стоит. Катя даже почти улыбнулась, вспомнив недавние свои рассуждении об убогом своем счастье, однако, как скоро стало понятно, материла мать только Катю. Костерила за то, что отняла у нее … вот этот самого мужика. Катя снова была одна.
Она медленно поползла в сторону своей кровати, встать не было сил. Крики стали удаляться и пропали. Катя обернулась – перед ней зияла дыра в прихожую, появилось ощущение, будто бы Катя совсем голая и стало неловко. Но сил закрыть дверь не было.
Затянувшись под одеяло, Катя заснула. Что было сегодня вечером, то было. Об этом завтра. А сегодня канун нового года. Обязательно должно случиться чудо. Иначе невыносимо. Сил больше Катиных нет.
На грязном окне играло во всю яркое золотое короткое зимнее солнце. Все тело болело. Болели ноги, голова, нос… Болело всё. Вставать и просыпаться не хотелось. Но ведь если остаться в кровати, в этих засаленных простынях, можно пропустить чудо. Катя подтянула себя на руках и перевернулась на бок.
Перед ее глазами стояла ёлка. Самая настоящая зеленая лесная красавица. А под елкой – подарок. Даже если там, внутри красивой коробочки, пусто, все равно подарок уже существует! Катя дотронулась до него. Он не пропал, он был тут, по-честному, он существовал, аккуратно перевязанный блестящей ленточкой.
Катя прижала его к груди, не торопясь распаковывать, все еще сомневаясь в том, что чудо случилось. Вдруг это все еще обман, пусть он еще чуточку побудет. Не стоит спешить навстречу правде из такой прелестной лжи.
Все же любопытство взяло свое. Катя торопливо разорвала хлипкую обертку. Внутри… в общем, там была палочка. Сразу понятно, какая палочка. Конечно, волшебная. Такая, как у Гарри Поттера, только для девочек. Как в кино. Катя тут же поняла, что она способна творить и вытворять, она может делать все, что захочет. Вообще всё!
Но что?! Что именно ей захотеть? Хорошо всё же волшебникам, их в школах учат, чего хотеть. А обыкновенному человеку, откуда знать, что делать. Хорошо, что по телевизору все же не только новости показывают.
Катя взмахнула, и ее комната засияла всеми цветами радуги, исходившими от прыгающих через цветочные поля единорогов. Что еще? Ах, да! Птицы! Сквозь отворенное окно влетели поющие пташки, неся в клювах красивое-красивое, всё в блёстках, новое Катино платье и поспешили надеть его на неё. «Еще! Что еще!» – беспокоилась Катя, закрывая окно.
Вся комната была наполнена ароматами цветов, пеньем птиц и сверкающими единорогами… Все это мешало сосредоточиться. Катя схватила наволочку и стала махать ею в комнате, пытаясь напугать птиц, чтобы те улетели. Парочку удалось сбить, теперь они молча лежали на полу, как и совсем недавно сама Катя.
Единороги попрятались, кто куда. В комнате стало тихо. В голове было пусто. Идей не было никаких. Катя включила телевизор… И сразу все стало понятно! Нормальных родителей, конечно! Семью нормальную. На секунду она задумалась, стоит ли брать с собой мать, но потом поняла, что в приличном обществе, в том, куда она через мгновение попадет, мать будет позорить ее. Катя взмахнула палочкой …
Она сидела на уроке английского языка. Строгая учительница, блестя стеклами очков, смотрела на нее исподлобья. Катя поняла, что эта мамзеля что-то у нее спрашивает, но не поняла, что. Послушав еще немного, Катя встала и вышла из комнаты. Тут же она оказалась в белом коридоре с высокими потолками и разноцветными колоннами. Под ногами мягко стелился ковер. В конце коридора балкон манил развевающимися занавесками. Катя подошла ближе. Прямо у балкона начиналось шикарное, роскошное Оно. «Наверное, это и есть море», – подумала Катя и рванула по лестнице вниз туда, к огромному шепчущему ласковому зверю…
По дороге ее остановила другая женщина, как две капли воды похожая на мать, только какая-то словно опрятная, в стираной одежде, аккуратная, с прической… Мать не дала Кате покинуть урок английского. Это было что-то новое. Сколько себя помнила, Катя всегда ходила, где ей вздумается. Никто и никогда ее не держал. А тут все наоборот. Стало странно, что кому-то не все равно на ее обучение и жизнь. Это было нагло даже со стороны матери. Никогда ничего, а тут вдруг кто-то предъявляет права! Катя взмахнула палочкой, и мать снова стала похожа на себя: старые треники повисли под брюхом, глаза обросли красными мешками, зубы стали реже, появился знакомый запах…
Нет, к черту эту счастливую семью с ее морем и уроками. Лучше сразу стать взрослой. Взмах палочки, и Катя оказалась за столом с удивительными дамами и собаками, с теми самыми, которых она много раз видела на экране. Правда, вблизи дамы не были настолько хороши. Уродливые неестественные выражения лиц, губы, словно хлопающие друг об друга спасательные круги, ногти, как стадионы… Собаки да, были, и правда, очаровательны.
Катя прислушалась. Говорили о деньгах, о деньгах, о деньгах, о глупых людях, снова о глупых людях. Разговор был захватывающим. Эти некрасивые женщины так много знали о жизни, о том, как надо, о том, почему другие люди несчастливы, каждая из них была успешной. Правду говорят, женщины бывают двух типов: красивые или умные. Эти были сверхумными.
Катя решилась задать им вопрос, который мучил давно: почему некоторые люди бедны и несчастны, и как им выбраться из бедности?!
– Ну, дорогуша, они сами виноваты в своих бедах.
– Как это? – удивилась Катя.
– Да очень просто, – сказала шлепогубая человекорыба. – Что им мешает решить свои проблемы? Например, взять и открыть свое дело, заняться бизнесом…
– А если человек родился у пьющих родителей? Тоже сам виноват?
– А что ему мешает бросить этих пьющих родителей? Поступить в престижный вуз и закончить его с отличием? Сама подумай?! Только его собственная лень мешает! А потом открыть свой салон. Что ей мешает завести свой блог? Прокачать инстаграм? Чтобы ее заметили. Ведь все просто. Пару фоток в инстаграм, и все, разве это трудно? Если ты хороша, то к тебе подписчики валом повалят. Я, например, умею хорошо встать на камеру. У меня с первой фотки три тысячи подписались. Но надо работать много, конечно. Это не так все просто.
Катя лихорадочно соображала, какой еще из видов телесчастья она не попробовала? Со старенького дивана все эти тети и дети завораживали и манили. Но стоило очутиться внутри вожделенной картинки, все оказывалось совсем другим. Здесь было кисло и неинтересно. Здесь было тупо и противно. Это обман, обман! Все эти единороги и эти люди, всё это…
А где же? В чем же тогда? В тех самых минутах с полумертвым отцом? Катя взмахнула палочкой. Теперь она сидела у постели парализованного папаши. Мать орала на нее благим матом. И вдруг Катя поняла. Это было так просто. Счастье – не быть одиноким. Еще взмах палочкой. И вот она – мать и жена. В слегка порванной блузе, напоминающей о былых успехах, с цигаркой, зажатой красными губами в углу рта, еле стоящая на ногах…
Очень болела голова. Ноги тоже тянуло. Дверь в коридор была открыта. Оттуда несся мат и сигаретный дым…
Катя проснулась совсем взрослой. Больше она не верила в чудо. Зато она знала, что делать детей не страшно, просто немного неприятно и потом ноги болят.
«Да, будьте счастливы вы, наконец!»
Дни рассыпались как бусины из дешёвого ожерелья. Лёгкие, как будто пластмассовые, они моментально закатывались в разные уголки памяти.
Она пыталась собрать их воедино и нанизать на личную нить временной последовательности. Отыскивать их в тумане сознания становилось все тяжелее и мучительнее. И тем тяжелее, что находились они в совершенном беспорядке и беспрестанно путались.
Один Она нашла прямо за ножкой низенькой табуретки. Короткое воспоминание. Ножка табурета, на ней большая терка для шинковки капусты. Мамины руки. Мама показывает:
– Вот морковки столько, сколько рука захватит. Кидаешь и мнешь.
Руки у мамы были разные. Ногти не росли почему-то никогда. Были мягкими и быстро ломались. На правой руке они всегда были треугольными, а на левой – закругленными. Позже, когда Она сама квасила капусту, Она постоянно видела эти мамины руки, «сколько захватит».
Она посмотрела на свои. Её руки были другими. Почему-то ногти резко очерчивались грязной черной каёмкой. Почему? Может быть, Она что-то копала в саду? Может, у Нее есть сад? Да, наверно! У Нее определенно есть сад и Она что-то там сажает. Что? Морковь? Она завертела головой, оглядываясь по сторонам, желая отыскать хоть маленький огородик, хотя бы на окне. Но не нашла ровным счетом ничего.
Но ведь должен быть? Сад. А в нем розовые розы… Она точно помнила, что нужно было посадить белые, а почему-то выросли розовые. Перед глазами вновь мелькнула яркая картинка. Красочная страница книги. На рисунке какие-то смешные человечки большими кистями перекрашивали розы. Немного поодаль на это, раскрыв рот, смотрела маленькая девочка. Девочка была очень хорошенькая, с растрепанными волосами и сонными глазами. Впрочем, девочка не была нарисованной, а лежала рядом в кровати.
Дочь? Да-да! У меня есть дочь, и мы вместе любим читать «Алису в стране чудес». О, прекрасные вечера, которые мы проводим с ней за чтением. Она так хохочет, когда я изображаю мартовского кролика: «Ой, мои бедные усики!»
Ой, моя бедная дочь! Что с ней сейчас, долго ли я отсутствовала, она дома одна, голодная! А я сижу тут, бездарно пялясь на руки! Может быть, я дома, и моя дочь тут рядом со мной?
И Она снова начала оглядываться по сторонам, силясь узнать хоть что-нибудь в комнате. В этот раз Ее глаза натолкнулись на другие, серые и очень грустные. Перед Ней сидела молодая женщина. Темные жесткие волосы, прямой пробор, острый подбородок. Все это создавало неприятное, отталкивающее впечатление.
Она быстро отвернулась. Взгляд снова упал на руки. На черную кайму под ногтями. Это было отвратительно и стыдно. Эти руки, грязные ногти да еще при посторонних! Она поджала пальцы. Что-то блеснуло. На безымянном пальце руки было кольцо.
«Володя! Как же я могла забыть! Володя!» Воспоминание бросило ее в маленькую комнату с длинным столом, уставленным тарелками и бокалами. Гости. Много людей, все веселы и кричат. Муж получил повышение, и сегодня они празднуют это событие. Вот только, кто из этих людей ее муж?
– А где Володя? – спросила Она в пустоту видения.
– Его нет, – ответил чей-то голос.
В ту же минуту видение исчезло, и Она вернулась в комнату к женщине с серыми глазами.
– А где он?
– Он умер, – сказала сероглазая и почему-то заплакала.
«Какие глупости!» – подумала Она. – «Меня проверяют! Это все демократы с их мерзкой перестройкой! Они проверяют меня, Володя, наверняка, арестован,..В конце концов, откуда они знают, про какого Володю я спрашиваю. Такое имя у многих. Они что-то знают, что-то, что я забыла. Вероятно, поэтому я и не могу ничего вспомнить, должно быть меня пытали, били, и теперь – амнезия. Но почему она плачет?»
– Я могу пойти домой?
Сероглазая совсем разрыдалась. Это было невыносимо. Она взяла ее за руку, чтобы успокоить. Рука была холодная и влажная. Какая-то кукольная. Единственное, за что цеплялся взгляд, – были ногти. Треугольные и короткие. Где-то она уже видела такие. Только где?
– Мама! – всхлипнула сероглазая. – Это я, Марина, неужели ты не помнишь?
«Марина-марина-мариииинааа», – зазвучал в голове веселенький мотивчик, на душе стало весело, как тогда на танцах, когда праздновали Ее сорокалетие. И Она от души рассмеялась, припомнив, как разгоряченная танцевала прямо на улице.
Нельзя было праздновать сорокалетие, это дурная примета, зря не верила, когда говорили, теперь вот чертовщина какая-то происходит.
Воспоминание исчезло так же быстро, как и появилось.
Она сидела на кровати в больничной палате, рядом, на низеньком стульчике, – Ее заплаканная дочь, Марина.
– Мариночка, как же так? Давно ты пришла? Как вы там мои милые, хорошие? Как Боря? Не обижает?
– Мама! – всхлипывала Марина. – Я решила развестись с ним! Он изменил мне! Опять! Со своей секретаршей! Это уже с новой! Я ращу его детей, днями и ночами выйти из дома не могу, сопли им вытираю! А этот кабель….
«А ведь так хотелось, чтобы всё было бы хорошо! Ну хотя бы у детей Какие же мы все несча…»
«Ой, мои бедные лапки», – пискнул рядом белый кролик. И хорошенькая девочка с растрепанными волосами весело рассмеялась. И Она рассмеялась. Она была счастлива, все было хорошо. Все было впереди…
Думай о хорошем
День был жарок. На пляже сидели и лежали один на другом. В несколько рядов.
То там то тут срывались с мест и мчались по ветру в сторону реки разноцветные детские круги, набитые крашеными перьями. По берегу мелькали всевозможные татуировки.
Город в жару и город в обычные дни – это совершенно разные города. Жара, а лучше всего – невыносимая жара, – единственное время, когда в мире правит демократия.