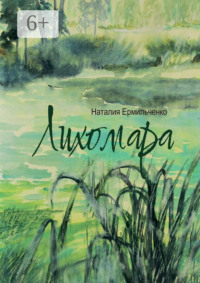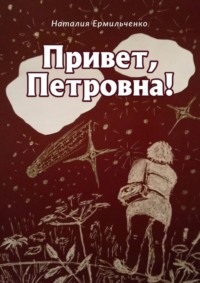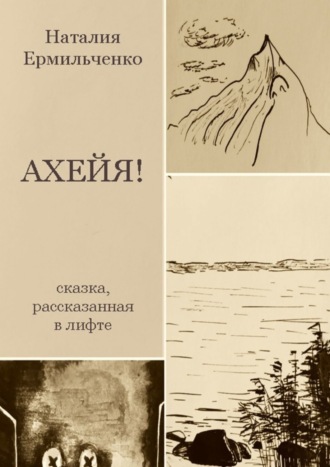
Полная версия
Ахейя. Сказка, рассказанная в лифте
– Да-а-а? И чья же это работа? Не Лазарева ли?
А надо сказать, что Лесникова остальные соседи не любили: жаловались, что он телепат – мысли чужие читает, причем при любом расстоянии. Если мимо него идешь и о чем-нибудь своем думаешь – тут же подслушает и потом рассказывать будет направо и налево. Мало того, иной раз еще так разойдется, что видит по телефону. Позвонит, бывало, кому-нибудь поболтать, и вдруг говорит: «Опять на вас этот халат, зеленый с коричневым. Сколько можно его носить!» А на той соседке и вправду такой халат. Или как закричит: «Ой, моль у вас летает! Вон, вон, у плеча! На стену села! Тапком ее, тапком!»
Ленюшка, на всякий случай, мэра себе представил и говорит:
– Да вроде ребятишки баловались.
– А-ах, какие проказлименты! А что это Паша ваш так поздно на работе делает?
– Работает, – отвечает Ленюшка.
– Ничего он не работает, кофе пьет или спит. А Лазарев не спит. Окопался в своем лесу и думает о всяких глупостях.
– А вы с ним что, знакомы, что ли? – спрашивает Ленюшка.
– Я-а-а?! Не знаком, и не подумаю знакомиться! И другим не советую.
А сам внимательно на Ленюшку поверх очков смотрит. Странный тип. Но Ленюшка так думать не стал, чтобы Лесников не услышал, а подумал вместо этого: «Ахейя!» Лесников удивился и ушел. Он древнегреческого не знал.
А Ленюшка к своей квартире поднялся, видит: на двери что-то углем нарисовано. Пригляделся – фонарный столб!
Федор Коныч снова вспомнил бывшую лифтершу Клавдию. Лёлечка вот ее не любит. Как услышит о ней, прямо шипит: «Ведьма, ведьма»… Такая она, Лёлечка, характер горячий. И чего только, бывало, не расскажет! Будто Клавдия метлу у дворника украла и вылетала на ней из окна, а метла была казенная, даже с инвентарным номером, и дворнику пришлось платить за нее из своего кармана. Будто снимает к Новому году урожай огурцов у себя на подоконнике, а у соседей сверху и снизу батареи вечно холодные. И еще что слетела раз у Клавдии с карниза кастрюля с квашеной капустой, так целую трамвайную остановку удирала по рыхлому снегу от бомжа и под конец кинулась в сугроб. А когда сугроб разрыли, там ничего не оказалось.
Федор Коныч ничему не верил, тем более что семена огурцов Клавдии сам дал: хороший сорт, «Либелла». А метла – да, стояла какая-то в подъезде между дверями… Хотя, конечно, странности некоторые случались.
Однажды в марте Федор Коныч приобрел подзорную трубу для наблюдения за разными небесными телами. Овеваемый весенним ветром, он кружил по газону, похрустывал настом и, роняя шапку, пытался поймать в трубу самую крупную планету – Юпитер. Но всякий раз из подъезда обязательно выходила Клавдия в пальто с норковым воротником, останавливалась поблизости и начинала звонко рассказывать про глаза с поволокою, которые у нее будто бы в молодости были.
И вместо небесного тела Федору Конычу в трубу попадалось земное, а именно фонарь на столбе…
– А что ж, интересно, за человек такой, которого в столб превратили? – спросил он.
Вот ведь наслушаешься всякой всячины, так потом непонятно, как по улице ходить: будешь думать про каждый столб, что это человек заколдованный! Но этого, конечно, Федор Коныч вслух не сказал. Тем более, что перед глазами у него появился листок бумаги, – прямо вспыхнул в темноте, яркий, как экран телевизора.
– Это что? – испугался Федор Коныч.
– Лазарев дал, – пояснил Шуроня.
Лёлечка до пенсии машинисткой работала, так то и дело с работы бумагу носила. Федор Коныч тогда все переживал: «Разве можно! Это же казенное имущество; поймают – потом не расхлебаешь!» До сих пор запасы остались – как раз такие листочки. Только Лазарев не на машинке – он от руки писал синими чернилами. И у Лёлечки все аккуратно, а тут края загнуты – видно, листок сворачивали в трубочку, а потом развернули. Федор Коныч хотел было взять его в руку, расправить, но спохватился:
– Так это же… сказочный листочек?
– Правильно, он-то нам и нужен, – согласился Шуроня. – Мы же с вами сказку рассказываем – забыли, что ли?
Федор Коныч хотел было ответить: «Ну, сказки рассказывать – это без меня! Я уже не в том возрасте, понимаете ли!», но испугался. Испугался он, во-первых, что лифт не поедет, а во-вторых, – вспомнил тот возраст. У них в деревне дети соберутся, бывало, вечером у кого-нибудь в доме, свет погасят и ну рассказывать сказки, да еще страшные какие-то. Сам Федор Коныч никогда не рассказывал: он, пока никто не видел, укрывался с головой одеялом и затыкал уши – а то потом не уснешь. Но все равно под одеяло пробирались к нему разные неприятные подробности. А теперь вот на старости лет опять приходится в темноте сказку слушать, и ведь никуда не спрячешься, и уши не заткнешь. С этими лифтовыми надо как-то подипломатичнее. Как с начальством.
– Огурцы вот у меня хорошо растут, а сказки я, извиняюсь, рассказывать не мастер, – объяснил он. – В крайнем случае, готовую прочитаю, в книжке.
– Так вот вам готовая! – воскликнул Шуроня, дыша на него машинным маслом.
– А у меня очки для чтения дома лежат, – попытался уклониться Федор Коныч. – Да и почерк чужой я плоховато разбираю.
Но тут же совершенно свободно пробежал глазами начало: «В четыре года Боря полюбил трамваи».
– Вслух давайте, вслух! – потребовал Вахрамей. – Трос крученый! Нам тоже интересно.
«В четыре года Боря полюбил трамваи.
Трамвайные пути лежали в стороне от его дома. К ним вела длинная улица, почти всегда покрытая лужами. Впоследствии, когда Боря вырос и начал бегать трусцой, он проникся симпатией к этой улице, потому что, перепрыгивая одни лужи и огибая другие, надолго укрепил свое здоровье. Но пока Боря не бегал трусцой, а просто водил бабушку гулять на трамвайную остановку, он жаловался, что кто-то держит тротуар за дальний конец и вытягивает, как резинку, так вытягивает, что получаются дырки – лужи.
Вообще-то по улице ходил автобус, но Боря от него нарочно отворачивался. «Что такое ехать к трамваю на автобусе? Это все равно, что есть на праздник кашу!» – думал Боря, стараясь не смотреть, как автобус непразднично катится вдоль обочины. И он замерял глубину луж своими резиновыми сапогами, прокладывал тропы на газонах, пробираясь к остановке пешком.
Там, на остановке, будущие пассажиры стояли неподвижно, как на картине. Они стояли, держа равнение влево. И лицами, словно стрелками компасов, указывали – нет, не на Северный полюс, а на поворот улицы, откуда выезжал вагон. Даже обмениваясь фразами, ожидающие почти не поворачивали друг к другу головы. Казалось, что в это время неслышно, про себя, они призывали трамвай, подтягивали его поближе силою своего ожидания. И подобно тому, как подрагивает стрелка компаса, положенного на ладонь, дрожал над ними воздух от их большого внутреннего напряжения.
Боря еще издали присматривался к этой картине, выбирал себе местечко, с которого удобнее глядеть на поворот.
Когда появлялся трамвай, гоня перед собою глухой гул, картина оживала. Лица-стрелки меняли направление, обращались к середине проезжей части, к месту, где ненадолго замирал вагон. Толпа придвигалась ближе к рельсам, подступала к трамвайному боку, а из окошка, сверху вниз, на нее смотрел водитель, всем своим видом как бы говоря: «Ну что, заждались?»
Пожалуй, другие виды транспорта не удостаивались таких торжественных встреч.
Потом, в школьные и студенческие годы, Боря часто приезжал в краеведческий музей, обходил его, зал за залом, надеясь найти полотно под названием «Ожидание трамвая». Пожилые смотрительницы узнавали его издали и краснели от смущения, а экскурсоводы при виде его сбивались и забывали слова. Потому что, как ни странно, ничего подобного не было даже в запасниках. И все-таки картина висела у Бори перед глазами, как настоящая, и он подробно описывал ее посетителям, отвлекшимся от экскурсий. В такой нервной обстановке в музее стала сыпаться с потолка штукатурка, и его пришлось закрыть на ремонт.
В годы Бориного детства ходили трамваи с двумя дверями: задняя служила входом, а передняя – выходом. Крыши вагонов были покатыми, так что спереди, над кабиной водителя, получался крутой «лоб», а над задним окошком – «затылок». Красили трамваи в два цвета: снизу, до окон, в примерно-бордовый, а сверху – в умеренно-желтый, отчего они казались лысоватыми. Но все же не совсем лысыми: дуги стояли дыбом, как четыре тонкие волосины.
Боря не понимал, почему великие художники обошли вниманием столь живописное явление нашей жизни.
После того, как закрыли музей, Боре пришлось учиться рисовать самому. Не сразу, но все-таки ему удалось написать акварельными красками ту картину, что запомнилась с четырехлетнего возраста: толпу народа на улице и выезжающий к ней из-за поворота трамвай. Только теперь она называлась по-другому. Она называлась «Слава».
К тому времени Боря увлекся книгами о жизни замечательных людей.
Эти книги он держал на особой, почетной полке – старинной, красного дерева. Ему почему-то нравилось в компании знаменитостей. «Великие вы мои…» – говорил он им ласково. Великие молчали. Как трамваи, пронеслись они по рельсам своих удивительных судеб, повыскакивали, рассыпая искры талантов, из-за крутых поворотов мировой истории навстречу другим, невеликим людям, подхватили их, увлекли вперед, в будущее. А теперь вот, обратившись в толстые тома с фотографиями и без, отдыхали у Бори дома, как вагоны в депо…
Картина долго украшала Борину комнату. До тех пор, пока он окончательно не вырос. Тогда она рухнула со стены. Ее снесла вместе с гвоздем почетная книжная полка, под которой она висела. На полке скопилось слишком много гениев.
Собирая на совок обломки рамы, осколки стекла, Боря вдруг понял, что в роли долгожданного трамвая всегда представлял самого себя. Хотелось, чтобы разные люди наперебой зазывали в гости, хлопотали, волновались, придет ли, а он бы входил неспешным шагом, смотрел, как светлеют лица, и говорил: «Ну что, заждались?»
Пора было становиться хоть на какие-нибудь рельсы. Этому, однако, многое мешало. Например, Боря не любил отходить от дома дальше тех мест, которые видел из окон своей квартиры. А отъезжать он тем более не любил, потому что транспорт ему обычно попадался ненадежный. Самолеты, в которые садился Боря, задерживались с вылетом, в автобусах кончался бензин, машины попадали в «пробки», а корабли заплывали в туман.
Приятнее всего было бы прославиться, не слишком удаляясь от дома. Но возможно ли такое? Боря взялся перечитывать книги о великих людях. Да, многие из них, очень многие, путешествовали. Или просто уезжали из родных мест. Однако встречались и такие, кто всю жизнь прожил в одном городе. Это обнадеживало. Но одновременно оказалось, что немало знаменитостей питало склонность к игре на разных музыкальных инструментах. И это настораживало. Потому что хоть Боря и любил спеть иной раз про себя песню-другую, музыке он специально не учился. Кроме того, он заметил, что почти у всех гениев приключалось в жизни что-нибудь печальное. Боря встревожился. Тревожные мысли, как тучи, бродили у него в голове, и однажды молнией проскочила между ними идея.
Он решил изучить во всех подробностях судьбы тех, кто стал знаменитым, и вывести формулу славы. Потом подставить в эту формулу себя – а там уж как выйдет.
Боря не сомневался в том, что выйдет, как надо.
Так появилось у него то, что называют Делом Всей Жизни.
Прошло уже довольно много лет с того дня, как Боря навеки полюбил трамваи. Он заметно вырос, лицо свое утеплил бородою, начал собирать монеты. Но говорил так:
– Самый важный возраст в жизни человека – это четыре года.
Не все могут с этим согласиться, и многие действительно спорили. А он только щурился в ответ и улыбался своей удивительной улыбкой.
Боря умел улыбаться так, как улыбаются коты и кошки.
Тех, кто смотрит им прямо в глаза, они встречают с серьезным видом. На самом же деле, они улыбаются, но только тем, кто видит их сбоку, в профиль.
Кажется, что человеческой физиономии не под силу воспроизвести эту загадочную улыбку, не так она устроена. И все же Боря сумел приспособить кошачье выражение к своему лицу. Улыбаясь в фас, он всегда оставался серьезным в профиль».
– Ну, ясно, – кивнул Вахрамей. – Все дело в формуле этой. Позавидовал ему кто-то, вот все так и получилось.
Федор Коныч промолчал. Что тут скажешь – выше взлетишь, больнее падать. Сколько он таких перевидал за свою жизнь! Он-то сам Лёлечке всегда говорил: «Главное, не высовываться. Будь, как все». Да Лёлечка разве послушает! Вот участок они садовый получали от его организации. Дали всем план. Там указано: на каком расстоянии от границы ставить дом, сколько должно быть яблонь, где разбивать огород. Столько-то вишен вдоль забора, столько-то кустов смородины. А по бокам от калитки рекомендовано посадить елки. Лёлечка и взвилась: «С ума, что ли, сошел, – кричит, – елки сажать! Вымахают – весь участок нам затенят, ничего расти не будет!» А организация такая, что не поспоришь. Такого Федор Коныч страху тогда натерпелся, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Хорошо, обошлось.
Ленюшка с утра дверь отмыл, посмотрел на нее – показалось пустовато. Он тогда подобрал с пола уголек, да вместо столба нарисовал собаку лохматую. Так увлекся, чуть про парк не забыл.
А старушки его ждут, оказывается. У самого входа стоят, где липовая аллея начинается.
– Ну что, миленький, нашел, что хотел? – спрашивает Захаровна.
– Спасибо, – говорит Ленюшка, – нашел. Только тут новая пропажа объявилась. Вот хотел спросить: если человека в столб превратить фонарный, чем такой столб от обычного отличаться будет?
Ираида Васильевна чуть сумочку не выронила.
– Это Тишка! Заморочил голову хорошему человеку!
– Ничем, Ленечка, – отвечает Захаровна, – ничем, если все правильно сделано. Это надо того колдуна с собой брать, который заколдовал, или другого волшебника, посильнее.
– А не скажете – кто… – начал было Ленюшка, да старушки вдруг закивали кому-то у него за спиной.
А это мимо Лесников идет и с ним девушка незнакомая. Оба старушкам улыбаются.
Ираида Васильевна кивает, а сама говорит тихонько:
– Что она в нем нашла? Сама молодая, красивая, добрая, а он – мало того, что злодей, так еще и старше на сколько…
– А Леню-то мы от него спрятать не догадались, – шепчет Захаровна. – Вот бестолковые!
– И правда! Что ж это мы оплошали! – огорчилась Ираида Васильевна. – Теперь придется разойтись. А вы, молодой человек, если что, говорите, что нас не знаете.
– А кто эта девушка? – Ленюшка спрашивает.
Спрашивает – и сам себе удивляется: вроде он человек не любопытный.
Старушки переглянулись.
– Все забываю: как это она статьи свои подписывает? – говорит Ираида Васильевна. – Как-то… я – не я…
– Нея, – сказала Захаровна. – Ну, Ленечка, еще увидимся, билетик только береги…
И колдуньи пропали вместе со спаниелем.
…Ленюшка вошел в подъезд – а Лесников у своей двери с ключом возится. Один, без Неи.
– Выручайте, – просит, – кажется, замок сломался!
Стал ему Ленюшка помогать, а Лесников говорит:
– А вы тоже, оказывается, любитель в парке погулять.
– Я в отпуске, – отвечает Ленюшка.
– Да? Что ж вы себе таких спутниц выбрали дряхлых! Вы хорошо с ними знакомы?
– Так, здороваемся…
– Они ужасные! Обе колдуньи, вы это знаете? Знаете, нет? Держитесь от них подальше, а то потом не расхлебаете.
Ключ в замке сам собой повернулся, и Лесников юркнул к себе в квартиру.
Дома Ленюшка про билет вспомнил. «Надо, – думает, – хоть рассмотреть его получше». Полез в карман – а билета нет.
– Да, так бывает, – вздохнул Федор Коныч. – Я сам однажды взял полистать томик Достоевского, «Преступление и наказание», кажется, и как раз меня Лёлечка позвала ужинать. Я книгу отложил и пошел. Вернулся – Достоевского нет. Все обыскали, даже ремонт сделали, так и не нашли. Зато очки я потерял – нашлись в холодильнике.
У Ленюшки был электрик знакомый, который в фонарях лампочки менял, если они перегорали. Ленюшка и подумал: «Поговорю-ка я с ним: может, он что особенное заметил». Вышел из дома пораньше, чтобы электрика на работе застать. Решил Серафиму зря не гонять, на трамвае подъехать. Ждет на остановке, а трамвая все нет. Наконец с предыдущей остановки народ пошел: оказывается, стоят трамваи.
Ну, Ленюшка со всеми в сторону центра пешком отправился. Идет – каждый встречный с ним здоровается, а кто и поболтать остановится, потому как его полгорода знает. Так и добирался часа два. А электрик тем временем на неделю в деревню отпросился за грибами: дескать, ему родные оттуда позвонили, что белых много. «Ну, – думает Ленюшка, – ахейя, да и только! Посеял билет, с которым все удаваться должно – теперь добра не жди!»
С горя к Нельсону завернул, от Серафимы привет передать. Адмирал и говорит:
– Леня, передвигаться пока могу – прошлой ночью пробовал. Давайте сегодня к Лермонтовым съездим. И сам бы дошел, да кроме этой площади, в городе ничего не знаю.
– Да парк тут недалеко, – Ленюшка отвечает. – Лучше пешком идти, я проведу. Серафима – машина заметная, а про вас в темноте сразу и не скажут, что памятник.
Так и договорились.
Вернулся Ленюшка домой. «Дай, – думает, – почитаю, что там Лазарев написал».
Так и листочков этих нет!
– А в холодильнике смотрел? – встрепенулся Федор Коныч.
– Смотрел! – отозвался Шуроня. – Нет нигде, и все тут!
– А листочки нужны, – сказал Вахрамей, – ох, как нужны! Может, там есть про Борины знакомства. Нам ведь что важно? Выяснить надо, кто заколдовал… Читайте, Федор Коныч!
– То есть как?! – опешил Федор Коныч. – Они же пропали.
Опять посыпались откуда-то невидимые шурупы.
– А что это все время гремит? – не выдержал Федор Коныч. – Там от лифта ничего не отваливается?
– Да ну… – сказал Шуроня и тут же скрылся за дверью, которую приотворил, не слезая с потолка.
Из шахты повеяло прохладой.
– Давно гремит? – спросил Вахрамей.
Федор Коныч обернулся к нему и увидел перед собой кошачью голову со светящимися глазами. Если бы не крупные размеры, он принял бы ее за Мурикову: Мурик тоже дымчатый.
– Вот как товарищ ваш пришел, так и посыпалось, а где – не пойму.
Вернулся Шуроня, и Федор Коныч вдохнул запах машинного масла.
– Все на месте.
Перед глазами снова появился исписанный листок бумаги.
Федор Коныч удивился и прочитал:
«…Что она – фея, Боря понял довольно быстро. Когда она улыбалась, даже листья февральских тюльпанов распрямлялись и делались ярче. В пасмурную погоду у ее ног скакали солнечные зайчики, а на стены домов и тротуары словно сыпались осколки радуги. Облезлые подъезды в ее присутствии казались благороднее, вокзал – уютнее, сантехники – милее.
Однажды Боря сказал ей:
– Мой самый любимый пищевой продукт – пшенная каша.
Тут же произошло невероятное. Вся улица, по которой они шли, и площадь, из которой эта улица вытекала, насколько хватало глаз, проросли незнакомым злаком, неродным для среднерусской полосы. Крепкие, уже летние с виду растения играючи поднимались из неплодородного асфальта и вставали рядами, стебель к стеблю. Отодвинулись углы домов. Движение остановилось. Только по полю скользила едва заметная рябь под крыльями голубей, слетевших с крыши мэрии, и воробьев, покинувших памятник адмиралу Нельсону.
Замер и Боря. Его приковало к месту ощущение сытости, которое излучали неожиданные заросли.
– Это что ж тут такое выросло?! – изумился он.
Фея в это время собирала букет, и радуга играла у нее за спиной в витрине магазина. А прохожие, которые шли Боре навстречу, взглядывали на него испуганными глазами и сразу падали, споткнувшись о стебли.
И только одна женщина, торговавшая на улице подснежниками, крикнула ему в ответ:
– Да просо же!
Дома он открыл, на всякий случай, «Словарь русского языка» и узнал, что просо – это «крупяной злак, из которого получают пшено».
…Боря пробовал потом произносить ту фразу в присутствии разных других людей, но ничего похожего больше не происходило. И у него не осталось никаких сомнений в том, что Фея – это фея.
А вот что он влюблен, Боря осознал не сразу.
Сначала при виде Феи он просто чувствовал, как учащается пульс, а значит, сильнее бьется сердце. Он не придал этому особого значения, только стал чуть больше принимать витаминов и бегать трусцой вдоль трамвайных путей. Однако потом он заметил, что сильное сердцебиение начинается у него не только тогда, когда он видит Фею, но и когда думает о ней. Думать о Фее было приятно, и Боря всего лишь прибавил к витаминам и бегу контрастный душ. Но, наверное, зря. Потому что теперь при мысли о Фее у Бори туманились глаза, а пульс делался бешеным. Он щелкал Борю в виски и толкал в затылок, он дрожал за ушами и стучал под коленкой, а также мог отзываться в кончике носа, на что, с медицинской точки зрения, никакого права не имел.
Встревожившись, Боря пошел в поликлинику к врачу-терапевту. Она отправила его к кардиологу, кардиолог – к невропатологу, невропатолог – на анализ крови. Сдав анализ, Боря снова оказался у врача-терапевта, которая хотела было послать его еще к хирургу, но передумала и поставила диагноз.
– Влюбленность 1-й степени, – сказала она недовольным голосом.
Боря помолчал. Потом спросил:
– А степень откуда?
– 1-я степень самая тяжелая. Запустили вы свое здоровье.
– Так и что ж мне делать? – спросил Боря.
– А это уж вы теперь к ней обращайтесь, к Даме Сердца. К нам надо было раньше приходить. А вы запустили.
– Но я жить-то буду? – испугался Боря.
– Да будете! – отмахнулась врачиха.
Изумленный своим диагнозом, слегка обиженный на отмахнувшуюся от него медицину, Боря ушел из поликлиники, считая по дороге пульс. «Ничего, – уговаривал он себя, – через это прошли все знаменитости. Значит, это хороший признак».
О феях Боря мечтал всегда. В дошкольном возрасте они представлялись ему чем-то вроде крохотных трамвайчиков. Потом он долго верил, что они живут в морковной ботве. А когда Боря вырос и понял, что они существуют в человеческом облике, оказалось, что феи стали ему просто необходимы. Потому что, хоть он и научился улыбаться, остальные способы, при помощи которых принято выражать хорошее отношение к другому человеку, пока давались ему с трудом.
Если надо было погладить кого-нибудь по голове, Борина рука сама собой начинала изгибаться, как ветка плюща, и уползала в карман. Ласковые слова никак не хотели выговариваться, смущенно пятились, забивались в нос, а вместо них вырывались наружу самому Боре не понятные фразы то на вымершем кельтском языке, то на старофранцузском, то на редком языке суахили, принятом исключительно в Африке. И, конечно, в этой тяжелой ситуации Боря не мог объясняться в любви вслух.
Правда, он умел молчать. Слово «умел» следовало бы написать с заглавной буквы: Умел. Просто молчать более-менее умеют все. Но Боря относился к этому вдумчиво. Он все время думал: можно ли выразить таким образом глубину лужи или звон в ушах. Или: чем отличается молчание человека, жующего сыр, от молчания поедающего мороженое. Как промолчать какое-нибудь имя, скажем, Публий Овидий Назон или Сёрен Кьеркегор? Так, думая и тренируясь, он постепенно развил свое молчание до объема еще одного иностранного языка.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.