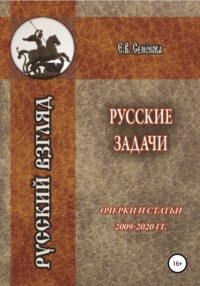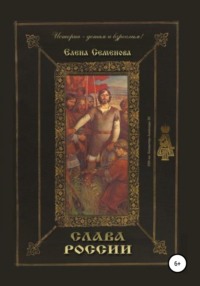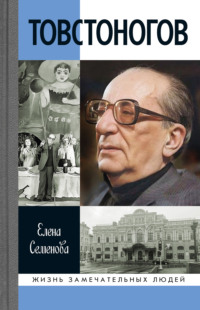Полная версия
Претерпевшие до конца. Том 2
В его-то вотчину и направил свои стопы Надёжин. Сорокину нужен был фельдшер для медпункта, и он с радостью принял на эту должность Марочку. Алексею Васильевичу с его судимостью и открытым исповеданием веры о педагогической деятельности, конечно, можно было не вспоминать. Да и не хотелось, учитывая кошмарное содержание школьного курса – волосы дыбом становились, когда узнавал, чему обучали его собственных детей… Должность при совхозе Надёжину всё же нашлась. Аккурат в ту пору замёрз по пьяному делу местный почтальон, развозивший газеты и письма на многие-многие вёрсты вокруг.
Так и зажили в «Светлом пути» в выделенной маленькой избёнке: дети учились, Марочка, сперва принятая людьми насторожённо, но вскоре расположившая их к себе своим неиссякаемым участием и умелостью, врачевала тела и души, а Алексей Васильевич целыми днями ходил и ездил по окрестным весям. Молиться можно теперь было лишь дома, таясь. Только на крещенской неделе Марочка, отговорившись срочным делом в Перми, съездила в вятское село Люмпанур к отцу Василию Попову, одному из последних «викторианских» пастырей, остававшихся на свободе.
Угнетала Алексея Васильевича тревога о судьбе детей. Какое будущее у них? Дети лишенца, не состоящие в пионерах, верующие (сколько раз из-за обид, чинимых ей за это, плакала Маруся!)… Маруся уже в возраст вошла, семь классов дозволенных окончила, а куда дальше, спрашивается? По слёзным просьбам её и скрепя сердце, отпустил в Москву. Там Аглая обещала похлопотать, не дать девочке пропасть. Маруся мечтала стать врачом, и Аглая представила её своему соседу доктору Григорьеву. Тот для начала определил её заниматься обработкой медицинских карт и составлением на их основе статистических таблиц, что дало небольшой, но твёрдый оклад. В перспективе доктор обещал устроить девочку сперва на курсы, а там, если удастся, и в институт.
Оставался ещё Саня, самый младший, самый болезненный и самый любимый. В отличие от Маруси он мечтал заниматься наукой, путешествовать. Более всего влекла его геология, и по этой стезе он надеялся пойти. Ближе к лету Саня решил вслед за сестрой ехать в Москву – искать себе применение. Но Надёжин знал точно: не только в поисках своего пути, работы рвётся туда сын. Ни работа, ни место никогда не притягивают человека так, как другой человек. И в Москве такой человек жил. Аня… Будучи старше, Саня относился к ней с особой заботой, был для неё защитником и опорой. И, видимо, роль верного рыцаря особенно воодушевляла хрупкого мальчика. С тринадцати лет он писал ей длинные письма, посылал подарки, сделанные собственноручно, а, когда она приезжала, не отходил от неё ни на шаг, выполнял любое её пожелание. Надёжин настороженно относился к такому благоговению. Он ясно видел, что девочка пока не способна понять и оценить питаемых к ней чувств. И более того, привыкая к повышенному вниманию и услужливости Сани, начинает принимать её, как должное. Аня видела в нём старшего брата, доброго и отзывчивого друга, которому можно всё рассказать, обо всём попросить, и при этом не быть ничего должной самой, не церемониться. Такие односторонние отношения редко ведут ко благу, и Алексей Васильевич опасался, что сыну суждено будет испытать горькое и болезненное разочарование.
Метель стала постепенно стихать, и Надёжин придержал лошадь, давая отдых себе и ей и стараясь сориентироваться в пространстве.
– Чего ты, Васильич, башкой вертишь? – пробасил из поднятого до ушей ворота тулупа Пантелей, с которым случилось им возвращаться в совхоз вместе. – Не боись, не сбились. Вишь, рельсы на месте – стало быть, верным курсом идём, – он соскочил в снег, подошёл к лошади, покачал головой: – Кобылу-то запалили мы с тобой совсем. Чего доброго околеет – с нас с тобой голову сымут, что имущество не бережём.
– В соседнем совхозе в прошлом году половина коров издохло, что-то ни с кого не то что головы, но и порток не сняли, – заметил Алексей Васильевич.
– Так там Голованов председателя райкома самолично парит, свинину ему пудами шлёт. Проверяющих тоже не забижает…
– А ты забижаешь?
– А я стараюсь, чтоб им, стервям, придраться не к чему было. Мы в нашем совхозе, конечно, салом не обрастаем, но и не побираемся, как некоторые. Мне, между прочим, ни копейки дотаций государство не давало ещё! Я, может, на всю губернию такой один! – гордо сказал Пантелей.
– Ну да… Только Митька Голованов тот год орден в Москве получал, а ты нагоняй по шее…
– Ладно, – нахмурился Сорокин, – знаю я твою политграмоту. Не люба тебе наша власть! Так прямо и сквозит в тебе это! Я тебя сразу раскусил!
– Не отрицаю, не люба. Только что ж ты не погнал нас, если раскусил?
– А тогда мне кажинного второго придётся за шкирку хватать и гнать.
– Так и делается.
– Хреново делается, Васильич. Хреново. Я всю гражданскую с беляками воевал, своей кровью эту власть устанавливал. Поэтому мне её несуразицы нож острый, понимаешь? Словно бы я за них ответчик… Я не спрашиваю тебя, каких ты убеждений. Сам догадаться могу. Году в восемнадцатом, встреться мы в чистом поле, я б, должно, изрубил тебя. А сейчас взял, потому что вижу: ты человек честный. А я за последнее время столько своих гнид насмотрелся, что чужую порядочность ценить стал. Самому противно бывает, – Пантелей помолчал. – Ладно, слазь, что ль. Дальше пешком пойдём, кобыле роздых нужен.
Надёжин тяжело пошёл рядом с лошадью, проваливаясь по колено в снег. Внезапно он заметил впереди странное движение: навстречу, прямо вдоль железнодорожного полотна, шли друг за другом измученные, оборванные люди. Мужчины и женщины, старики и дети, они едва переставляли ноги. Кто-то падал на землю, полз, поднимался и шёл опять, вновь падал. Слышался надсадный кашель, женский похожий на протяжный вой плач, детские всхлипы…
Какой-то старик в обмотках на обмороженных ногах хрипло закашлялся, упал, харкая кровью, в снег. Подошедший конвойный со злобой пнул его в костлявую спину:
– А, ну, шагай, кулацкое отродье!
Старик заплакал, заслоняясь от ударов:
– Какой я тебе кулак? Я булки всю жизнь пёк, людей кормил… За что?!…
Этим пронзительным «за что» словно пронизана была вся атмосфера вокруг. Казалось, вся земля должна не выдержать и взорваться от него, скрыв в провале и палачей и жертв. Но нет, также бел и безмятежен был снег, также равнодушно небо.
– Не могу я дольше идти! Лучше здесь пристрели!
Сердце оборвалось: неужто застрелят? Надёжин покосился на Сорокина, и тот быстро схватил его за плечо:
– Только высунуться не вздумай. Им не поможешь, а нас погубишь безвозвратно.
Смотреть, как истязают невинного – подлость. Но вмешаться без надежды на успех и тем обречь других – что есть это? В подлой системе, как ни повернись, то всё одно, хоть на крупицу, но окажешься причастным подлости…
– А ну, тащите его! – велел конвоир двум дюжим мужикам, и те покорно подняли старика и понесли его.
А позади уже слышался надрывающий душу вой: что-то растрёпанное и страшное пласталось, точно в припадке падучей, по снегу. А рядом недвижимо лежало другое – маленькое, проходя мимо которого люди замедляли шаг и крестились.
– Пошла! Пошла! – грубый окрик, и обезумевшая баба кидается к конвоиру, хрипит отчаянно, норовя схватить его за руки:
– Похоронить! Похоронить дайте! По-хо-ро-нить… дитё!..
– Времени нет твоего кулацкого выродка хоронить! Пусть его звери жрут!
– Будь ты проклят! Будь ты проклят! – страшно кричит баба, вздымая руки. – И дети твои, и внуки! Чтобы вы сдохли все!…
Надёжин в ужасе наблюдал за происходящим. Сколько, сколько проклятий таких ежедневно, ежечасно слетает с уст, извергается из самых недр истерзанных сердец. В тюрьмах и лагерях, в расстрельных подвалах и соловецких пыточных, на пересылках, в забитых до предела эшелонах, в воронках, на этапах, в колхозах и ссылках, на «великих стройках» и несть числа, где ещё. Вопль целого народа, страны целой к небу – проклинающий! И таким-то проклятиям не оставить следа? Год за годом переполнят они атмосферу, пронижут духовную ткань, в которой придётся жить далёким потомкам. На проклятой земле, вопиющей об отмщении, проклятые сами, как потомки, как невольные соучастники, как забывшие и предавшие, как оправдавшие преступление и принявшие печать лжи… Страшно жить в атмосфере проклятия! И каким же светоносным силам надо будет включиться, чтобы изгладить его!..
Ползла и ползла чёрная вереница растерзанных людей с почерневшими, полными муки лицами по белому снегу. Недавно у них были дома, была земля, была жизнь. А теперь их вырвали с корнем и обрекли медленной и мучительной смерти. За что? За что? За что?
– Это раскулаченные, – шёпотом сказал Пантелей. – Их высадили с поезда на ближайшей станции.
– Это же сто километров!
– Ровно.
– И куда их теперь?
– На лесозаготовки. Приведут в лес, выбросят их пожитки на снег, под деревьями. Чтобы не замерзнуть, эти люди должны будут сразу же развести костры, нарубить деревьев и построить какой-нибудь барак для себя: жилья для них никто не приготовил… Потом они целыми днями будут работать на лесозаготовках, а ночевать – в этих самодельных бараках. Последнее время такие группы прибывают к нам в ссылку постоянно.
– А в нашей области что же?
– Наших кулаков ссылают подальше, на Дальний Восток…
– А знаешь, Гаврилыч, за всю свою жизнь я не испытывал такого невыносимого желания убить, как сейчас…
– Это гада-то, что дитё схоронить не дал?
– Убить… – повторил Надёжин, едва разжимая губы. – Такие не должны, не имеют права по земле ходить… – он зачерпнул рукой снег и протёр лицо.
Колонна раскулаченных прошла. Алексей Васильевич посмотрел ей вслед:
– Ты знаешь, куда точно их отправляют?
– Как не знать? Знаю. А тебе что? Уймись, Васильич. Мы им помочь не можем.
– Среди них дети, больные, старики!
– На все рты харчей не напасёшься! У меня они к тому же все, сам знаешь, на учёте. Если что, самого сошлют. На Дальний Восток.
– Я не могу так… – Надёжин покачал головой. – Надо поговорить с Марочкой. Может, хоть чем-то, хоть кому-то мы сможем помочь… – его взгляд упал на заметаемый снегом маленький кулёк. – А ребёнка надо похоронить, Пантелей.
– Делай, как знаешь, – Сорокин передёрнул плечами. – Только меня не путай. И так, того гляди, в какие-нибудь правые уклонисты запишут…
– Ладно, Пантелей, поезжай. А я дойду сам…
Сорокин уехал, а Алексей Васильевич склонился над посиневшим, обтянутым кожей крохотным скелетом, завёрнутым в тряпьё. Когда-то лучшие умы спорили о слезинке ребёнка… Теперь на костях и муках миллионов детей избивающие младенцев ироды обещали построить рай для всего человечества. И ничто не содрогается: ни земля, попираемая убийцами и орошаемая слезами жертв, ни небо, к которому устремляются молитвы и проклятья, ни столь чуткие к несправедливости «гуманисты»…
Вспомнилось, как радовались многие, когда Сталин разделался с кликой Троцкого и объявил негодным его проект устройства деревни. Тот проект, оглашённый автором на IX съезде партии, предполагал мобилизацию крестьян в трудовые армии, превращение их в «солдат труда», с наказанием за ослушание – вплоть до «заключения в концентрационные лагеря». Но отсёк Сталин: не станем, дескать, возвращаться к пагубной практике военного коммунизма и продразвёрсток и будем не по лекалам Льва Давидовича деревню преобразовывать, а как требует разум. Сказал «великий вождь» и тотчас кликнул для разработки «разумных» преобразований – кого ж? А никого иного, как ближайшего подручного Троцкого, тот самый напоказ отвергнутый проект с ним и готовившего – товарища Эпштейна, замаскировавшегося под Яковлева.
Яков Аркадьевич, совмещая посты наркомзема, заведующего сельхозотделом ЦК и председателя комиссии по переустройству деревни взялся за дело с неукротимой энергией. Взялся, разумеется, не один, а совместно с другими товарищами: своим замом по наркомату Фейгиным, членами комиссии Вольфом и Рошалем, председателем Колхозцентра Беленьким, председателем Комитета заготовок Клейнером, руководителями внутренней торговли и «Экспортхлеба» Вейцером и Кисиным, председателем рабоче-крестьянской инспекции Розитом и другими «специалистами» в области сельского хозяйства…
Свой план «переустройства» представили они аккурат накануне нового года. Суть его сводилось к скорейшему переселению семей «кулаков» в отдаленные районы Севера и Сибири РСФСР. По этому проекту с 1930 года предназначались для выселения из мест прежнего проживания – без малого два с половиной миллиона душ. И не абы каких душ, а самых крепких и работящих русских мужиков с жёнами и детьми. Без лишних прикрас разнарядку по проценту выселяемых на республики состряпали: доля РСФСР – 79%; доля Украины – 17%; доля Белоруссии – 4%… Так, с дьявольской дотошностью выношен был проект уничтожения русского мира, ядра русского народа, невосстановимого вперёд на века. И месяц спустя одобрил его «великий вождь», повелев «уничтожить кулака, как класса».
Ещё до официального объявления о сплошной коллективизации газеты возопили в один голос против «кулаков»: подлейшие «Известия» и не менее гнусный кольцовский «Огонёк», лживая насквозь «Правда» и рупор Эпштейна крицмановский «На аграрном фронте»…
И начались в деревнях очередные страхи и ужасы, очень похожие на те, что описал когда-то большевистский рифмоплёт Багрицкий:
По оврагам и по скатам
Коган волком рыщет,
Залезает носом в хаты,
Которые чище.
Глянет вправо, глянет влево,
Засопит сердито:
Выгребайте из канавы
Спрятанное жито!..
Рыскали! Ещё как рыскали! Наркомземовские уполномоченные, алчная деревенская беднота, двадцатипятитысячники и… ОГПУ. Без ведомства Менжинского и Ягоды невозможно было проводить «сплошную». Именно карательные органы обеспечивали её, не допуская или подавляя в зачатке всякое сопротивление. Генриху Ягоде принадлежала жуткая директива от второго февраля 1930 года об аресте шестидесяти тысяч кулаков. Рапорты об ее исполнении ложились ему на стол ежедневно. Уже через две недели директива эта была исполнена…
Веками крестьянство было становым хребтом русского народа. А основой самого крестьянства были большие, крепкие семьи, состоявшие из трёх поколений. Врастая в родную землю, живя и трудясь на ней век за веком, они обеспечивали ровное и нерушимое развитие русского народа. И, вот, страшной зимой Тридцатого года решено было покончить с ними.
Долгих разбирательств не устраивали. Если не было в селе никого, кого хоть каким-то образом можно было отнести к «кулакам», брали самого зажиточного мужика, вышвыривали в снег со всей фамилией, запечатывали дом… Тут же делили вещи из его сундуков, уводили перепуганную скотину. И напрасно плакали дети, напрасно выли, моля о пощаде бабы, напрасно хватались за вилы отдельные мужики. Если кто и жалел их, то не смел этой жалости выказать, чтобы не записали в «подкулачники».
А дальше тянулись из деревень скорбные подводы, которые какому Сурикову суждено написать однажды? Подводы с людьми, у которых отняли всё, чьих детей обрекли на голодную и холодную смерть, раздавленными и оклеветанными… И ещё же находились такие, что шипели вслед, только что напялив на себя украденное из сундуков барахло: «Кулацкое отродье!»
Кое-кому везло быть сосланными в соседние районы и области – не указал «вождь», куда именно ссылать. Других сутками, неделями везли в холодных вагонах, в которых оставались навсегда многие старики и дети, а затем, не дав схоронить умерших, гнали по снегу к месту ссылки… Кто-то попадал в спецпоселения, на лесоповал. Кто-то мыкался, ища пропитания, по северным городам, запруживая улицы Архангельска, Котласа и других. Потерянные люди без завтрашнего дня, отверженные всеми, они зачастую просто теряли способность к борьбе за жизнь и, потеряв её, умирали, оставались лежать посреди дорог, не оплаканные, так как у их близких больше не было слёз.
А с высоких трибун гремели о достижениях колхозов, о происках вредителей и «кулаков», славили «ударников» и призывали, и зазывали. И словно издеваясь, рассуждал «великий вождь» о прежнем рабском положении крестьянки. Крестьянка, утверждал Иосиф Виссарионович, всегда была рабыней мужа, и лишь колхоз даёт ей свободу. Отныне станет она сама себе хозяйка и будет работать только на себя!
Крестьянство, хранящее в себе вековые традиции и уклад, всегда было бельмом на глазу «прогрессистов». «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса причислял крестьян к самым реакционным слоям мелких собственников, которые хотят повернуть колесо истории назад. И не кто-нибудь, а самолично Энгельс именовал сельских жителей не иначе как «варварской расой». А ещё раньше французские якобинцы аттестовали крестьян, как «свинский сброд, отвратительных диких животных, подлежащих истреблению». Именно крестьянство, «кондовое» и «неразвитое», отвергло некогда якобинские бесчинства, восстав против них в Вандее и других областях Франции. Надругательство над церковью и её служителями, убийство короля, разрушение традиционного уклада жизни – всё это заставило крестьян сражаться бок о бок с дворянами против новой власти.
История вандейского восстания стала одной из самых трагических и в то же время прекрасных страниц французской истории, благодаря высоте и чистоте подвига вандейцев. Уничтожаемые без жалости, они сумели сохранять в своих сердцах христианское милосердие и благородство. Так, умирающий генерал де Боншан повелел отпустить пять тысяч пленных, прошептав: «Ведь они тоже французы…»
Так мог поступить благородный человек, дворянин, настоящий патриот Франции. Но никогда – якобинец. Слова якобинца были иными: «Вандея больше не существует …я похоронил её в лесах и болотах Саване… По вашему приказу я давил их детей копытами лошадей; я резал их женщин, чтобы они больше не могли родить бандитов. Меня нельзя упрекнуть в том, что я взял хоть одного пленного. Я истребил их всех. Дороги усыпаны трупами. Под Саване бандиты подходили без остановки, сдаваясь, а мы их без остановки расстреливали… Милосердие – не революционное чувство…» – так докладывал Конвенту приближённый к Дантону генерал Вестерман.
Его некогда тихий, благословенный уголок сельской Франции запомнил надолго, равно как и генерала Тюрро с его адскими колоннами, истреблявшими на своем пути дома, селения, леса, насиловавшими женщин и детей, без счёта расстреливавшими пленных. «Вандея должна стать национальным кладбищем», – говорил Тюрро и уже не войну вёл, но просто мстил непокорным деревням, обращая их в огромные братские могилы. Десятки тысяч крестьян были расстреляны, гильотинированы, сожжены заживо, заморены голодом, утоплены в баржах, которые Тюрро придумал использовать, как устройство для многоразовых массовых казней… Гимн кровавой Республики отбивали на барабанах обтянутых человеческой кожей, из которой не брезговали делать и иные вещи, в том числе – предметы одежды.
В России у Вестермана и Тюрро нашлись достойные последователи. С такой же яростью несколько лет назад вчерашний подпоручик Тухачевский поголовно уничтожал крестьян Тамбовской губернии, поднявших восстание против большевиков. По его плану в губернии был введён режим оккупации. Семьи повстанцев лишались имущества и заключались во временные концентрационные лагеря. Число заключённых исчислялось десятками тысяч. В случае, если повстанец не сдавался в течение двух недель, его семья депортировалась в отдалённые северные области. Позже к этому добавилась практика массовых расстрелов заложников и, наконец, впервые в мировой истории – применение ядовитых газов против населения собственной страны. Подавлением Тамбовского восстания руководили кроме Тухачевского многие видные большевистские военачальники – Уборевич, Ульрих, Котовский…
Имея перед глазами столь яркий пример, как история революции французской, ничуть не усомнился товарищ Горький отнести жестокость революции российской исключительно на счёт «природной жестокости русского народа». Русского мужика Алексей Максимович ненавидел яростно. Эта ненависть так и сочилась со страниц его произведений, большинство из которых не имело ни малейшего отношения к литературе, а являлось лишь бездарными политическими памфлетами.
Когда-то юный босяк-агитатор Алёша Пешков с молодым задором ринулся в деревню и стал нахраписто пропагандировать мужикам революцию. Мужики, известное дело, таких сопливых «учителей» видали, а потому ограничились тем, что вполне по-отечески отходили Алёшу по мягким и не очень частям тела, дабы выбить дурь и наперёд отучить заниматься ересью. Алёша был столь оскорблён сим досадным обстоятельством в начале своей политической карьеры, что затаил на мужика великий зуб. С той поры он приписывал крестьянству все возможные и невозможные грехи и в годы гражданской войны сетовал лишь об одном: что большевики приносят «героическую рать рабочих и всю искренне революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству».
Патологическую ненависть Пешков питал, впрочем, отнюдь не только к крестьянству, но и к русскому народу в целом. В его помрачённом взгляде вся русская жизнь виделась одной сплошной «свинцовой мерзостью», а причина всех бед заключалась, согласно «буревестнику» во врожденной порочности самой России и русского человека. Чего только ни приписал Алексей Максимович русскому народу! И что русская душа по самой природе своей «труслива» и «болезненно зла», и что русскому народу присуща «садистическая жестокость», тонкая и дьявольски изощрённая, воспитанная «чтением житий святых великомучеников»… «Кто более жесток: белые или красные? – патетически задавался вопросом великий «гуманист» и ответствовал: – Вероятно – одинаково, ведь и те и другие – русские»… Замечание относительно происхождения авторов террора вызвали у Пешкова яростный протест: «Когда в «зверствах» обвиняют вождей революции – группу наиболее активной интеллигенции – я рассматриваю эти обвинении как ложь и клевету, неизбежные в борьбе политических партий…» К таковым Алексей Максимович относил тех, «кто взял на себя каторжную, Геркулесову работу очистки Авгиевых конюшен русской жизни», их «великий пролетарский писатель» не мог считать «мучителями народа», но «скорее жертвами» его.
Этот человек большую часть жизни прожил за границей. При Царе, живя в роскоши на Капри, он щедро финансировал как идейную сторону революции в виде большевистских газет, так и практическую – в форме террора. При своей власти Пешков отчего-то не пожелал наслаждаться её благами, а вновь поселился в Италии, откуда строчил и строчил в советские газеты мерзкие статьи. Не было русской беды, к которой не приложил бы Алексей Максимович своего пера. Не было жертвы, которую он ни подтолкнул бы навстречу палачу. Не было преступления, которое ни поддержал бы он и ни воспел.
Самым удачным портретом русского Пешков считал Фёдора Павловича Карамазова. Участь ненавистного народа великий «гуманист» видел в одном: «… как евреи, выведенные Моисеем из рабства Египетского, вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень – все те, почти страшные люди, о которых говорилось выше, и место их займет новое племя – грамотных, разумных, бодрых людей».
Эта пешковско-смердяковская риторика, в сущности, составляла существо правящей идеологии, изливавшейся на всяком съезде. Ещё приснопамятный Владимир Ильич брезгливо каркал о «великорусской швали», прямо провозглашая: «…При таких условиях очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы оправдываем себя, окажется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке…». «Каленым железом прижечь всюду, где есть хотя бы намек на великодержавный шовинизм…» – призывал следом петроградский палач, убийца Гумилёва Григорий Зиновьев. Не отставал и балансирующий теперь на грани опалы «либеральный» Бухарин: «Мы, в качестве бывшей великодержавной нации должны поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям».
На таких идеологических императивах с первых месяцев утверждения большевистской власти строилась коммунистическая национальная политика… Съезд же десятый ярче всего отразил её суть. Делегаты были обеспокоены судьбой окраин, страждущих под гнётом «великорусской швали» малых народов. Сменяли друг друга ораторы, обличая «русского кулака», захватывающего земли и выгодные экономические позиции в Туркестане, на Северном Кавказе, в Закавказье, в Башкирии, в Киргизстане, что якобы приводит к культурной отсталости и вымиранию кочевников. Клеймили беспощадно царское правительство, отдавшее лучшие земли на Кавказе и в Средней Азии казачьему и русскому переселенческому кулачеству, сотни тысяч которого «создали живую силу империализма». Первейшей задачей революции объявлялась «последовательная ликвидация всех остатков национального неравенства, восстановление трудовых прав на землю коренного населения за счет колонизаторского кулачества, всемерная помощь кочевникам для перехода их в оседлое состояние».