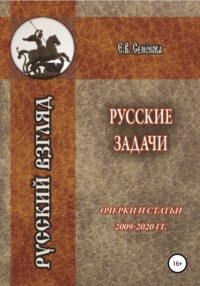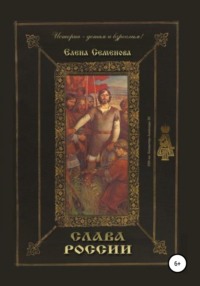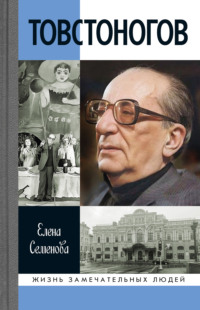Полная версия
Претерпевшие до конца. Том 2
Всё это вскоре вывело власть из терпения, и всякие внепартийные организации были распущены и запрещены. Для выборов была принята новая система: выборы во всех организациях стали проводить не в индивидуальном порядке, а только по спискам. На каждом съезде, в каждой организации выдвигался от имени фракции и партийного комитета список и предлагалось: «проявить доверие к партии и голосовать единодушно». Несогласные могли предложить на голосование другой список, за подписью не менее десяти делегатов этого съезда. Но на собрании составить таковой было некогда, а при составлении его заранее, можно было схлопотать обвинение в проведении воспрещенных «совещаний беспартийных», а как следствие – в организации антисоветской партии и «контрреволюционного заговора» против советской власти. Вскоре в отношении не в меру критичных участников совещаний прошла волна репрессий. После этого стало ясно, что во избежание беды лучше держать язык за зубами… Такая роль, однако, могла удовлетворить безруких нищебродов и лодырей, но никак не опытных, крепких хозяев. Так и загасли собрания. Перестали ходить на них мужики, не желая быть мебелью, безмолвно слушающей глупую трескотню.
Среди наиболее активных ораторов на приказавших долго жить совещаниях был мельник Андриан Клюев. «Ума палата, а язык, что твоя бритва», – уважительно говорили о нём мужики. И учёному человеку дал бы фору Андриан, а уж о партийных неучах – что говорить? Как семечки щёлкал он пустозвонов этих: они – речь пламенную в три дюжины словес, а он в ответ – два словечка всего, но таких, что все речи перекрывали, уничтожая ораторов. Раз говорили на собрании о совхозах, и зашла речь о неутешительном положении совхоза соседнего. Партийцы защищали провалившего опыт директора, хотя и бранили его за допущенные ошибки, мужики, распалившись, заспорили. А Андриан рассудил, усмехаясь краешком губ и приятно окая:
– От, распекают тут товарища Кутилина. От, Михей Иванович даже дураком его наградил. А я хочу за Кутилина заступиться… – повисала пауза, словно задумался оратор. – Он из города каков приехал? В латаных портках да тужурке с чужого плеча. А теперь пальто у него кожаное да сапог не одна пара. А у бабы его тряпья, что у твоей курицы перьев. А ещё ж кругом него братья сватьев да сватья братьев, и все тоже не голодующие, и все на жаловании. Никто никогда не видал их за работой, но при этом все они сыты, обуты и одеты. Ведь это же чудо, как удалось товарищу Кутилину, едва став начальником, так благоустроить столько душ разом! Какой же он дурак после этого? Наоборот, это очень умный человек! Ну, а что совхоз при этом изнищал вконец, так чем же виноват Кутилин? Есть ведь другие очень умные люди, что Кутилиных командирствовать ставят, чтобы они социализьм строили. Так, вот, медаль Кутилину дать надо. Он этот самый социализьм построил! Пока, правда, лишь для себя и дюжины людей, но, может, он и остальных к тому подтянет? Пущай государство подмогнёт!
Засмеялись мужики одобрительно, а партийцы нахмурились. Боялись они Андрианова языка! На собраниях сидел он неприметно, не выделяясь ничем, пока говорили другие – ладонью голову подопрёт и точно дремлет. Но вдруг приоткроет глаз, усмехнётся да отвесит что-нибудь – спокойно, не повышая голос, а припечатывая словом. А уж если свою речь говорить начинал, то любо-дорого послушать! И ведь говорил-то, не шумя, не жестикулируя, а неспешно, попросту, будто бы даже шутейно и не всерьёз, будто бы сам удивляясь и недоумевая, а под видимостью этой самые серьёзные и важные вещи выговаривались. Не обличал Андриан впрямую, но так язвил и выворачивал всю глупость сверху насаждаемую, что немало потов сходило с тех, кому приводилось с ним схлестнуться.
Не раз замечали Андриану, что за столь смелые речи горько поплатиться можно. Но долговязый мельник лишь посмеивался в ответ, вскидывая острый, чисто выбритый подбородок:
– Волков бояться – в лес не ходить.
Причина такой смелости коренилась отчасти в том, что жил он один, как перст, схоронив и жену, и сына. Правда, был у Андриана брат Филипп, немногословный, лишённый какой-либо желчи, невысокий, коренастый мужик, избегавший всяких собраний и всецело поглощённый хозяйственными и семейными хлопотами. Семья Филиппа насчитывала дюжину душ: старики-родители, жена и девять детей. В самом начале НЭПа он перебрался в посёлок и зажил там свободным хуторянином.
Вместе со старшими сыновьями Филипп отстроил большой дом в пять комнат, разбил фруктовый сад, в котором насадил редкие виды яблонь и груш, а также вишни со сливами. На другом конце усадьбы устроил он пасеку, о которой мечтал с давних пор. Не враз устроилось Филиппово хозяйство, понадобилось несколько лет, чтобы обжиться на новом месте. Зато как обжился! И радовался Игнат плодам труда человеческого, но и не позавидовать не мог. Мечталось и ему зажить также: в новом, крепком доме, утопающем в садовых кущах, своим хозяйством…
Нежданно судьба преподнесла подарок: полюбилась Филиппову сыну Борису Любаша. Ей о ту пору семнадцатый годок шёл – не девица, а яблочко наливное. Не чаял Игнат души в своей любимице, и не хотелось так рано отпускать её в чужую семью, но в семью Филиппа – дело особого рода. К тому и ей справный и хозяйственный Борис по душе пришёлся. Посовещались семейным кругом да на другой год свадьбу сыграли.
А ещё через год родился внук, Игошка. Крестили его Успенским постом, а на Спас отпраздновали в Филипповом доме. Дом этот Филипп до сих пор продолжал любовно украшать, находя в этом особое удовольствие. Глядя на ажурную резьбу наличников и изящное крылечко, на белые занавесочки с геранями на подоконниках, на разбитые под окнами цветники, Игнат невольно вспоминал барский терем в Глинском. Конечно, Филиппову дому далеко до него, но что-то схожее определённо просматривалось.
Сидя на крыльце и прихлёбывая холодный квас, Филипп счастливо вздыхал:
– Сбылась мечта, Матвеич! Веришь, всю жизнь мечтал сам собою жить. Чтобы своя земля, свой дом, просторный, в котором всем бы место нашлось, чтобы сад, пасека… Сад мне даже ночами грезился! Помещик наш, Царствие небесное, яблони с грушами культивировал. Каких только сортов в его саду не было! Слаще мёда… Наши дурни после чуть этот сад не загубили совсем. А я росточки тех деревьев у себя насадил. Пройдёт лет десять – будут их плодами ребятишки мои лакомиться.
Сад слегка зашелестел, тронутый ветром, и несколько яблок со стуком упали на землю. Филипп продолжал, щурясь на клонящееся к западу солнце:
– Даже не верится, что сбылось всё… Что это – мой дом, что всё это – моё… Теперь уже окончательно. Последние долги, что на дом брал, я раздал. Последние узоры вырезал. Теперь только жить остаётся! Ох и заживём теперь! У Андриана мельница, у меня – всё это… Сыновья, вон, мужают один за другим, подопрели в помощь мне. Заживём!
Игнат не отвечал, грызя крупное, сочное яблоко. Ему, как водится, не верилось в безоблачное будущее, о котором грезил подвыпивший сват, но не хотелось огорчать Филиппа своими подозрениями, портить этот безмятежный и ясный праздничный день…
Ещё с весны власти активизировали в деревнях агитацию за колхоз. И чем напористей становилась она, тем неспокойнее делалось на сердце у Игната. На собраниях мужики все инициативы по социализации деревни прокатывали с редким единодушием. Даже из бедняков не все поддерживали их, а уж все, кто мало-мальски был способен к труду и не гол, как сокол, и вовсе тянули в противоположную сторону. Не говоря о посёлках, даже в деревне наладили крестьяне жизнь так, что каждое хозяйство стояло почти наособицу. Свободы и самостоятельности желали мужики, а не мертвящих колхозов, опыт внедрения которых в разных формах полностью провалился.
Но чуял Игнат: не смирятся большевики с поражением, додавят своё. Ильич давно лежал в гробу, а от преемников его чего ждать? Никогда не думалось, что придётся об Ильиче жалеть… Уж на что ненавистен он был Игнату, уж на что проклинаем, а теперь предчувствовал: настанет времечко – и его, сатрапа, придёт добрым словом вспомнить.
В ноябре неждан-негадан примчался из Москвы зять. Допреж ни разу не заносила нелёгкая, а тут в ночь-полночь заявился, один, без Аглашки. С добрыми вестями этак не прискакивают – сразу насторожился Игнат. Услав Катерину спать, сел с гостем разговор разговаривать.
Александр Порфирьевич собирался уезжать ещё затемно, а потому торопился, говорил, не рассусоливая:
– В общем, так. На днях прошёл пленум ЦК. На нём решили взять курс на полную социализацию деревни. Принято постановление о сплошной коллективизации.
– Да что они, твои сукины дети, совсем осатанели там? – прошипел Игнат. – Хотят опять голодный мор по всей стране учинить?
– Это ты не у меня спрашивай, – сухо ответил Замётов. – А лучше подумай, как под раздачу не попасть. Сейчас в Москве Наркомзем создаётся. Заправлять им Яшка Яковлев будет. Этот миндальничать не станет. Надо будет – всех за полярный круг загонит, но социализацию проведёт. Они этот проект ещё с Троцким разрабатывали, но до времени под сукно положили.
– Так вроде Троцкого-то нынче самым лютым ворогом объявили? Хужей белогвардейцев?
– И что ж с того? Троцкий – враг, а дело его живёт и побеждает. Потому как дело у них, Матвеич, одно.
– А у тебя теперь, как я погляжу, другое? – усмехнулся Игнат.
– А мои дела тебя не касаются. Я тебя предупредил по-родственному, а уж ты думай своей седой головой, как выкручиваться. Сколько лошадей у тебя?
– Кобыла с жеребёнком…
– Сдай колхозу. Жеребёнка – как минимум.
– Чтоб они его изувечили и голодом заморили? – вспылил Игнат.
– Чтобы с тобой и твоей фамилией того же не сделали! Я не шутки с тобой шучу, Матвеич. Или, может, ты думаешь, я сюда в ночь к тебе приехал, собственное темечко подставляя, чтоб понапрасну напугать? Я не по докладам пленумов знаю, что грядёт, а изнутри! Поэтому послушай совета и думай о своей и детей своих шкуре, а не о лошадиной или овечьей…
Тяжко было совету такому следовать. И хотя понимал Игнат, что зять прав, а не сразу решился.
Вскоре в деревню приехала комиссия для проведения коллективизации: несколько дюжих рабочих из тех двадцати пяти тысяч, которых на пленуме решили послать для усиления колхозов, и наркомземовский уполномоченный Фрумкин. На очередном собрании, на котором предписано было быть всем, последний снова призвал мужиков вступать в колхоз, суля молочные реки с кисельными берегами. Едва закончил он свой визгливый монолог, как поднялся, чуть покачиваясь взад-вперёд, Андриан:
– Просим покорно простить темноту нашу. Вот вы, товарищ уполномоченный, призвали нас обобществить всё наше имущество. Я человек не жадный и свою корову зараз подарю хоть вот этому молодцу, – кивнул он на одного из рабочих. – Да ведь он не знает, с какого боку у ней вымя. Кончится тем, что или он мою кормилицу до падучей доведёт или уж она на рога его подымет! И в том, и в другом случае – убыток, не знаю, правда, в каком больший.
– Но-но! – подал голос двадцатипятитысячник.
– А ты, сынок, не нокай, не оседлал покамест и не оседлаешь.
– Товарищ Степанов не будет заниматься дойкой коров, – ответ Фрумкин.
– Сняли с души камень, товарищ уполномоченной. А позвольте осведомиться, чем он будет заниматься? Прошлым летом, вон, приезжал к нам один такой. Нашей Марфутки муженёк-морячок. Ерой! По морям-окиянам ходит! Да от только четыре косы, с которыми у нас любая баба сладит, изломал в один день! Оно дело статнее: сила-то есть… Но только опять ведь убыток выходит!
– Товарищ Степанов косить не будет.
– А что ж он будет делать всё-таки? Мошной груши околачивать? – округлил глаза Андриан. – Дак на то у нас своих охотников вдосталь! Вона, целый ТОЗ околачивателей!
– Смотри, Андриян! Договоришься! – зло крикнул председатель преобразуемого в колхоз ТОЗа Демьян Щапов. – На Советскую власть брехать будешь!
– Помилуйте, а я не знал, что ты да Поликушка сотоварищи власть! Вот, товарищ Фрумкин – я вижу, что власть. С одного взгляда вижу – и печати не надо. А в тебе, виноват, не признал! – склонил Андриан худую спину, отвешивая поклон. – Прости уж! Столько начальников стало, что всех не узнаешь!
– Только снохачей нам в начальствах не доставало! Срамотища… – ругнулся кто-то.
– За поклёп на власть под суд пойдёшь! – заорал задетый за живое Демьян. О нём вся деревня знала, что успел он пожить с обеими своими снохами, сынок старшей из которых явно не мог быть Щапову внуком, так как муж слабой до плотских утех бабы в то время служил в Красной армии. Поговаривали, что, чтобы помирить снох и жену, каждой из них он купил на ярмарке по дорогому гостинцу. Демьян в отличие от прочих ТОЗовцев бедняком не был, но наоборот имел приличный достаток. Но из-за своего снохачества оказался среди мужиков изгоем. Ни на каком сходе не давали ему слова, презрительно шпыняя. Ничего не осталось Щапову, как стать первым среди голытьбы, чтобы не быть последним в кругу хозяев…
На другой день пошло вновь прибывшее начальство проводить частные беседы. Заглянули и к Игнату всё тем же составом: чернявый, губошлёпистый Фрумкин, рабочий с пудовыми кулаками да ершистый, нахохлившийся Демьян. Катерина гостей попотчевала на совесть, пожелав им за глаза подавиться её стряпнёй, а Игнат миролюбиво выслушал агитацию, обещав обдумать всё ещё раз самым серьёзным образом.
На другой день он, скрепя сердце, свёл жеребёнка колхозникам. Чувство было такое, словно на скотобойню отвёл резвую, ластящуюся к хозяину животину. Даже слеза прошибла, как поцеловал на прощание в тёплую морду и последний кусочек сахара скормил.
Филипп такого «пожертвования» не понял:
– Где это видано, чтобы своё кровное разным побирушкам раздавать? У меня бы они шиша дождались!
– Так ведь силком возьмут, Мироныч. Или не помнишь, как они начинали?
– Пущай попробуют! Я с ружьём против них выйду!
– Не выйдешь, – отмахнулся Игнат.
– Это отчего ещё?
– Оттого, что детёв у тебя девять душ.
– Да если они против мужиков сызнова пойдут, так не один же я с ружьём окажусь! Мы своё отстоим, не сумлевайся!
– Годку эдак в восемнадцатом и я так думал. И с ружьишком мне по лесам привелось побродить. Только теперь не восемнадцатый, Мироныч. Тогда они ещё нетвёрдо на ногах стояли, а на юге да в Сибири их благородия им холку мылили. А теперь что?
– Да зачем им палку пригибать? Зачем до бунтов и кровопролития доводить? Захотели бы – дожали тогда!
– Тогда не сдюжили. А к тому дали баранам обритым снова шерстью обрасти, чтобы теперь её уже со шкурой вместе снять… Дважды-то остричь – выгоднее! Так что смотри, Мироныч, кабы тебе с твоим острословом-братом на рожон не напороться.
– Чтобы ни было, а добром они от меня ничего не получат! – сказал Филипп, зло блеснув глазами. – Я не для того на мечту свою всю жизнь горбатился, чтобы им её в раззор отдать!
Шли самые чёрные дни в году. В канун Нового года власти окончательно закрыли церковь, запретив проводить в ней службы. Однако, одинокий старик-священник тихоновского толка на Рождество открыл храм и начал службу для тех немногих, в основном, баб, кто осмелился прийти. Окончить её не дали: ворвавшиеся чекисты и красноармейцы выгнали прихожанок вон, избив нескольких из них, и увезли в тюрьму батюшку, старого пономаря и ещё троих прихожан.
А несколько дней спустя, цедя поутру чай с блюдца, Игнат увидел в окно невообразимое: по дороге едва шёл его загнанный жеребец, гружёный какой-то поклажей, поверх которой восседал пропойца Ивашка Агеев, изо всех сил понукавший бедную животину. Этого зрелища уже не могла душа выдержать! Опрометью, не надев ни полушубка, ни валенок, выскочил Игнат на улицу, стащил, матерно ругая, Ивашку с лошади и, опрокинув в снег, расквасил ему опитущую физиономию. После этого он проворно освободил жеребца от поклажи, бросил пытающемуся снегом остановить хлещущую из носа кровь Агееву:
– На себе тащи, паразит! А коня не замай!
Ивашка поднялся и хотел было броситься на Игната, но его перехватил за пояс выбежавший из дому сын Матвейка. Агеев вывернулся, погрозил кулаком:
– Ужо я вам устрою, кулаки проклятые!
Дома завыла-запричитала Катя:
– И куда ж ты, старый, полез? Загубить всех нас решил? Детей бы, детей пожалел, дурачина ты!
– Не мог я видеть, как он моего коня увечит… – хмуро отвечал Игнат, понимая в душе, что жена права.
– А теперь он заявит на тебя! А им только этого и надо!
Игнат только глубоко вздохнул, а Катя засуетилась:
– Сейчас пойду к нему, паразиту, сальца снесу, настоечки своей, ещё чего…
– Не хватало ещё, чтобы ты перед разными Ивашками унижалась!
– А лучше мне вдовой с малолетними сиротами остаться? Молчи уже!
Что уж сказала Катя Ивашке и сколько продуктов снесла для его задабривания, Игнат не спрашивал. Но заявления Агеев подавать не стал, хотя не приходилось сомневаться – в свой час всё припомнит…
В конце января пришло из Москвы письмо от зятя, в котором тот в иносказательных выражениях настоятельно советовал немедленно уезжать из деревни во избежание беды. Игнат уже успел заметить, что Александр Порфирьевич не бросает слова на ветер. И если уж решился подобное письмо прислать, стало быть, дело серьёзное.
Вечером Игнат собрал домочадцев, включая Любашу с мужем, и объявил им о своём решении на время поехать погостить к старшему сыну:
– Месяц-другой поживём, а там уже и ясно станет, куда дальше: возвращаться или новое место искать.
Катерина, хотя и не без слёз, с необходимостью уехать согласилась. Матвей, единственная игнатова опора – также. А, вот, зять отказался наотрез, затвердил, как Филипп:
– Никуда мы из родного дома не поедем. Хозяйство опять же – как бросить? Да и отец не одобрит.
Игнат, стараясь заглушить охватившую его тоску, посмотрел на Любашу. Расцвела девка! Бела да румяна, коса в руку толщиной… По рождении дитяти лишь ещё налилась красотой. Катя в молодые годы хороша была, а Любаша краше! Страшно было оставлять её, а куда денешься? Жену от мужа не оторвёшь… А она утешала:
– Ты не бойся за нас. Ничего с нами не случится! Себя береги и маму! – и обнимала ласково, целовала в морщинистые щёки. И от этих утешений-уверений ещё тяжелее делалось…
Одному рад был Игнат, что все эти тучные годы не вещами обрастал, а берёг копейку – теперь сбережения эти куда как кстати оказались.
Уезжать решили в ночь, чтобы не привлекать лишнего внимания. Дом и всё имущество, какое нельзя было забрать с собой, оставили Наталье Терентьевне, наказав всё, что не понадобится ей самой, отдать треклятому колхозу от греха.
Горько было бедной учительнице оставаться одной. Уже отлетели молодые её годы, а так и не нашла она себе друга по сердцу. И чувствовалось, что не найдёт. Школьную работу Наталья Терентьевна не раз хотела оставить – не поворачивался язык лгать детям. Сетовала бедняжка:
– Учитель должен воспитывать души. Ему ведь верят… Как же я могу детям, мне верящим, лгать, твердя догмы, которые меня обязывают твердить? Одни примут это, как правду, и станут жить, согласно ей. То есть во лжи… И я виновата в этом буду! Другие наоборот не поверят и станут презирать меня за то, что я им лгу. И как же мне им в глаза смотреть?
Наталья Терентьевна любила поэзию. Немало замечательного привелось услышать Игнату на склоне лет из её уст. Именно это, прекрасное, хотела она открывать детям. А ей не давали! Вычеркнули из курса школьной литературы всех поголовно писателей русских, не пощадив и Пушкина. А на их место поставили своих – Демьяшку Бедного и прочих вчерашних пролетариев, которых теперь стали специально учить на писателей и поэтов, словно бы Божиему дару можно было научить. Горько страдала Наталья Терентьевна, вынужденная на уроках знакомить детей с «творчеством» таких новоявленные «мастеров пера», как Лебединский и прочие. Лишь в организованном на добровольных началах кружке находила она отдохновение, освобождаясь от «обязаловки» и, наконец, вводя своих подопечных в мир настоящей русской литературы. Эта инициативность, впрочем, не находила поддержки начальства, и Наталья Терентьевна постоянно боялась, что кружок закроют.
В ночь накануне отъезда Игнат растолкал Матвейку. Оставалось последнее дело, которое, несмотря на опасность, нужно было исполнить. Перед памятной рождественской службой, на которую Игнат, несмотря на тесную дружбу с отцом Алексием, не рискнул пойти, он был у батюшки и обещал в случае его ареста вынести из церкви священные сосуды, не оставив их на осквернение.
В полной темноте, не рассеиваемой даже скрывшимся за тучами месяцем, Игнат с сыном пробрался к церкви и, осторожно отомкнув её, проник внутрь, оставив Матвейку снаружи. Затеплив взятую с собой свечу, он быстро отыскал всё, о чём говорил ему отец Алексий, и, в последний раз перекрестившись на образ Нерукотворного Спаса, поспешил в обратный путь.
Скрывать спасённое в доме или амбаре было категорически нельзя, чтобы не подвести в случае обыска Наталью Терентьевну. Поэтому ещё раньше Игнат вырыл на заднем дворе, под раскидистой черёмухой небольшую из-за неподатливости промёрзшей земли яму, в которой и спрятал деревянный ящик со священными предметами. На всякий случай показал место учительнице:
– Если не свидимся больше, дочка, то гляди сама. Если появится настоящий священник, каким отец Алексий был, отдай всё это ему. А нет, так накажи кому помнить место…
Утром Игнат съездил в райцентр и оттуда отправил телеграмму дочери, чтобы ждала в гости. А ночью, едва погасли в деревне последние огни, тронулись в путь, провожаемые лишь заплаканной Натальей Терентьевной и скулящим Архипкой. Второй раз на старости лет приходилось бросать всё нажитое и начинать жизнь заново. Но больше этого тяготила сердце судьба покидаемой Любушки. Не защитит её Филипп, если нагрянет беда. И он, и сын его, что дубы. В ровную погоду нет деревьев более могучих, чем они. А налетит ураган и вырвет их с корнем… Именно такой ураган шёл на деревню, чтобы уничтожить самые могучие деревья и погнуть, изломать, искалечить все прочие. И от этого сознания больно и страшно становилось Игнату, как ещё не бывало прежде.
Глава 5. В медвежьем углу
Февраль юрил вовсю, так швырял хлопьями колючего снега, так кружил и заворачивал, что становилось тревожно: ну как заплутает измученная каурка в беспутье? Пропадай тогда?.. Хотя и то добро, что с лошадью свезло, не то бы топать на своих двоих в этакой крути, или на лыжах… На счастье железная дорога рядом, ей следуя, удлинялся путь, зато риск заплутать снижался немало.
Как ни привык Надёжин к сельской местности, а то и дело вздыхалось о тихой жизни в Перми, оставленной несколькими месяцами назад. В Двадцать девятом покатились окрест аресты «викториан». Среди первых взяли матушку Феофанию, провозглашённую основательницей «викторианства» в Сивинском районе, и игуменью Усть-Клюкинского монастыря Митрофанию, поддерживавших связь с сосланным на Соловки владыкой Виктором. У близкого к ним отца Филиппа Сычёва при обыске нашли антисоветские стихи:
Все попы наши сдурели,
Стали Бога забывать.
На молитвах захотели
Коммунистов поминать.
…
Батьки с нежностью припали
Под советскую звезду,
Но их власти осмеяли,
Не приняли в ГПУ.
Попы правду потеряли
На свой вечный стыд и срам,
Церковь божию предали
На посмешище бесам…
Следом по делу «контр-революционной организации церковников «ИПЦ»» прошла чреда арестов «викторианского» духовенства. Чистка была столь тщательной, что лишь несколько священников ещё оставались на свободе и поддерживали связь друг с другом через наиболее ревностных и отважных мирян. Большинство арестованных были пастырями сельскими, и нередко одним из пунктов обвинений против них была агитация против колхозов. Обвинение это, по существу, было справедливым. В колхозе батюшки и верные миряне видели очередную сатанинскую уловку для порабощения человеческого духа, для выхолащивания его, для обращения живого человека, наделённого умом и совестью, в бездушный винтик адской машины.
Не миновал чёрный вал и Слудской церкви. Отец Леонид был арестован, а сама церковь закрыта. Алексей Васильевич, бывший одним из ближайших к батюшке людей, ежечасно ожидал ареста. До недавнего времени административно ссыльный, он был как нельзя более подходящей кандидатурой на получение очередного, уже серьёзного срока.
Однако покрыл на сей раз неведомый Ангел-Хранитель, и тяжёлые ворота, однажды выпустившие Надёжина в мир, не поглотили его обратно. Тем не менее, Алексей Васильевич решил, что дальнейшее пребывание в Перми может быть опасно. Нужно было искать новое пристанище…
Окончание срока ссылки давало право вернуться в Москву, но Надёжин понимал, что там он недолго останется на свободе. Необходимо было затеряться в глуши, подальше от центра, от бдительного ока.
Ещё путешествуя по Пермскому краю для встреч с разрозненными «викторианами», Алексей Васильевич остановил своё внимание на совхозе «Светлый путь». Образовавшийся ещё в начале двадцатых, он нешатко-невалко существовал все эти годы, не радуясь изобилию, но и не нищая вконец, как многие другие, что свидетельствовало о добросовестности его начальства. Пантелей Гаврилович Сорокин, председатель совхоза, был мужик вдовый, серьёзный, знающий крестьянское дело. В партии он состоял с семнадцатого года, но партбилет не заменил ему совести, а романтическая вера в идеалы коммунизма не лишили его хозяйского толка. Был Пантелей странным типом смешанного человека: ещё глубоко русского, но в то же время – идейного коммуниста, настоящего, а не приспособленца.